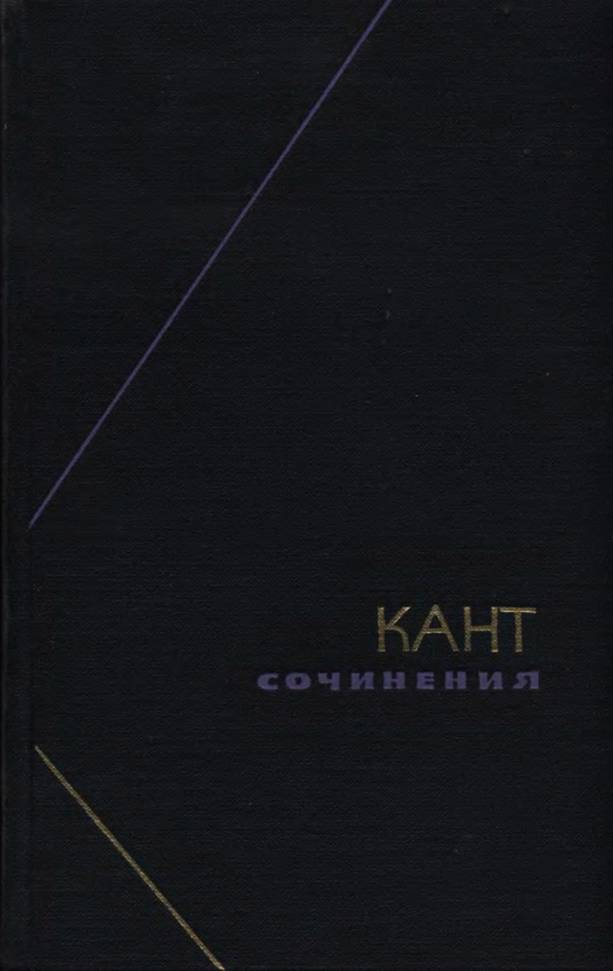

![]()
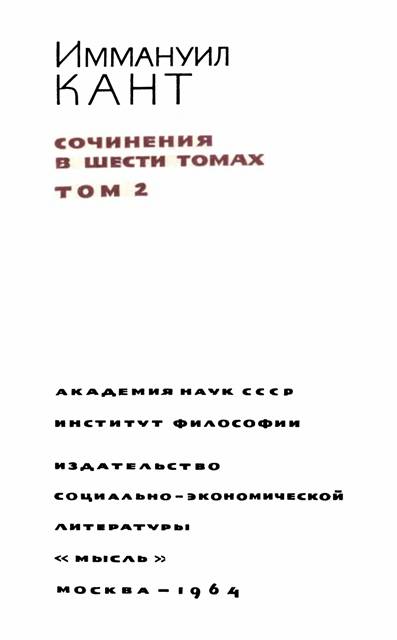
ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
В. Ф. АСМУСА, А. В. ГУЛЫГИ, Т. И.
ОЙЗЕРМАНА
РЕДАКТОР ВТОРОГО ТОМА
А. В. ГУЛЫГА
перевод Б. А. ФОXТA
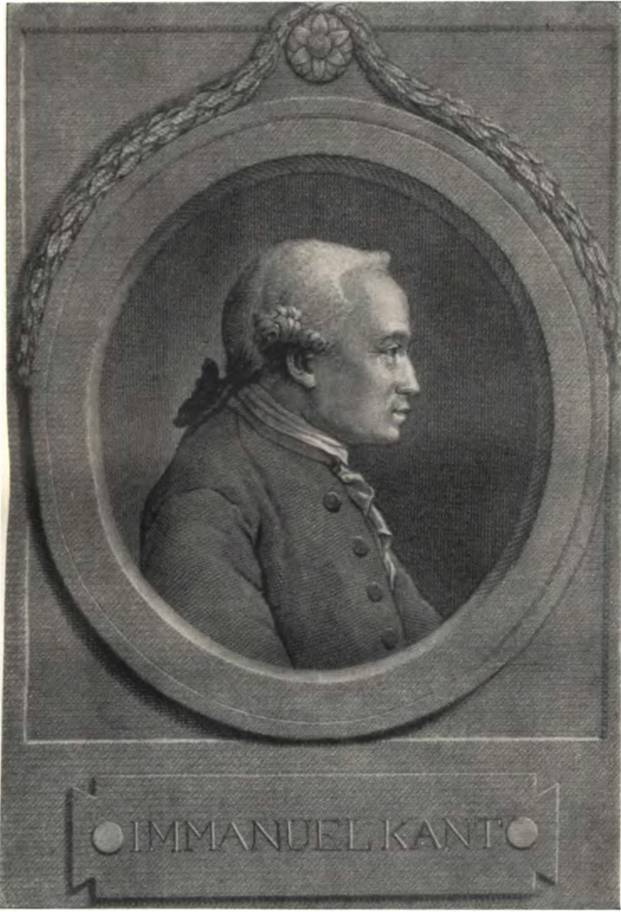
![]()
РАННИЕ РАБОТЫ КАНТА
Буржуазная история философии
обычно считает начальный, так называемый докритический период деятельности
Канта заблуждением еще незрелого, не установившегося в своих взглядах философа.
Между тем позднейшая, сложившаяся в 70-х годах XVIII в. критическая философия Канта есть закономерное
следствие его ранних работ. Именно в них наметилась проблематика
и способ ее рассмотрения, необходимо приведшие Канта к
трансцендентальному идеализму.
Характер этих ранних работ в
значительной степени определяется попыткой Канта перекинуть мост между философией немецкого Просвещения XVII—XVIII вв. («метафизикой» в терминологии Канта) и передовым в то время механистическим естествознанием, развившимся главным образом в Англии и Франции и послужившим базой французского материализма XVIII в. На основе той логики, которая была в распоряжении
Канта, такой мост перекинуть было нельзя, и это необходимым образом привело Канта к априоризму и агностицизму его критической философии.
Кант фактически показал (хотя
и не ставил себе этой задачи), что построение метода познания на базе
формальной логики, которой пользовались в своих теоретических построениях и
метафизика, и механистическое естествознание,
невозможно, что процесс получения нового
знания не может быть теоретически изображен в
5
рамках
этой логики. Попытка Канта связать философию и
естествознание привела к вскрытию им существенных противоречий в метафизике как методе. Это была, если можно так выразиться, самокритика метафизики. Без такой подготовительной работы, проделанной Кантом, была бы невозможна диалектика Гегеля.
Именно естественнонаучные
интересы раннего Канта привели его к глубокому критическому рассмотрению способа мышления, характерного для философии немецкого
Просвещения, представителем которой он сам являлся. Две
основные идеи красной нитью проходят через
бо́льшую часть ранних работ Канта: во-первых, идея связи философии с положительной наукой и
необходимости создания на этом пути рационального метода познания; во-вторых,
идея развития как принцип, который должен быть применен в положительных науках. Условия, в которых жил и работал Кант, не способствовали последовательной теоретической разработке
этих идей.
Метод мышления, сложившийся в
естествознании XVII—XVIII вв. и
в значительной степени усвоенный философами-материалистами,
обладал рядом особенностей. Отдавалось, в частности, предпочтение индукции
перед дедукцией; на широкие обобщения естествоиспытатели смотрели как на
ненужную схоластику. Задача науки понималась только как экстраполяция на все явления механических закономерностей.
Ученые были уверены, что
состояние Вселенной характеризуется чисто механическими параметрами. Развитие
рассматривалось ими как изменение с течением времени этих
параметров, т. е. не затрагивались качественные характеристики предметов. Если
достоверно знать эти параметры (массу, скорость, силу и
пространственное расположение частей системы) и иметь достаточно совершенный
математический аппарат, то путем математического анализа можно будет вычислить все предшествующие и последующие состояния Вселенной.
Этот взгляд был одним из основных заблуждений механистического
естествознания. Он приводил к убеждению в качественной неизменности природы, т.
е. в отсутствии в ней действительного развития.
6
Небесная механика, а наряду с
ней математический анализ во второй половине XVIII в. достигли значительных успехов; сложилось
мнение (и у естествоиспытателей, и у философов), что и в других областях
естествознания механические принципы позволят объяснить все явления. В обобщенном виде это воззрение нашло свое выражение у французских философов-материалистов XVIII в. Они пытались механистически истолковать не
только природу, но и общественные и психические явления.
Рассмотрение
философами-материалистами и учеными XVIII
в. процесса познания имело ту особенность, что, с одной
стороны, мышление человека возвеличивалось и признавалось способным познать явления природы, общества и психики, а, с другой стороны, эти философы и ученые основную функцию его видели в чисто формальной обработке эмпирически получаемого материала. С этой точки зрения они рассматривали и индукцию. Мышлению они отказывали в праве двигаться вперед
там, где не хватает опытных данных.
В то время этот
механистический взгляд на природу и мышление был безусловно прогрессивным. Он, например, помогал отстаивать принцип детерминизма (хотя и ограниченного, механистического) против
индетерминизма и телеологии, материализм и опытное знание — против идеализма и схоластики. Но с другой
стороны, этот же взгляд приводил к отрицанию права мышления на выход за пределы
наличного эмпирического материала и формальных обобщений, например к отрицанию роли гипотез в развитии науки.
Следует иметь в виду, что в
Германии XVIII в. механистическое
естествознание было развито слабо; здесь не
существовало прочной традиции механико-метафизического материалистического
мышления. В немецкой философии (даже в тех учениях, которые склонялись к материализму) жива была еще связь с восходящими к неоплатонизму учениями, рассматривавшими
мир как живое, органическое целое. Именно это позволило
немецким мыслителям сформулировать
7
идею
развития, пусть в спекулятивной, иногда даже фантастической
форме.
Лейбниц, Лессинг, Гердер —
вот некоторые имена предшественников и современников Канта, выдвигавших
идею развития, эволюции. Если для французского материализма
и французского естествознания XVIII в. характерны эмпиризм и усмотрение роли мышления в проведении формально-логических и математических операций, то для немецкого Просвещения и немецкой философии XVIII
в. характерно утверждение примата мышления над
эмпирией, признание права мышления не только на
создание научных гипотез, но зачастую и на чисто
спекулятивные построения.
Из всех крупных деятелей немецкого Просвещения Кант был наиболее близок к механистическому естествознанию; он, если можно так выразиться, наибольший из них механицист. Вместе с тем он оставался верен философии немецкого Просвещения, несовместимой с механицизмом. В. И. Вернадский в глубоком и тонком исследовании «Кант и естествознание XVIII столетия», характеризуя возникшее и развивающееся противоречие между старой метафизикой и новым положительным знанием, показал, что оно во многом определило облик Канта как ученого и его положение в науке и философии XVIII в. Естествознание в XVI—XVII вв., еще тесно связанное с метафизикой, получило теперь собственную основу и стало на самостоятельный путь развития. Как говорит В. И. Вернадский, «темп такого отхождения охваченной гением Ньютона науки от философии с каждым годом усиливался»*. Кант оказался одновременно и представителем передовой науки своего времени, и метафизиком в старом смысле этого слова. «Являясь по содержанию и по научности уклада мысли передовым ученым своего времени, Кант по привычкам и по характеру научной работы жил в прошлом… Чуждый по духу ученым староверам, а по форме ученым новаторам, Кант был одинок среди передовых ученых своего времени»**.
8
В первых своих
натурфилософских работах Кант пытается
синтезировать философию немецкого Просвещения и положительные науки,
развивавшиеся на базе механицизма.
Материалистическая тенденция
в ранних работах Канта является доминирующей. Кант уверен в возможностях
естественнонаучного познания мира. В отличие от французских материалистов,
которые от естествознания шли к философии, он шел скорее обратным путем. Он делает попытки применить философию к рассмотрению теоретических проблем естествознания. Там, где Кант непосредственно сталкивается с закономерностями,
необъяснимыми с помощью законов механики, он
останавливается в научном анализе (например, перед объяснением живой природы).
Указывая, что происхождение мироздания можно объяснить на основе законов Ньютона, Кант в то же время пишет: «А можно ли похвастаться подобным успехом, когда речь идет о ничтожнейших растениях или о насекомых? Можно ли сказать: дайте мне материю, и я покажу
вам, как можно создать гусеницу? Не споткнемся ли мы здесь с первого же шага, поскольку неизвестны истинные внутренние свойства объекта и поскольку заключающееся
в нем многообразие столь сложно?» (1, 126—127*). Кант не
пытается перенести механические закономерности на живую природу; он видит, что
она принципиально отлична от неживой. Он говорит: «Но разве хоть один философ был когда-либо в состоянии
растолковать законы, по которым происходит рост или внутреннее движение в уже
существующем растении, с такой же степенью ясности и математической строгостью, как те законы, по которым совершаются движения небесных тел? Природа самих объектов здесь
совершенно различна (подчеркнуто нами. — Авт.)» (1, 479).
В первой же своей работе —
«Мысли об истинной оценке живых сил» (1746) — Кант настойчиво проводит идею развития, эволюции. У него собственная точка
9
зрения
на полемику, развернувшуюся между последователями Декарта, с одной стороны, и
приверженцами точки зрения Лейбница — с другой. Суть спора состояла в том, что картезианцы считали меру движения
пропорциональной скорости движущегося тела; Лейбниц же считал необходимым оценивать эту меру как
пропорциональную квадрату скорости. Позднейшая наука выяснила, что по сути дела Декарт и Лейбниц говорили о разных вещах, и приняла величину, пропорциональную
скорости, как меру количества движения, сохраняющуюся при механических
взаимодействиях тел,
а величину, пропорциональную
квадрату скорости, — как меру кинетической энергии, сохраняющуюся при переходе механической энергии в другие виды энергии и характеризующую способность движущегося тела
совершать работу.
Следует обратить внимание на ряд характерных моментов, содержащихся в упомянутом произведении. Кант отстаивает здесь принцип самодвижения материи. Из этого принципа он пытается вывести пропорциональность живых сил квадрату скорости, оставляя в то же время и линейную зависимость; этим, полагал Кант, разрешается спор между картезианцами и последователями Лейбница. Фактически Кант здесь ошибается, так как пропорциональность кинетической энергии (в современном понимании и терминологии) движущегося тела квадрату скорости выводится в рамках механики и без предположения о самодвижении. Он видит методологическую трудность в том, что математика (и механистическое естествознание того времени) начинает с аксиом, а об отношении этих аксиом к действительности судить не может. Поэтому он пишет: «Необходимо иметь метод, с помощью которого в каждом отдельном случае, подвергая общему обсуждению принципы, на которых зиждется то или иное мнение, и сопоставляя их с сделанным из них выводом, можно было бы определить, действительно ли содержит в себе природа предпосылок все то, что требуется с точки зрения основанных на них учений» (1,72—73). Здесь Кант еще пытается получить такой метод в рамках формальной логики. В дальнейшем он понял, что это невозможно.
10
Дуалистичность критической
философии Канта в значительной степени определялась этой невозможностью объединить «метафизику» и механистическое
естествознание на базе построения общего метода, опирающегося только на формальную логику.
Двойственность,
противоречивость характерна для представлений
раннего Канта о пространстве, времени, движении. Во
всех своих работах раннего периода, где он
касается вопроса о движении, Кант, с одной стороны,
придерживается принципа самодвижения материи; для него любая часть материи
несет в себе источник своего движения, своей деятельности. С другой стороны, это движение он пытается представить как механическое, т. е. как внешнее по отношению к материи. Но в таком случае, и это показывают законы самой механики, движение не может порождаться за счет внутренних сил системы. Поэтому теоретическое осмысление движения
оказывается для Канта неразрешимой проблемой.
Что касается пространства, то
Кант рассматривает его, с одной стороны, как некое вместилище, независимое от
материи, куда последняя помещена и где она может
двигаться. Такое понимание абсолютного пространства
полностью соответствует механистическим представлениям и наиболее последовательно
было выражено Ньютоном. С другой стороны, Кант пытается представить пространство как необходимо связанное с материей (с субстанцией), даже как нечто вторичное по отношению к ней.
Так, он считает, что
пространство есть результат способности
субстанции действовать вовне себя. Это действие
проявляется как специфические силы. Такой взгляд на пространство
близок к взгляду Лейбница. Интересно,
что здесь есть некоторое сходство с представлениями современной физики об
элементарных частицах, согласно которым каждая такая частица окружена «шубой»
специфических силовых полей.
Трехмерность пространства
Кант связывает с характером сил, которыми субстанция действует вовне себя, и, в частности, с законом обратной пропорциональности
силы тяготения квадратам расстояний. По его мнению,
возможна наука о пространствах с различным
11
числом
измерений («высшая геометрия» в терминологии Канта): «Согласно
изложенному я полагаю: [во-первых], что субстанциям в существующем мире, частью которого мы являемся, присущи силы такого рода, что, соединяясь друг с другом, они распространяют свои действия обратно пропорционально квадрату их
расстояний; во-вторых, что возникающее отсюда целое имеет в соответствии с этим законом свойство трехмерности;
в-третьих, что этот закон произволен и что бог вместо
него мог бы избрать какой-нибудь другой, например
закон обратной пропорциональности кубу [расстояний];
наконец, в-четвертых, что из другого закона
проистекало бы и протяжение с другими свойствами и измерениями. Наука обо всех
этих возможных видах пространства, несомненно, представляла бы собой
высшую геометрию, какую способен построить конечный ум» (1, 71). Современная
математика рассматривает пространства с различным числом измерений и с различными (например, неевклидовыми) свойствами. Таким образом, это рассуждение Канта как бы предвосхищает
позднейшее развитие математики.
В работе «Применение
связанной с геометрией метафизики в философии природы» (1756) Кант также
пытается согласовать естествознание («физику») с философией немецкого
Просвещения (с лейбницевской монадологией). Один из главных вопросов здесь —
вопрос о двух указанных выше точках зрения на пространство:
«метафизической» и «геометрической». Вводя принцип самодвижения, используя
понятия силы притяжения и силы отталкивания, Кант пробует согласовать эти точки зрения. Он не принимает полностью позиции Лейбница, но и ньютоновское понимание пространства тоже остается ему в значительной степени чуждым.
Точно так же и в проблеме
относительности движения Кант видит противоречие, ибо, признавая эту
относительность, нужно отказаться от абсолютного, не связанного с материей
пространства, но этого современное ему механистическое
естествознание сделать не может, а потому не
может и Кант, ставящий своей задачей соединение философии с положительный
наукой, с естествознанием.
12
Особо важное место в ранних
работах Канта занимали науки о Земле. В течение многих лет Кант читал курс лекций по физической географии в Кёнигсбергском
университете. Результатом этой работы была изданная в 1801—1804 гг.
четырехтомная «Физическая география».
Кант считал, что закономерности земной природы
могут быть лучше поняты, если будут известны закономерности развития самой
Земли, ее истории.
В XVIII в.
геолого-географические науки еще только начинали формироваться, выяснять те
основные объекты наблюдения и исследования, которые могли быть положены в основу научного анализа. «На эту работу, — писал В. И. Вернадский, — пошло целое столетие. Полтораста лет назад, когда началась работа Канта, в метеорологии и климатологии не были еще
различены и выделены столь всем понятные и популярные элементы погоды или климата, в геологии не были даже намечены формы рельефа или тектоники… Работа
натуралиста носила книжный характер. Факты искались в картах, в описаниях путешественников, в наблюдениях
толпы; на первое место выступал сравнительный метод
исследования, значение которого в этих областях знания было ясно и точно
указано Кантом еще в 1757 году»*.
Кант интересуется вопросами
метеорологии, пишет статьи о землетрясениях, исследует вопрос о суточном вращении Земли? разбирает возможные причины старения
Земли, ее эволюции. В этом отношении интересны две
небольшие работы Канта, написанные в 1754 г. и непосредственно
предшествовавшие «Всеобщей естественной истории и теории неба». Мы имеем в виду
статью о приливном трении под названием «Исследование вопроса, претерпела ли Земля в своем вращении вокруг
оси… некоторые изменения со времени своего возникновения»
и статью «Вопрос о том, стареет ли Земля с
физической точки зрения».
В первой из названных статей
Кант приходит к выводу, что действие Луны на Землю должно вследствие
13
приливного
трения постепенно замедлять вращение Земли вокруг
оси. Это заставляет Канта поставить вопрос о
происхождении суточного вращения Земли. Оно в свою
очередь связано, как считает Кант, с механическим устройством и происхождением
солнечной системы и всего мироздания.
Во второй из этих статей Кант
рассматривает различные физические причины старения Земли, указываемые
натуралистами, и находит их малосостоятельными. Кант не дает
собственного решения проблемы, однако сам процесс
старения Земли у него не вызывает сомнений. Из общих, развитых в спекулятивной
форме идей эволюции он приходит к выводу, что все возникшее и развивающееся должно состариться и погибнуть в результате тех же процессов, которые на предыдущих этапах развития вели к расцвету. «Старение какого-нибудь
существа в ходе его изменения, — пишет Кант, — не есть
определенная стадия, вызванная внешними и насильственными причинами. Те же
причины, по которым какая-нибудь вещь достигает совершенства… приближают ее к гибели незаметными изменениями… Все предметы природы подчинены следующему закону: тот же механизм, который вначале работал над их
совершенствованием, продолжая менять вещь и после того как она достигла своего совершенства, постепенно
лишает ее благоприятных условий и в конце концов незаметно доводит ее до полной
гибели» (1, 98).
Этому всеобщему закону,
говорит Кант, подчиняется и Земля, и,
следовательно, она также должна когда-то состариться
и погибнуть. Старение Земли есть, согласно его мнению, результат внутренних
необходимых процессов, и случайные внешние события не составляют сущности эволюционных процессов. Рассматривая такие
катастрофические события, как столкновение Земли с другим небесным телом или разрыв внутренним жаром
Земли ее оболочек, Кант говорит: «Однако такого рода
возможности имеют столь же мало отношения к вопросу о
старении Земли, сколь мало имеется оснований для того, чтобы при рассмотрении
вопроса, отчего ветшают здания, принимать во внимание землетрясения
или пожары» (1, 114).
14
Эти статьи показывают, как
Кант пытается согласовать выраженную в спекулятивной форме идею развития с
эмпирическими и теоретическими данными современного ему естествознания. Он
делает попытку провести эту идею в конкретных науках, и в частности в науках о Земле и в космогонии.
В противоположность,
например, Лапласу, который в своей
космогонии от представления о развитии земной природы идет
путем осторожного обобщения и аналогии к идее об
эволюции Земли и солнечной системы, Кант от идеи
развития, выраженной во всеобщей форме, идет к ее
конкретизации по отношению к определенным природным объектам. Для Канта нет
сомнения в том, что вся бесконечная Вселенная находится в состоянии
развития, и в своей космогонии он не ограничивается рассмотрением эволюции солнечной
системы, а делает попытку выяснить «происхождение всего мироздания». Однако идея развития у Канта тоже не выходит за пределы механицизма и поэтому остается непоследовательной.
Центральное место в
натурфилософских работах Канта занимает «Всеобщая естественная история и теория
неба» (1755). Это сочинение сыграло большую роль не только в развитии научной космогонии, но и в
истории естествознания в целом, и в истории философии. Ко времени написания Кантом этой работы основные принципы механики, развитые Ньютоном, пробили себе дорогу и прочно утвердились в астрономии. Это произошло
не сразу. Еще в первой четверти XVIII в. в естествознании продолжало господствовать
картезианское воззрение на природу.
К середине XVIII в. работы
Эйлера, Клеро, д’Аламбера по теории планетных движений,
решению задачи трех тел, теории движения Луны и т. д. сделали небесную
механику одним из важнейших отделов астрономии. Наблюдательная
астрономия также получила значительное развитие. Были созданы первые государственные
обсерватории, которые производили более или менее
систематические наблюдения и исследования.
Кант
в начале «Всеобщей естественной истории и
теории неба» критикует Ньютона за привлечение
15
в космогонию божественного «первого толчка»[1]. Этот взгляд Кант считает недостойным истинного философа. Опираясь на одни лишь свойства материи и движения, утверждает он, можно, не прибегая ни к каким ссылкам на бога, из одних лишь физических причин объяснить, каким образом возникла наша солнечная система со всеми особенностями ее наблюдаемого в настоящее время строения. Именно в этом смысле Кант говорит: «Дайте мне только материю, и я построю вам из нее целый мир».
Далее он излагает свои
космологические и космогонические взгляды. Кант считает, что Млечный путь
представляет собой звездную систему, схожую во многом с солнечной системой, имеющую центральное тело, вокруг
которого обращаются звезды со своими планетными системами.
Эта звездная система сплюснута, и Солнце находится недалеко от ее центральной
плоскости. Подобных систем имеется во Вселенной огромное
количество, и они в свою очередь могут объединяться в системы более высокого порядка.
Рассмотрев затем основные
положения небесной механики, Кант переходит к изложению своей космогонической
гипотезы» Изучение закономерностей движения планет
показывает, пишет Кант, что это движение порождено одной общей для всей системы
причиной. «При настоящем состоянии пространства, в котором обращаются
тела всего планетного мира, нет материальной причины,
которая могла бы сообщить им движения или направлять
их. Это пространство совершенно пусто или по меньшей
мере почти что пусто; значит, когда-то оно должно было
быть иначе устроенным и наполненным материей, в
достаточной мере способной передавать движение всем находящимся в нем небесным
телам, согласуя его со своим собственным движением и, следовательно, согласуя
между собой все движения; а когда притяжение
очистило рассматриваемое пространство, собрав вею
рассеянную в нем материю в отдельные сгустки,
планеты с однажды сообщенным им движением должны были свободно и неизменно
продолжать свои обращения в пространстве, не оказывающем сопротивления»
(1, 155). Это рассуждение Канта не потеряло значения и в наши дни. Большинство
современных
16
гипотез о происхождении планетных систем в той или другой конкретной форме содержит ту же мысль.
Не касаясь множества других космогонических идей Канта, содержащихся во «Всеобщей естественной истории
и теории неба», заметим следующее; Принцип самодвижения
материи составляет здесь основу всего рассуждения.
«Элементы (частицы материи. — Авт.), коим присущи
силы для приведения друг друга в движение, имеют источник жизни в самих себе»
(1, 157). Это самодвижение проявляет себя прежде всего как притяжение и отталкивание. Именно наличие этих противоположностей является, по Канту, источником движения материи. Отталкивание, по мнению Канта, действует и между отдельными частицами материи, дополняя собой притяжение как его противоположность.
Исходя из взаимодействия
притяжения и отталкивания, Кант объясняет происхождение кругового движения
протопланетной материи из первоначально покоящегося хаоса. Это объяснение с точки
зрения механики ошибочно. Однако методологически правильным и
прогрессивным следует считать то, что Кант, не имея достаточных научных данных,
все же (опережая в этом отношении естествознание своего времени) ввел в свою гипотезу отталкивание как необходимое дополнение к притяжению. Эту мысль Канта впоследствии высоко оценивал Ф. Энгельс*. Кант утверждает, что одно притяжение, взятое отдельно,
может вызвать лишь односторонние изменения и только
наличие наряду с притяжением отталкивания обеспечивает
круговорот, «непрерывность жизни природы».
Роль идеи отталкивания у Канта можно показать, сравнив взгляды Канта с рассуждениями Ньютона, который рассматривал в качестве присущей материи силы только притяжение. Ньютон не смог дать научное объяснение происхождения солнечной системы. Более того, в конце своей «Оптики» он говорит: «Слепая судьба никогда не могла заставить все планеты двигаться
17
таким
образом, исключая только едва заметные неравенства,
могущие происходить от взаимного действия планет и комет и которые, вероятно,
будут увеличиваться в течение весьма долгого времени, до тех пор, пока наконец система будет нуждаться в приведении
ее в порядок руками творца»*. Таким образом, у Ньютона односторонние изменения, вызываемые действием притяжения, компенсируются действиями бога.
У Канта же взаимодействие
притяжения и отталкивания призвано объяснить круговорот материи. Цикл развития какой-либо системы заканчивается, по Канту, тем, что все ее тела под действием притяжения падают
на центральное тело, но при этом огромное количество
выделяющегося тепла производит такие силы отталкивания, что материя вновь
рассеивается, после чего снова начинается процесс формирования системы.
От гипотезы Канта ведет свое
начало научная космогония как самостоятельная область знания, использующая
фактический материал и теоретические достижения астрономии, физики, геологии и
других наук, развивающая свои собственные приемы исследования и математический аппарат.
Гипотеза Канта внесла в
естествознание в ясной и определенной форме принцип развития, заставляя
рассматривать всю земную природу с исторической точки зрения, как возникшую и изменяющуюся во времени. Во второй половине XVIII в. этот взгляд был новым и революционным,
подрывающим основы метафизического воззрения на природу. «Точное представление о вселенной, — писал Ф. Энгельс, — о ее развитии и о
развитии человечества, равно как и об отражении этого развития в головах людей,
может быть получено только диалектическим
путем, при постоянном внимании к общему взаимодействию между возникновением и
исчезновением, между прогрессивными изменениями и изменениями регрессивными.
Именно в этом духе и выступила сразу же
новейшая немецкая философия. Кант начал
18
свою
научную деятельность с того, что он превратил Ньютонову
солнечную систему, вечную и неизменную, — после того
как был однажды дан пресловутый первый толчок, — в
исторический процесс: в процесс возникновения Солнца и всех планет из вращающейся
туманной массы»*. Ф. Энгельс подчеркивал огромное значение космогонии Канта как подрывающей «окаменелое» метафизическое мышление, господствовавшее в естествознании:
«Первая брешь в этом окаменелом воззрении на природу была пробита не естествоиспытателем, а философом. В 1755 г. появилась «Всеобщая естественная
история и теория неба» Канта, Вопрос о первом толчке был устранен; Земля и вся солнечная система предстали как нечто ставшее во времени»**.
Нужно заметить, что
вследствие несовместимости идеи
развития и механицизма Кант, с одной стороны, не всегда
последователен в проведении принципа естественного
развития (что мы покажем при изложении его
отношения к религии), а с другой стороны, он, не сознавая этого, в некоторых существенных пунктах своей гипотезы выходит за рамки механицизма. В
частности, это происходит, например, когда он предполагает разогревание образующихся из разреженной материи тел, т. е., как мы сказали бы современным языком, переход механической энергии в немеханические формы.
Гипотеза Канта имела большое
значение для развития материалистического миропонимания. Она показала, что мир
может быть понят как развивающийся по своим собственным
объективным законам. Естествознание XVIII
в. нуждалось в такой обобщенной материалистической концепции, основу для
которой объективно содержала гипотеза Канта. Но механистическое естествознание не восприняло и не использовало для построения первой в науке механической картины мира кантовских идей «Всеобщей естественной истории и
теории неба». Эти идеи получили применение лишь у некоторых немецких мыслителей,
например у Гердера и Гёте.
19
На главное направление
естествознания того времени работа Канта не повлияла. Она осталась почти незамеченной большинством естественников. В космогонии
утвердилась и стала разрабатываться гипотеза, которая была
высказана выдающимся французским астрономом
Лапласом в книге «Изложение системы мира» (1796)
и согласно которой солнечная система образовалась
из раскаленной вращающейся туманности.
Забвению труда Канта
способствовали два обстоятельства. Во-первых, издатель, печатавший «Всеобщую естественную историю и теорию неба», обанкротился и большая часть тиража не увидела света. Во-вторых, некоторые особенности, присущие гипотезам Канта и Лапласа, способствовали в то время непопулярности первой из них и популярности второй.
Кант пытается объяснить
круговорот материи в бесконечной Вселенной. Он описывает космогонический процесс образования и разрушения космических систем
различных порядков в бесконечности пространства и времени
(относительно будущего времени), высказывая при этом ряд глубоких
диалектических идей, поднимаясь иногда до поэтического пафоса. Лаплас, не пускаясь ни в какие фантазии, очень скупо и строго научным языком излагает эволюцию только солнечной системы от первичной вращающейся раскаленной
туманности до современного состояния. Взяв отдельный объект и рассмотрев его на ограниченном отрезке времени с привлечением всех данных современной ему науки, Лаплас выступил вполне в духе времени. Именно такого рассмотрения требовал метод, господствовавший в
естествознании XVIII в. Кроме того, это
позволило Лапласу более конкретно и полно использовать в своей гипотезе естественнонаучный материал. Напротив, Кант, опираясь на общую идею развития и довольно скудный естественнонаучный материал, попытался
подняться до широких обобщений, для которых наука его времени еще не созрела и которые не соответствовали господствовавшему в естествознании методу.
Разрабатывая космогоническую гипотезу, Кант приходил в столкновение с некоторыми религиозными дог-
20
матами.
Понимая, что передовое естествознание, за союз с которым
он, как философ, боролся, может приводить и очень
многих ученых приводит к атеизму, Кант, как человек
религиозный, старался примирить естествознание с религией, оставить место для
бога и даже самые достижения естествознания использовать для аргументации в защиту религии. Так, предисловие к «Всеобщей естественной истории и теории неба» Кант посвящает защите своей гипотезы от возможных
обвинений в безбожии. Он говорит, что если природа, будучи вначале в состоянии
хаоса, способна формироваться в стройные системы, то это лишь доказывает,
что способность эта была вложена в нее богом. То,
что из хаоса благодаря законам развития материи получается стройное целое,
подчиненное общему плану, свидетельствует, что законы эти и план установлены высшим мудрым существом, заявляет Кант. Это заявление звучит как оправдание взглядов мыслителя Канта перед Кантом религиозным человеком, христианином. В своей космогонии он пытается
удержаться на деистических позициях: бог, создав материю в виде хаоса и наделив ее способностью к закономерному
развитию, в дальнейшем устранился от дел и Вселенная развивалась самостоятельно,
сообразно внутренним законам, заключенным в природе материи.
Развивая свою космогонию,
Кант в конце приходит к выводу, что на планетах появляется жизнь, причем особенности организации живых существ зависят от физических условий на данной планете. На многих планетах есть разумные существа, гораздо более
совершенные, чем человек, и степень их духовного совершенства зависит от
совершенства их тела, а это последнее зависит от свойств планеты. Казалось бы,
это материалистический взгляд, несовместимый с
религиозными мифами о сотворении человека, бессмертии души и т. д.
Но Кант непоследователен. Заявляя, что обитатели небесных тел представляют собой порождения этих тел, он говорит о бессмертии духа. В «Единственно возможном основании для доказательства бытия бога» (1763) Кант готов объяснить возникновение жизни актом непос-
21
редственного
божественного творения: «При непосредственном божественном расгіорядке никогда
не бывает не вполне достигнутых целей, а всюду обнаруживается величайшая правильность и соразмерность, как это, между прочим, можно заметить в строении животных» (1, 485—486).
Фактически у Канта
целесообразность, закономерность природы рассматривается как свидетельство
того, что природа создана разумным существом согласно его целям и намерениям. Правда, то, что объяснимо в рамках механики, не есть результат непосредственного
творческого акта бога, но в таком случае следует думать, что сами законы механики
и материя, движущаяся согласно этим законам, все же сотворены богом.
Стремление оставить бога как
причину причин и в конечном счете творца всего существующего приводит Канта к методологической ошибке, противоречащей его же собственным диалектическим идеям, а эта ошибка влечет за собой и ошибку механического характера. Вводя в свою космогонию творческий акт бога,
сотворившего первоначальный хаос, Кант ограничивает свое понимание бесконечности Вселенной во времени: эта бесконечность относится у него только к будущему, в прошлом же ее нет, так как от начала творения протекло конечное время. Стремясь получить из
первоначально покоящегося хаоса систему тел с большим моментом количества движения, Кант допускает ошибку. Он считает, что падение вначале неподвижных частиц под действием тяготения на центральное тело может в результате действия сил отталкивания преобразоваться
во вращательное движение вокруг этого тела. Это
противоречит механическому закону сохранения момента
количества движения.
Правда, для существа гипотезы эта ошибка Канта не является роковой. Так как, согласно Канту, развитие Вселенной совершается циклически, ему достаточно было бы рассмотреть в своей гипотезе один из циклов, предположив, что начального цикла не было, т. е. что Вселенная не имела начала во времени. В этом случае хаос, из которого образовалась наша солнечная сис-
22
тема
и другие системы, которые существуют в настоящее время, сам был бы продуктом распада систем, существовавших
в прошлом. Он не был бы неподвижным и в той или
иной форме мог сохранить моменты количества движения, которыми обладали породившие
его системы. Однако при таком понимании космогонического процесса на долю бога уже не остается и творческого акта. Это было для Канта неприемлемо. Таким образом,
здесь обнаруживается связь между взглядами Канта на
религию и механической ошибкой его космогонии.
Ряд более мелких
натурфилософских работ раннего Канта
непосредственно примыкает к «Всеобщей естественной истории и теории неба». Что
касается позитивного естественнонаучного содержания этих работ, то здесь Кант зачастую разделял ошибки и заблуждения тогдашней науки. С современной точки зрения многие его объяснения неверны и порою выглядят наивными. Так, например, в работе «Применение связанной с геометрией
метафизики в философии природы» читатель найдет искусственное «геометрически-физическое»
рассуждение, которое должно доказать, что сила отталкивания элементов должна быть обратно пропорциональна кубу расстояния; в работе «Новые замечания для пояснения
теории ветров» — ошибочное объяснение бризов или
утверждение, что тающий снег выделяет воздух, служащий
причиной определенного рода ветров; в «Плане лекций по физической географии и
уведомлении о них» — неверное рассуждение о причинах влажности западных ветров. Землетрясения Кант объясняет
пустотами в Земле, в которых распространяется подземный огонь, и т. д. Однако
эти работы Канта помогают понять и
состояние науки той эпохи, и эволюцию самого Канта по
пути к критицизму. Они вводят нас в тот круг проблем и
противоречий, на базе анализа которых возникла, хотя и не непосредственно,
диалектическая логика и гносеология. Именно в этом их ценность.
Свое сочинение «Применение
связанной с геометрией метафизики в философии природы» Кант начинает с изображения методологического перепутья, на котором
он стоит. Он согласен с исследователями природы,
23
что
нельзя в естественную науку ничего допускать «без
поддержки опыта и геометрии». Однако он недоволен теми, кто настолько привязан
к этому принципу, что не допускает ничего сверх непосредственно наблюдаемых
данных. «Ибо те, кто исследует одни лишь явления природы, всегда остаются
одинаково далеки от глубокого понимания первых причин этих явлений и столь же мало способны когда-нибудь достигнуть
познания самой природы тел, как и те, кто, подымаясь на гору все выше и выше, стал бы убеждать себя в том, что в конце концов они коснутся рукой неба» (1,317). Данные опыта, по мнению Канта, имеют значение постольку,
поскольку дают нам представление о законах эмпирической
действительности, но они не могут привести к познанию «происхождения и причин
законов». Отсюда его вывод: «Метафизика, без которой, по мнению многих, вполне можно обойтись при разрешении
физических проблем, одна только и оказывает здесь помощь, возжигая свет познания» (1, 318).
При этом следует помнить, что
Канту приходилось иметь дело с метафизикой вольфовской школы,
выхолостившей все живое содержание из философии Лейбница. В отличие от
предшествовавшего периода, когда метафизика
несла в себе положительное содержание и была
связана с открытиями в математике, физике, и т. п., в XVIII в. она, по словам К. Маркса, стала плоской: «Все богатство метафизики ограничивалось теперь только мысленными сущностями и божественными
предметами, и это как раз в такое время, когда реальные
сущности и земные вещи начали сосредоточивать на себе весь интерес»*. Упрощая и схематизируя картину реального мира, вольфовская метафизика цепко
держалась за свой исходный пункт — отождествление бытия с мышлением, на мир смотрела
через очки формальной логики. Считалось, что логическое и реальное
основания тождественны, т. е. логическое отношение основания и следствия равнозначно отношению причины и
действия, связывает вещи и явления таким же образом, как понятия и суждения.
24
В своей диссертации «Новое освещение первых принципов метафизического познания» Кант еще верит в возможность приобрести познание внешнего мира путем одной только рационалистической дедукции. Но для нас эта работа интересна прежде всего тем, что философ под влиянием идей, которые привели его к «Всеобщей естественной истории и теории неба», видит несовпадение между реальным и логическим основанием, различает основание бытия и основание познания. Свою мысль он иллюстрирует примером, взятым из астрономии. Реальным основанием движения и скорости света служат определенные свойства эфира. Основание же для познания этого явления дали наблюдения за явлениями в системе спутников Юпитера. Было замечено, что вычисленные заранее затмения этих небесных тел наступают позднее в тех случаях, когда Юпитер находится на более далеком расстоянии от Земли. Отсюда был сделан вывод о том, что распространение света протекает во времени, и была вычислена скорость света.
Как отмечает В. Ф. Асмус,
проведенное Кантом разграничение между основанием бытия вещи и основанием ее познания сыграло большую роль в разработке его учения критического периода. В этом разграничении мы находим не только высокую оценку опытного знания —
отправной пункт для дальнейшей критики формальной логики, но и первые сомнения
в том, что порядок идей всегда соответствует порядку вещей. Таким образом, «уже
в «Новом разъяснении» сказывается двойственность
мотивов, какими руководился Кант, выступая
против отождествления основания познания и основания
бытия»*.
Но центр тяжести пока лежит в выступлении за реформу логики. Это особенно ясно видно из работы «Ложное мудрствование в четырех фигурах силлогизма», где ставятся под сомнение некоторые положения формальной логики. Имея в виду последнюю, Кант говорит о колоссе, «голова которого скрывается в облаках
25
древности,
а ноги сделаны из глины». Он не льстит себя надеждой
ниспровергнуть своей статьей этот колосс, но ряд
ощутимых ударов он ему наносит. С особым задором ополчается философ против
традиционной теории силлогистики, которая, по его мнению, представляет собой пустое занятие, пригодное лишь для словопрений, но бесполезное для отыскания истины. Увлекаясь, Кант сводит четыре аристотелевские фигуры силлогизма к первой: M есть Р, S есть M; следовательно, S есть Р. Остальные же фигуры силлогизма, возникающие в
зависимости от того, выступает ли больший или меньший термин посылок как субъект или предикат,
представляются Канту «ложным мудрствованием». Точно так же он характеризует и модусы силлогизма, различаемые формальной логикой в пределах каждой фигуры.
Наибольший интерес
представляют выводы, к которым приходит Кант. Это прежде всего обращенное к логике требование проследить образование понятий. Последние возникают из суждений и умозаключений. Отсюда ясна ошибка традиционной логики, которая рассматривает понятия раньше, чем суждения и умозаключения,
хотя первые возможны только посредством последних.
Далее, Кант ставит важный, выходящий за пределы
формальной логики вопрос о природе абстрактного мышления: в чем заключается
таинственная сила, делающая возможными суждения? Его ответ — сила эта состоит в способности превращать представления
в предмет мысли — свидетельствует о стремлении преодолеть
ограниченность вольфианских метафизических представлений.
Эта небольшая работа Канта не
осталась незамеченной. Ее встретили положительными откликами, а один анонимный рецензент (предполагают, что это был М. Мендельсон) характеризовал автора статьи как «отважного человека, угрожающего немецким академиям
страшною революцией»*. Грядущую «философскую революцию» в Германии предвещают и те идеи, которые Кант высказывает в ра-
26
боте
«Опыт введения в философию понятия отрицательных величин» (1763). В этом произведении
современный читатель найдет богатую пищу для размышлений. Кант сетует на то, что анализируемые им проблемы ему «еще недостаточно ясны», но он публикует свою работу, исходя из твердой веры в их значительность и понимания
того, что «даже незаконченные опыты, развитые предположительно
в сфере абстрактного познания, могут быть
весьма полезными для преуспеяния высшей философии,
ибо очень часто другой легче находит решение какого-то особенно трудного вопроса,
нежели тот, кто дает ему повод для этого» (2, 115).
Продолжая критику формальной
логики, начатую в предшествующих работах, Кант ставит новую важную проблему — проблему реальности противоположностей. Исходный пункт его рассуждений — установленное им ранее различие между логическим и реальным
основаниями. То, что справедливо для логики, может быть неистинным для реальной действительности. Логическая
противоположность состоит в том, что относительно одной и той же вещи нечто одновременно и утверждается, и отрицается. Логика запрещает полагать подобные
высказывания одновременно истинными. Так, относительно тела нельзя одновременно
утверждать, что оно движется и покоится: одно упраздняет другое, в результате получается ничто.
Иное дело — реальная
противоположность, которая состоит в
противонаправленности сил, обозначаемых в суждениях
как два предиката одной и той же вещи. Здесь также
одно упраздняет другое, однако следствием является не ничто, а нечто. Например,
две равные силы могут действовать на тело в противоположных направлениях, следствием их действия будет покой тела, который есть также нечто реально существующее.
Подобными реальными
противоположностями полон окружающий
нас мир. Они могут быть действительными и потенциальными.
Действительная реальная противоположность проявляется там, где у одной и той же
вещи вызываются состояния, из которых одно есть отрицание другого, как в
приведенном выше примере с покоящимся
телом. Но противоположные предикаты
27
могут
принадлежать различным вещам и, следовательно, не исключать
непосредственно друг друга. Такую противоположность
Кант называет потенциальной. Силы, взаимоисключающие, но приложенные к разным телам, находятся, по Канту, в отношении потенциальной
противоположности.
Математика является наукой,
которая в учении об отрицательных величинах давно уже оперирует понятием
реальной противоположности. Знак «минус», стоящий перед опрёделенной величиной,
указывает не на особый род величин, рассматриваемых по их внутреннему
свойству, а только на отношение противоположности, в силу чего данные величины
взяты в противопоставлении к другим, которые отмечены положительным знаком. Философия должна перенять у математики
некоторые методологические принципы. Речь идет не о возрождении «геометрического»
метода — чисто внешнего подражания стройности математических рассуждений, а об использовании тех понятий этой науки, истинность которых доказана самой природой. В первую очередь это относится к понятию отрицательной величины,
которое должно быть признано в философии, несмотря на то что правила логики не в состоянии его объяснить. Понятие реальной противоположности находит свое применение и в онтологии, и в психологии, и в этике. Отрицательные обозначения сил .природы или аффектов
души выражают собой не логическое отрицание, т. е.
превращение в ничто, а отрицательную величину. Удовольствие
и неудовольствие относятся друг к другу не как некоторая
величина и ноль, а как положительная и отрицательная величины. Свою мысль Кант
иллюстрирует следующим примером. Матери-спартанке приносят весть о геройских подвигах ее сына; чувство удовольствия наполняет ее душу. Но вот она узнает, что сын пал на поле брани, и ее удовольствие
снижается. «Степень удовольствия, определяемую одним первым основанием, обозначьте 4a, — говорит Кант, — и предположите, что неудовольствие есть простое отрицание = 0;
тогда, взяв оба вместе, мы выразим величину удовольствия 4а + 0 = 4a, и,
следовательно, удовольствие не было бы уменьшено известием о смерти,
28
а это
неверно» (2, 95). Но если неудовольствие выразить какой-либо определенной отрицательной величиной, например а, тогда мы получим правильный результат (4а — а = 3а).
Этот пример необычайно
характерен. Мы видим здесь и поиски
диалектики, и неспособность Канта выйти за пределы
механистического миропонимания. Единство противоположностей понимается Кантом
всего лишь как математическая сумма противоположных величин.
Здесь еще нет идеи взаимного проникновения противоположностей,
составляющего суть диалектического противоречия.
Другая слабость, которой
страдает кантовский «Опыт введения…», состояла во все более усиливающейся
тенденции агностицизма. Развивая свою мысль о различии
между реальным и логическим основаниями, Кант приходит к выводу, что первое
принципиально не может быть вторым, т. е. реальное основание не может быть выражено средствами формальной логики.
Дождь обусловливается ветром не в силу закона тождества.
Нужны, следовательно, иные логические средства —
сделал бы вывод современный читатель, знакомый с
диалектикой. Но Кант рассуждает совсем иначе. Обещая вернуться к проблеме в
другом сочинении, он пишет: «Отношение реального основания к
чему-то, что оно полагает или устраняет, может быть
выражено не посредством суждения, а единственно только посредством понятия,
которое, если разложить его, можно, правда, привести к более простым понятиям о реальных основаниях, однако лишь таким
образом, что в конце концов все наши познания об этом
отношении сведутся к некоторым простым и далее уже
неразложимым понятиям о реальных основаниях,
отношение которых к следствию уже никак нельзя
сделать понятным» (2, 123).
Если в «Опыте введения…» Кант
возражал против внешнего подражания философии математике, то в работе
«Исследование степени ясности принципов естественной теологии и морали» (1764)
он сделал попытку установить различие между методом той и другой науки
по существу. Сочинение было написано в связи с
29
конкурсом,
объявленным Берлинской академией наук, по теме:
могут ли метафизические истины обладать такой же
степенью очевидности, как математические, и в чем
заключается природа их достоверности.
К любому общему понятию,
отмечает Кант, можно прийти двумя путями: либо путем синтеза, конструируя
сложные понятия из простых, взятых в качестве аксиом; либо
аналитически, расчленяя имеющееся знание, открывая новые признаки в вещах.
Первым путем идет математика, вторым — философия. «Дело философии — расчленять
понятия, данные в смутном виде, делать их
развитыми и определенными; дело же математики — связывать и сравнивать уже
данные понятия о величинах, обладающие ясностью и достоверностью, дабы увидеть,
какие выводы можно из них сделать» (2, 248).
Подобное методологическое
противопоставление математики и философии, конечно, не имеет под собой почвы; и
та и другая наука прибегает и к анализу, и к синтезу. Но все-таки за
рассуждениями Канта скрывается вполне
реальная проблема: фактически противостоят друг другу
не метод математики методу философии, а формально-логическое выводное знание —
знанию, которое выходит за рамки силлогистики. Речь опять-таки идет о реформе логики.
В работе, написанной год
спустя, — в «Уведомлении о расписании лекций на зимнее полугодие 1765/66 г.» — Кант уже прямо говорит о двух видах логики. Первый вид — своего рода карантин обычного мышления, логика
«здравого ума», преподавание которой следует предпосылать
изучению наук. Второй вид — «полная логика»,
«критика и предписание учености в собственном смысле слова».
Преподаватель должен владеть ею с самого
начала, но студентам следует ее изучать лишь после того,
как ими пройдены конкретные науки, так как
невозможно сделать ясными ее правила, пока под рукой еще
нет никаких примеров. Нельзя исследовать происхождение
знаний, не получив представления о них самих.
Речь, следовательно, идет о
содержательной логике. Первой попыткой ее создания будет трансцендентальная
30
логика
«Критики чистого разума», но подлинную свою реализацию
эти идеи найдут лишь в диалектической логике.
Однако все это в будущем. Пока что Кант ограничивается
лишь постановкой проблемы и пытается преодолеть
преграду механистических представлений, которую он
сам недавно возводил для философии. В «Исследовании степени ясности принципов
естественной теологии и морали» он говорит о качественном
многообразии объектов философии. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить понятие триллиона с
понятием свободы. Отношение триллиона к единице ясно каждому, но свести свободу
к составляющим ее единицам, т. е. к
простым и известным понятиям, пока еще никому не
удавалось. «Я знаю, — говорит Кант, — что есть много людей,
которые считают философию сравнительно с высшей
математикой очень легкой. Однако эти люди именуют
философией все, что содержится в книгах с таким названием» (2, 254). Между тем,
говорит Кант, подлинная философия еще не написана.
Единственно правильным
методом, который должна усвоить философия, является, по Канту, метод
естественных наук, опирающихся на опыт. Но, провозгласив опытное знание
единственной основой философии, Кант тут же
проявляет столь характерную для него непоследовательность, утверждая, что «метафизическое познание о боге может быть весьма достоверным» (2,
272). Гораздо убедительнее выглядит содержащаяся в заключительном
параграфе его работы критика рационалистической вольфианской этики. Он говорит,
что надо различать способность представлять и способность
ощущать добро; первое есть знание, второе — чувство. При этом Кант ссылается на Хатчесона, а также на Шефтсбери
(в другом месте) как на мыслителей, которые «всего больше преуспели в раскрытии первых основ всякой нравственности» (2, 286). Но все же главную роль в
пробуждении его интереса к проблеме поведения человека сыграл Руссо.
Жан-Жак Руссо был вторым (после Ньютона) мыслителем, оказавшим на молодого Канта наиболее значительное влияние. Если через призму ньютоновских уравнений кёнигсбергский философ смотрел на беспре-
31
дельный
звездный мир «над нами», то парадоксы Руссо помогли ему
заглянуть в тайники человеческой души. По словам
Канта, Ньютон впервые увидел порядок и правильность
там, где до него находили лишь беспорядок и плохо сочетаемое многообразие, а
Руссо впервые открыл в людском многообразии глубоко скрытую природу человека. Увлеченный чтением «Эмиля»,
педантичный магистр философии нарушает свой обычный режим дня (тот прославленный режим, по которому кёнигсбержцы стали проверять свои часы). На стене в его кабинете появляется единственное украшение — портрет Руссо.
Знакомству с сочинениями
Руссо Кант был обязан прежде всего освобождением от ряда предрассудков
кабинетного ученого, своеобразной демократизацией мышления. «Было время, — признавался
он, — когда… я презирал чернь, ничего не знающую. Руссо исправил меня… Я учусь уважать людей и чувствовал бы себя гораздо менее полезным, чем обыкновенный рабочий, если бы не думал, что данное рассуждение может придать
ценность всем остальным, устанавливая права человечества»
(2, 205).
Итак, Кант задумался над
судьбами человека и общества, его помыслы теперь полностью направлены на создание науки, которая действительно нужна
человеку, науки, «из которой можно научиться тому, каким надо быть, чтобы быть
человеком» (2, 206).
Руссо убедил Канта в том, что распространение знаний не обязательно связано с прогрессом нравственности: на низшей ступени образованности можно обладать моральными свойствами, которые не способно дать совершенствование рассудка. Вместе с тем Кант видит слабые стороны учения женевского философа, он не может разделить его мысль о том, что культура и общество приносят лишь зло: «Метод Руссо — синтетический, и исходит он из естественного человека; мой метод — аналитический, и исхожу я из человека цивилизованного… Естественным путем мы не можем быть святыми… Аркадская пастушеская жизнь и излюбленная у нас придворная жизнь — обе одинаково пошлы и неестественны, хотя и привле-
33
кательны.
Ведь истинное удовольствие никогда не может иметь место
там, где его превращают в занятие» (2,192, 193, 210).
Эти выдержки из черновых рукописей, относящихся к 1764 г., говорят о
критическом отношении Канта к руссоистским иллюзиям. Руссо лишь
способствовал формированию его собственных воззрений на человека и общество.
В работе «Опыт о болезнях
головы» Кант рассматривает взаимодействие между материальным и духовным началом в человеке; он отмечает, что причины душевных
заболеваний коренятся в теле человека, и прежде всего в его
пищеварительных органах. В природном состоянии человек подвержен лишь немногим
видам безрассудства. Условия для распространения душевных недугов создает гражданское устройство общества. Кант, однако, далек от мысли требовать на этом
основании возвращения к природе или радикального переустройства общества; за
лечением душевных болезней надо
обращаться «прежде всего к врачу», философ играет в
данном случае подчиненную роль.
Под влиянием Руссо, а также
английских эстетиков XVIII в.
складывались взгляды Канта на искусство. В «Наблюдениях над чувством
прекрасного и возвышенного» (1764) мы сталкиваемся с точкой зрения, резко отличающейся от рационалистических теорий предшествовавшего, XVII столетия. Кант апеллирует не к
рассудку, а к чувству, но он еще не выделяет художественное созерцание в самостоятельный
вид деятельности (как это будет сделано в «Критике способности суждения»),
эстетическое чувство сливается у него с
нравственным. Поэтому в «Наблюдениях…» современный читатель находит так мало
собственно эстетических проблем. Среди этих проблем заслуживает внимания
постановка вопроса о национальных различиях в понимании
прекрасного и об исторической его обусловленности. Вкус людей подобно Протею
принимает постоянно все новые формы. Подлинную красоту знали древние греки и римляне. Средневековье характеризуется
господством извращенного вкуса, и только в современной
ему эпохе Кант видит новый расцвет истинно
художественного и нравственного чувства.
33
Молодой Кант не занимался
специально философией истории. Но когда его мысль приходила в соприкосновение
с проблемами развития общества, он высказывал идеи, перекликавшиеся
с передовыми материалистическими учениями его времени. В «Уведомлении о расписании лекций на зимнее полугодие 1765/66 г.» Кант, давая краткие сведения об основных читаемых им философских дисциплинах, останавливается также и на физической географии, материалы которой, по его словам, «привлекают своей редкостью или же влиянием, оказываемым ими через посредство торговли и ремесел на государство, и тем самым больше всего способны возбудить всеобщую любознательность. Эта часть… представляет собой подлинный фундамент всей истории, без которой ее трудно было бы отличить
от сказок» (2, 288). Подобное понимание истории звучит
вызовом идеалистическому взгляду на общество.
В. И. Ленин характеризовал философию Канта как компромисс между материализмом и идеализмом, как сочетание прямо противоположных точек зрения. Эта оценка относится к зрелому Канту — автору «Критики чистого разума». Что касается раннего периода его творчества, то здесь материалистические тенденции выражены сильнее*. Стихийно-материалистические идеи определяют основное философское содержание его космогонической гипотезы, его интерпретацию атомистики, его поиски связи между духовным и телесным началом в человеке и даже затрагивают философию истории. Но все же это только тенденции, которые то выходят на передний план, то отступают перед все возрастающим скептицизмом. Последнее особенно ярко проявилось в его знаменитых «Грезах духовидца», изданных анонимно в 1766 г. Поводом для написания этого сочинения послужила деятельность Эмануэля Сведенборга (1688—1772).
34
Известный
в то время шведский ученый и изобретатель, знаток
минералогии, избранный почетным членом Петербургской академии наук, Сведенборг
под старость объявил себя «духовидцем». Он уверял, что состоит в близких сношениях с духами и душами умерших, получает от них сведения из иного мира, делится в свою очередь сведениями из этого мира. 0 нем рассказывали невероятные истории; так, к нему за помощью обратилась
вдова голландского посланника при шведском дворе, от
которой требовали уплаты за серебряный сервиз,
изготовленный по заказу ее мужа. Зная аккуратность своего мужа, эта дама была
уверена, что долг оплачен, но доказательств у нее не было. Сведенборг будто бы побеседовал с духом покойного и вскоре сообщил
вдове, где хранится расписка.
Этот рассказ Кант передает
иронически, он видит в нем, как и в других подобных историях, причудливую
игру воображения. «Поэтому я нисколько не осужу читателя, —
пишет Кант, — если он, вместо того чтобы считать
духовидцев наполовину принадлежащими иному миру, тотчас же запишет их в
кандидаты на лечение в больнице и таким образом избавит себя от всякого дальнейшего исследования» (2, 327).
Но дело заключается в том,
что сочинение Канта направлено не только против Сведенборга. Помимо
«духовидцев» он пишет о «бодрствующих сновидцах», называя так сторонников
спекулятивной метафизики. И тех и
других Кант ставит на одну доску: первые, по его мнению,
— «сновидцы чувства», а вторые — «сновидцы ума». Метафизики грезят, свои идеи
они принимают за реальность, сочетания собственных мыслей — за порядок вещей. Кант заявляет, что не завидует их открытиям, он лишь боится, чтобы какой-нибудь
здравомыслящий человек, не отличающийся особой учтивостью, не сказал бы им то
же самое, что ответил астроному Тихо де Браге, попытавшемуся по звездам определить дорогу, его кучер: «Добрый господин, вы, может быть, все хорошо понимаете на небе, но здесь, на Земле, вы глупец».
Таково прощальное слово,
обращенное Кантом к спекулятивной метафизике. Он выносит обвинительный
35
приговор
любой системе умозрительного знания, призывая людей науки полагаться на опыт, и
только на опыт. Следует, однако, иметь в виду, что последовательным эмпириком Кант так и не стал. Кант (как показывает его переписка с Ламбертом, относящаяся к этому периоду) сохраняет определенную связь с рационалистической традицией. Опытные данные, по его мнению, не могут сами по себе привести к познанию мира: они составляют лишь содержание знания, формы которого в ходе их обработки порождаются самим интеллектом.
Философия Канта все больше
окрашивается в скептические тона. В «Грезах духовидца» говорится о возможности
познавать лишь явления, способность разума проникнуть в
их сущность отрицается. В заключительной части этой работы Кант затрагивает
проблемы причинности; здесь, по его мнению, «задача философии на первых порах заключается в том, чтобы разгадать сложные явления и свести их к более простым представлениям.
Раз основные отношения найдены, роль философии кончается. Что же касается
вопроса о том, каким образом нечто может быть причиной или иметь ту или иную силу, — этого никогда нельзя разрешить при помощи разума» (2, 351). В данных рассуждениях чувствуется влияние мыслителя, имя которого пока еще им не упоминается, но который все более овладевает
думами кёнигсбергского приват-доцента. Это Давид Юм.
Впоследствии в «Пролегоменах»
Кант признавался, что именно Юму он был обязан пробуждением
от«догматического сна» и совершенно новым направлением своих исследований. Влияние английского философа было столь очевидным, что Канта иногда даже называли «прусским Юмом», хотя это было несправедливо, так как его взгляды существенно отличались от философии Юма, послужившей лишь внешним толчком для Канта, собственная эволюция которого уже вплотную подвела его к критицизму.
Переход к критицизму
знаменовала его последняя (четвертая
по счету) диссертация «О форме и принципах чувственно воспринимаемого и
умопостигаемого мира» (1770). В этой работе Кант впервые высказал
36
те
идеи, которые затем легли в основу «Критики чистого разума». Здесь Кант
возводит преграду между явлением и вещью в себе. «Чувственно познанное — это представления о вещах, какими они нам являются,
а представления рассудочные — как они существуют [на самом деле]» (2,
390). Различение чувственности и интеллекта (рассудка) ставится Кантом в зависимость от деления бытия на мир феноменов и мир. ноуменов — умопостигаемых предметов. Причем, подчеркивает Кант, человеку не дано созерцания умопостигаемых
предметов, а только познание их символов.
Формальными принципами
чувственно воспринимаемого мира Кант считает время и пространство. Если в прежних своих работах он отстаивал идею
объективности пространства и времени, во многом предвосхищая современные
материалистические представления об этих
категориях, то в диссертации 1770 г. он встает на диаметрально противоположную
точку зрения. «Время не есть что-то объективное и реальное:
оно не субстанция, не акциденция, не отношение, а
субъективное условие, по природе человеческого ума необходимое для координации между собой всего чувственно
воспринимаемого по определенному закону, и чистое созерцание» (2, 400).
То же самое Кант утверждает относительно пространства.
Поставив вопрос о том, врождены ли оба этих понятия
или приобретены, Кант называет «философией лентяев» учение о врожденных
понятиях. Понятия пространства и времени, по его мнению, приобретены, но не путем отвлечения от чувственных объектов, а
посредством абстрагирования от самого действия ума, координирующего наши ощущения. Аналогичным образом Кант трактует вопрос о понятиях
«чистого рассудка» — возможности, бытия, необходимости, субстанции, причины.
Они также не врождены, но в них нет ничего опытного, они отвлечены «от присущих уму законов» (2, 394).
По
Канту, возможна лишь наука о чувственных объектах.
Познание внешних по отношению к нам феноменов есть физика, познание внутренних
— эмпирическая психология, познание самих форм созерцания
37
есть
чистая математика. Но, напоминает Кант, в науке «дается не
реальное уразумение, а только логическое» (2, 397).
Различение реального и логического оснований, которое
раньше у Канта выражало лишь тенденцию агностицизма,
теперь доводится до крайности. Таким образом, эволюция взглядов раннего Канта заканчивается переходом на позиции агностицизма. В его творчестве начинается новый период, наиболее значительным произведением
которого является «Критика чистого разума».
А. Арсеньев, А. Гулыга.
ОПЫТ НЕКОТОРЫХ РАССУЖДЕНИЙ ОБ ОПТИМИЗМЕ
1759
![]()
С тех пор как люди создали
себе о боге надлежащее понятие, не было, быть может, более естественной
мысли, чем мысль о том, что если бог делает выбор, то выбирает только
наилучшее. Про
41
сятся
к нам из уст черни. Одним словом, некоторые познания ценятся высоко не потому,
что они правильны, а потому, что они нам чего-то стоят; дешево же стоящая истина не вызывает к себе большого интереса. Поэтому
сначала считали необыкновенным, затем прекрасным и, наконец, правильным
утверждение о том, что из всех
возможных миров богу было угодно избрать именно этот мир не
потому, что он лучше других ему подвластных, а просто потому, что ему так было
угодно. Но почему же тебе, предвечному, было угодно, спрашиваю
я смиренно, худшее предпочесть лучшему? И люди в уста всевышнего вложили ответ:
«Так мне было угодно, и этого достаточно».
Я выскажу теперь несколько
беглых замечаний, которые могут облегчить решение возникшего здесь спора.
Господа слушатели, быть может, найдут их полезными для лучшего усвоения моих
лекций, посвященных этому предмету. Итак, я начинаю со следующих умозаключений.
Если бы нельзя было мыслить
один мир, над которым невозможно было бы мыслить другой мир, еще лучший, то оказалось бы, что высший ум не мог бы иметь познания о всех возможных мирах; но последнее ложно, стало быть, ложно и первое. Правильность большей посылки явствует из следующего: если по поводу
каждой отдельной идеи, какую только можно составить себе о каком-нибудь мире,
можно сказать, что возможно представление о некотором еще лучшем мире, то это может быть сказано и о всех идеях миров в божественном разуме; следовательно, возможны лучшие
миры, чем все те, которые познаются богом, и бог имел познание не о всех возможных мирах. Я полагаю, что с меньшей посылкой согласится каждый истинно верующий, и заключаю, что было бы ложно утверждать, будто нельзя себе мыслить один мир, над которым невозможно мыслить другой мир, еще лучший, или, что то же самое, будто возможен мир, над которым нельзя мыслить никакой лучший мир. Отсюда не следует,
правда, что только один из всех возможных миров должен быть наисовершенным,
ведь если бы два или большее число их были бы по своему совершенству
42
равны, то, хотя и нельзя было
бы мыслить себе мир, лучший, чем любой из этих двух, все же ни один из них не был бы наилучшим, потому что оба они обладают одинаковой
степенью достоинства.
Дабы иметь право сделать это
второе умозаключение, я воспользуюсь рассуждением, которое кажется мне новым. Да позволено мне будет прежде всего
полагать абсолютное совершенство* вещи —
если ее рассматривать саму по себе, безотносительно к какой-либо цели — в
степени ее реальности. В этом предположении я имею на своей стороне согласие
большинства философов1 и очень легко мог бы доказать
правильность этого понятия. И вот я утверждаю, что одну реальность, как
таковую, нельзя отличить от другой реальности. В самом деле, если вещи
отличаются друг от друга, то это
благодаря тому, что одна обладает тем, чего в другой нет. Если же
рассматриваются реальности, как таковые, то каждый признак в них положителен; а
если бы эти реальности отличались друг от друга как
реальности, то в одной из них должно было бы заключаться нечто положительное, чего не было бы в другой, и,
следовательно, в одной из них мыслилось бы нечто отрицательное, благодаря чему
ее можно было бы отличить от другой, т. е. они сравнивались бы между собой уже
не как реальности, что, однако, как раз и требовалось.
Поэтому одна реальность отличается от другой не чем иным, как взаимно зависящими отрицаниями, отсутствием,
пределами, т. е. не своими качествами (qualitate),
а величиной (gradu). Поэтому если вещи отличны друг от друга, то они всегда различаются лишь по степени их реальности и различающиеся между собой вещи никогда не могут
43
иметь
одинаковой степени реальности. а раз это так, то такой
одинаковой степенью реальности никогда не могут
обладать и два различных мира; другими словами, невозможны два мира, которые
были бы одинаково хороши, одинаково совершенны. Г-н Рейнгард2 в своем сочинении, представленном на соискание премии,
говорит об оптимизме: один мир может, пожалуй, иметь такую
же сумму реальностей, как и другой, но только иного
рода, и тогда это были бы различные миры и все же одинакового совершенства.
Однако он ошибается, думая, будто реальности одинаковой степени все же могут различаться друг от друга по качеству (qualitate).
Дело в том, повторяю, что если предположить, что они таковы, то в одной
реальности было бы нечто такое, чего нет в другой, а это значит, что они
различались бы между собой определениями а и non-A, одно из которых всегда есть подлинное отрицание,
следовательно, различались бы своими пределами и степенью, а не своим качеством: ведь отрицания никогда не могут
быть отнесены к числу качеств реальности, они лишь
ограничивают их и определяют их степень. Это рассуждение
абстрактно и требовало бы, пожалуй, разъяснений,
но я их откладываю до другого подходящего случая.
Мы продвинулись в нашем
рассуждении настолько далеко, что можем уже с полным правом признать, что из всех возможных миров только один наисовершенен, так что нет ни одного мира, который превосходил бы его, и ни одного, который был бы ему равен. Является ли этот мир действительным или нет — к этому вопросу мы скоро вернемся, а теперь попытаемся пролить
несколько больше света на все изложенное.
Существуют величины, из
которых ни одну нельзя мыслить так, чтобы [наряду с ней] нельзя было мыслить другую, еще большую. Самое большое число, движение, обладающее наибольшей скоростью, суть именно величины
такого рода. Даже божественный разум не мыслит их, так как они представляют
собой, как замечает Лейбниц, обманчивые понятия (notiones deceptrices), относительно
которых кажется, будто посредством них нечто
мыслится, но которые в действительности ничего
44
не
представляют. И вот противники оптимизма3 говорят:
совершеннейший из всех миров, как и наибольшее из всех чисел, — противоречивые
понятия, так как к некоторой сумме реальности в каком-нибудь мbре можно
прибавить еще несколько реальностей, точно так же как к
сумме единиц в каком-то числе могут быть прибавлены
еще другие единицы, так что никогда не получится
самое большое число.
Не говоря уже о том, что нет оснований рассматривать
степень реальности какой-либо вещи по сравнению с меньшей
реальностью так, как рассматривают число по сравнению с
составляющими его единицами, я приведу здесь лишь следующие соображения, дабы
показать, что данный пример не очень-то подходит: невозможно никакое самое большое число, но возможна наибольшая
степень реальности, а она пребывает в боге. Это, заметьте, первое соображение, почему здесь ошибочно пользуются понятием числа. Понятие наибольшего конечного числа есть абстрактное понятие простого множества, которое конечно, но к которому при всем том можно примыслить еще нечто и которое от этого не перестает быть конечным; это, следовательно, такое множество, в котором конечность величины не
определена; оно ставит лишь общие границы, в силу чего ни одному из этих чисел
нельзя приписать предикат наибольшего [числа]; в самом деле, как бы ни мыслилось
определенное множество, прибавлением оно может увеличить любое конечное число, сохраняя свою конечность.
Степень реальности мира, напротив, есть нечто совершенно определенное; границы, поставленные максимальному совершенству мира, установлены не только в общем смысле, но и такой степенью [реальности], которая
необходимо должна отсутствовать в нем. Независимость, самодовление, вездесущность, зиждительная сила и т. д. суть такие совершенства, которыми не может обладать никакой мир. Здесь дело обстоит не так, как в
математической бесконечности, где конечное посредством постоянно продолжаемого
и всегда возможного увеличения степени связано с бесконечным по закону
непрерывности. Здесь расстояние бесконечной реальности от конечной установлено определенной величиной,
45
составляющей
их различие. И мир, находящийся яа той ступени
лестницы существ, где начинается пропасть, которая
содержит в себе неизмеримые степени совершенства, возвышающие предвечного над
каждым сотворенным существом, — этот мир, говорю я, есть совершеннейший из
всего, что конечно.
Мне кажется, что теперь можно
с достоверностью, которой противники по крайней мере не могут противопоставить
ничего большего, понять следующее: из всего конечного, что было возможно, мир,
обладающий величайшим совершенством, есть высшее конечное благо, единственно достойное того, чтобы высшее из всех
существ выбрало его и чтобы вместе с бесконечным составить самую большую сумму
[реальности], какая только возможна.
Если изложенное выше будут
считать доказанным и если со мной согласятся, что из всех возможных миров один необходимо есть совершеннейший, то больше я спорить не буду. Не всякое расхождение во мнениях обязывает нас дать подробные разъяснения. Если бы кто-либо стал утверждать, что высшая мудрость могла худшее предпочесть лучшему или что высшая благость могла склониться к меньшему благу скорее, чем к большему,
что также было в ее власти, то на этом я не буду больше задерживаться. Философию весьма плохо
применяют, если ею пользуются для того, чтобы извратить принципы здравого ума, и ей оказывают мало чести, если ее оружие считают нужным пустить в ход против подобных извращений.
Тот, кто счел бы для себя
слишком неудобным входить в детали всех тонких вопросов, которые мы до сих пор ставили и разрешали, мог бы, правда, с несколько меньшей школьной ученостью, но, быть может, с помощью
не менее обоснованного суждения здравого смысла убедиться в той же самой истине
с гораздо большей легкостью. Такой человек сделал бы следующее
умозаключение: совершеннейший мир возможен, потому что он действителен, и он действителен, потому что создан самым мудрым и самым благим решением. Или я вообще не понимаю, что такое выбор, или выбор происходит по собственному желанию; но то, чего желают, нравится;
46
однако
нравиться и признавать за благо, предпочитать и считать
наилучшим — все это, по моему мнению, только
различные выражения одного и того же. Именно потому, что
из всех возможных миров, которые бог знал, он избрал
только этот один мир, надо полагать, что он считал его
наилучшим, и так как его выбор никогда не бывает
ошибочным, то, значит, это так и есть в действительности. Если бы даже было
возможно, чтобы высшее существо сделало свой выбор в силу некоей выдуманной свободы, о которой иные разглагольствуют, и по ничем не вызванному желанию — не знаю, по какому, —
предпочло худшее намного лучшему, то и тогда оно этого не сделало бы. Может прийти в голову мысль, что нечто подобное могло бы быть совершено каким-то
сказочным божеством низшего порядка, но богу богов подобает только такое дело,
которое его достойно, т. е. наилучшее из
всего возможного. Быть может, большее соответствие
с божественными свойствами есть основание решения, которое дало этому миру
существование, не принимая в соображение его особого внутреннего
достоинства. Пусть так, но и в этом случае остается достоверным, что он совершеннее
всех других возможных миров. В самом деле, так как из результата можно
усмотреть, что все другие миры находились в меньшем соответствии со свойствами
божественной воли, а в боге все есть
реальность, с этой же реальностью ничто не находится в большей гармонии, чем
то, что само обнаруживает большую реальность, то ясно, что наибольшую реальность, которая может быть присуща миру, нельзя найти ни в каком другом мире, кроме настоящего. Далее, невозможность не избрать то, что отчетливо и правильно
признается наилучшим, есть, быть может, принуждение воли и необходимость,
упраздняющая свободу. Конечно, если свобода есть нечто противоположное этому, если здесь перед нами два расходящихся пути в лабиринте трудностей, где я должен принимать решение
с опасностью ошибиться, те мне не о чем долго размышлять.
На что нужна такая свобода, которая наилучшее из
того, что можно было создать, отсылает в область вечного
ничто, чтобы вопреки всякой мудрости повелеть злу
чем-то быть. Если я во что бы то ни стало
47
должен
выбирать между заблуждениями, я предпочту ту благую
необходимость, при которой чувствуют себя так хорошо и
из которой может проистечь только наилучшее. Вот почему я сам — а со мной, быть
может, и часть моих читателей — убежден в этом, а я в то же время рад возможности рассматривать себя как гражданина
такого мира, который не мог быть лучше, чем он есть.
Избранный наилучшим из всех существ быть незначительным звеном в самом
совершенном из всех возможных замыслов, я, сам по себе ничего не стоящий и
существующий лишь ради целого, тем более ценю свое
существование, что был предназначен занять некоторое
место в самом лучшем Из замыслов творения. Я
взываю ко всякому творению, не лишенному достоинства, воскликнуть: слава нам,
мы существуем и доставляем радость творцу. Бесконечные пространства и вечность
откроют богатства творения во всем их объеме
только взору всеведущего. Я же с той точки, где я
нахожусь, вооруженный тем пониманием, которое дано
моему слабому рассудку, постараюсь объять своим
взором возможно больше и еще сильнее проникнуться
мыслью, что целое есть наилучшее и что все
хорошо ради целого.
* *
*
В
предстоящем полугодии я, по моему обыкновению, буду логику
излагать по Мейеру4, метафизику, а также этику — по
Баумгартену5, физическую географию — по моей собственной рукописи; для чистой математики, которую я начинаю читать, а также для механических наук будет отведен особый час, и обе эти дисциплины я буду излагать по Вольфу. Распределение лекций по часам будет объявлено особо. Известно уже, что каждую
из этих наук я успеваю изложить за полугодие, а если мне этого времени не
хватает, то оставшуюся часть я излагаю за несколько часов в следующем
полугодии.
![]()
Милостивая государыня!
Если бы люди среди сутолоки
повседневных дел и развлечений имели обыкновение посвящать несколько серьезных мгновений поучительным размышлениям, к чему побуждает их ежедневный пример тщетности наших
предположений относительно судьбы наших сограждан, то их радости были бы, быть
может, менее шумными, но место этих радостей заняла бы спокойная ясность души, для которой никакие случайности не были бы уже неожиданными, и даже тихая меланхолия — это нежное
чувство, волнующее благородное сердце, когда оно в уединенной тиши обдумывает ничтожность того, что у нас обычно считается великими важным, — заключала бы в себе больше истинного счастья, чем бурные
увеселения легкомысленного человека или громкий смех глупца.
Но громадное множество людей
жадно вмешивается в толкотню тех, кто на мосту, который перекинут
провидением через часть пропасти, [называемой] вечностью, и который мы называем жизнью, гоняется за
мыльными пузырями, нимало не заботясь о том, чтобы обратить внимание на подъемные доски, сбрасывающие их одного за другим в глубину, мерой которой служит бесконечность
и которая в конце концов поглощает их самих в их неудержимом беге. Один древний поэт1 вносит в изображение человеческой жизни трогательную
черту, описывая только что родившегося человека. Ребенок, говорит
51
он,
тотчас же после появления на свет наполняет воздух
печальным криком, как это и подобает существу, которое должно вступить в мир,
где его ожидает столько бедствий. Однако с годами этот человек
научается соединять с умением делать себя несчастным умение скрывать это от самого себя, набрасывая завесу на печальные события жизни и отдаваясь легкомысленной
беспечности при наличии множества окружающих его зол, которые
все же в конце концов неотвратимо приводят его к гораздо более скорбному чувству.
И хотя из всех зол он больше всего боится смерти, он, как
видно, проявляет очень мало интереса к смерти своих сограждан, за исключением
разве тех случаев, когда более тесные связи особенно привлекают его внимание. В такие времена, когда какая-нибудь свирепая война открывает затворы мрачной бездны, чтобы обрушить на человеческий род все напасти, особенно хорошо видно, как ставший привычным образ нужды и смерти внушает даже тем, кому угрожает и то и другое, такое холодное безразличие, что люди уже мало обращают внимания на судьбу своих братьев. Но когда в спокойной гражданской
жизни из среды тех, кто нам близок или кого мы любим, у
кого было столько же или еще больше, чем у нас,
надежд, кто с таким же рвением, как и мы, стремился к
осуществлению своих намерений и замыслов, — когда они, говорю я, по решению
того, кто всемогуще повелевает всем, в самом разгаре их порывов постигнуты
роком, когда смерть в торжественной тишине приближается
к одру больного, когда этот исполин, перед
которым в ужасе содрогается природа, подходит тихими
шагами, чтобы заключить больного в свои железные объятья, — тогда просыпается
чувство тех, кто обычно заглушает его всякого рода развлечениями. Скорбное чувство из глубины сердца выражает то, что когда-то в собрании римлян было выслушано с таким одобрением, потому что оно в столь сильной степени отвечает нашему общему ощущению: я человек и все,
что выпадает на долю человека, не может меня миновать. Друг или
родственник [умершего] говорит самому себе; я нахожусь в
сутолоке дел и под гнетом моих житейских обязанностей; в таком же положении
недавно на-
52
ходился
также мой друг; я спокойно и беззаботно наслаждаюсь своей жизнью, но кто знает,
надолго ли? Я с удовольствием провожу время со своими друзьями и
ищу его среди них.
Ihn аber
hält аm ernsten Orte,
Der
nichts zurücke lässt,
Die
Ewigkeit mit starken аrmen fest.
Haller
[Но его крепко держит
вечность в своих сильных руках
В том суровом месте,
Из которого никто не
возвращается.
Галлер2]
Такие серьезные мысли
вызывает у меня, милостивая государыня, преждевременная смерть Вашего
благородного сына, которого Вы теперь так справедливо оплакиваете. Как один из его бывших учителей, я
воспринимаю эту потерю с глубокой болью, хотя, конечно, я вряд ли в состоянии
выразить ту огромную печаль, которая должна охватить тех, кто с этим
подававшим надежды молодым человеком был связан более тесными узами. Милостивая
государыня, разрешите мне к немногим
строкам, в коих я стремился выразить уважение,
которое я питал к этому своему бывшему слушателю,
присовокупить еще несколько мыслей, возникших у меня в моем настоящем душевном
состоянии. Каждый человек намечает собственные планы своего
назначения в этом мире. Искусства, которым он хочет
научиться, почет и удобства, которых он от этого ожидает в будущем, прочное счастье в супружеской жизни и множество удовольствий или начинаний — таковы картины волшебного фонаря, которые он с такои
изобретательностью рисует себе и заставляет в игре
последовательно проходить перед своим живым воображением;
смерть, замыкающая эту игру теней, виднеется
лишь в туманной дали, ее заслоняет и делает незаметной свет, распространяющийся
над более привлекательными местами. Мы предаемся подобным мечтаниям, а в это время наша истинная судьба ведет нас совершенно другими путями. Жребий, действии-
53
тельно
выпадающий на нашу долю, бывает редко схож с тем,
который мы сами себе начертали; на каждом шагу мы
обманываемся в своих ожиданиях; между тем воображение, несмотря ни на что,
продолжает свое дело и без устали строит все новые планы, пока смерть, все еще кажущаяся далекой, не кладет внезапно конец всей этой игре. Если человек из этого мира сказок, который он сам себе создал в своем воображении и в котором он так охотно пребывает, — если из этого мира рассудок его приводит в тот мир, куда он в действительности
поставлен провидением, тогда то поразительное несовпадение, которое он здесь
встречает, смущает его и совершенно расстраивает его замыслы, загадывая ему неразрешимые загадки. Зародыши успеха подающей надежды юности часто безвременно увядают под бременем
тяжелых болезней, и незваная смерть перечеркивает все замыслы и надежды.
Человек, располагающий практическим умением жить, имеющий успехи, владеющий богатством, — это не всегда тот, кому
провидение поставило самую далекую цель жизни, чтобы он мог как следует пользоваться плодами всех этих благ. Самые нежные узы дружбы, браки, обещающие полноту счастья, часто безжалостно обрываются слишком
ранией смертью; между тем бедность и нищета обычно тянут
длинную нить на прялке парк, и многие очень долго
живут как будто лишь на горе себе и другим. Однако в этом кажущемся
противоречии высший властитель мудрой рукой выделяет каждому его жребий.
Конец нашего назначения в этом мире он скрывает в
непроницаемой тьме, занимает нас нашими стремлениями, утешает нас надеждой и,
держа нас в счастливом неведении будущего, направляет наши усилия также и на
обдумывание наших намерений и замыслов независимо
от того, должны ли все они скоро прийти к кощу или
мы находимся в самом начале их:
Dass Jeder
seinen Kreis vollende, den ihm der
Himmel аusersehn.
Pope
[Чтобы каждый завершил свой круг,
Предназначенный для него небом.
Поп]
54
Под влиянием таких
размышлений мудрый человек (но как
редко встречаешь такого!) обращает внимание преимущественно
на свое великое назначение после смерти. Он
не теряет из виду обязательств, возлагаемых на него положением, в которое
поставило его в этом мире провидение. Разумный в своих замыслах, но без всякого упрямства, уверенный в исполнении своих надежд, но чуждый нетерпения, скромный в своих
желаниях, ничего никому не приказывая, полный доверия, но ни на чем не
настаивая, он ревностен в исполнении своих обязанностей, но с христианским
смирением готов покориться велению всевышнего, если тому будет угодно среди его порывов отозвать его со сцены, на которую он был поставлен. Пути провидения
везде, где мы хоть в какой-то степени в состоянии их постичь, всегда мудры и достойны преклонения, и не должны ли они быть таковыми в еще большей мере там, где мы их постичь не можем? Преждевременная смерть тех, на кого мы возлагали столько надежд, повергает нас в ужас; а между тем как часто это бывает
величайшей милостью неба! И не заключалось ли несчастье
многих людей главным образом в том, что смерть
приходила к ним слишком поздно, что она слишком
медлила, вместо того чтобы после славных выступлений их в жизни вовремя
положить ей конец?
Умирает подающий надежды
юноша, и мы думаем, как много несбывшегося счастья исчезает вместе с ним! Однако в книге судеб это, быть может, звучит иначе. Соблазны, уже издали надвигавшиеся, чтобы сломить еще не вполне окрепшую добродетель, печали и
превратности судьбы, которыми грозило будущее, — всего этого избежал этот счастливец, которого ранняя смерть увела от нас в благословенный час, между тем как
друзья и родственники, не ведая грядущего, оплакивают потерю тех лет, относительно которых они воображают, что когда-нибудь они послужили бы славным венцом жизни близкого им человека. Прежде чем завершить эти свои размышления, я хочу дать небольшое описание
жизни и характера покойного. То, что я здесь изложу, известно мне из рассказов
его домашнего учителя,
55
весьма
ему преданного и горько его оплакивающего, и из моего
собственного общения с ним. И как много есть еще
других прекрасных свойств, о которых знает лишь тот,
кто способен проникнуть в глубину сердца, и которые тем
благороднее, чем меньше они бросаются в глаза!
Господин Иоганн Фридрих фон
Функ родился 4 октября 1738 г. в знатной дворянской семье в Курляндии. С самого детства он никогда не обладал хорошим
здоровьем. Он получил весьма тщательное воспитание, обнаружил большое
прилежание в учении, его сердце было как бы
создано природой для взращения в нем благородных
свойств. 15 июня 1759 г., подготовленный домашним
учителем, он вместе со своим младшим братом вступил в
здешнюю академию. Со всей готовностью он предстал
перед своим экзаменатором — тогдашним деканом. Этот экзамен сделал честь как
его прилежанию, так и стараниям его домашнего учителя. Он посещал лекции господина советника консистории профессора Теске3, ныне главного ректора университета,
лекции доктора правовых наук господина Функа4,
а также мои с прилежанием, которое служило примером для других. Он жил уединенно и скромно и этим поддерживал
силы своего слабого организма, пока к концу февраля
этого года здоровье его не было настолько подорвано, что его уже не могли спасти
ни уход и заботы, ни старания искусного врача. И 4 мая этого года он, подготовив себя с твердостью и пламенным благочестием
христианина к назидательной кончине, в присутствии своего верного духовника
тихо и мирно почил и соответственно своему званию был похоронен в здешнем кафедральном соборе.
Это был человек мягкого и
спокойного нрава, скромный, приветливый, благожелательный, горячо стремившийся
стать украшением своей семьи и надлежащим образом
развить свои способности на пользу отечеству. Никогда
никого не огорчал он ничем, кроме своей смерти. Он
был искренне благочестив. Он стал бы честным гражданином этого мира, но
решением всевышнего было определено, чтобы он сделался гражданином небес.
Его жизнь была слишком коротка и заставила нас
56
жалеть
о том, что осталось невыполненным и чего лишила нас ранняя его смерть.
Он заслуживал бы быть
поставленным в пример тем, кто хочет
достойно провести годы своего воспитания и своей
юности, если бы скромные заслуги вызывали в легкомысленных
умах такое же стремление к соревнованию, как и сияющие ложным блеском свойства
тех, коих тщеславие направлено лишь на видимость добродетели
без заботы о сути ее. Его оплакивают те, к кругу которых он принадлежал, его
друзья и знакомые.
Таковы, милостивая
государыня, черты характера Вашего при
жизни столь заслуженно любимого сына, которые, как
бы слабо они ни были обрисованы, должны все же усилить грусть, испытываемую
Вами по поводу его утраты. Однако именно эти оплакиваемые свойства способны в
такой потере послужить и к немалому утешению,
ибо только для тех, кто самую важную из всех целей
легкомысленно упускает из виду, может быть безразлично,
в каком состоянии они своих ближних отдают вечности. Я не буду утруждать Вашу
милость подробным изложением причин для утешения в таком горе. Смиренное отрешение от собственных
желаний, если премудрому провидению угодно решить иначе, и горячее стремление христианина к той же блаженной цели, которой до нас уже достигли другие, могут больше дать для успокоения сердца, чем все соображения сухого и бессильного красноречия.
Я имею честь быть с
глубочайшим уважением, высокородная госпожа, милостивая государыня,
Вашей
милости покорнейшим слугой.
И. Кант
Кёнигсберг,
6 июня 1760.
ЛОЖНОЕ
МУДРСТВОВАНИЕ В ЧЕТЫРЕХ ФИГУРАХ СИЛЛОГИЗМА
1762
![]()
§ 1
Общее понятие о природе
умозаключений
Высказать суждение —
значит сравнить нечто как признак с
какой-нибудь вещью. Сама вещь есть субъект, признак —
предикат. Сравнение их выражается соединительным словом есть или суть.
Если это слово употребляется просто, то оно обозначает предикат как признак
субъекта; если же оно сопровождается знаком отрицания,
то оно обозначает предикат как признак, противопоставленный
субъекту. В первом случае получается
суждение утвердительное, во втором — отрицательное. Легко понять, что, называя
предикат признаком, мы вовсе не говорим, что этот предикат есть признак субъекта, ибо так обстоит дело только в утвердительном
суждении; это имеет тот смысл, что предикат рассматривается как признак вещи,
хотя бы он и противоречил субъекту в отрицательном суждении о нем. Так, дух есть вещь, которую я мыслю; сложное
— признак чего-то; суждение дух не есть нечто сложное представляет этот признак как противоречащий этой вещи.
То, что составляет признак
признака вещи, называют опосредствованным признаком ее. Так, необходимый
есть непосредственный признак бога, неизменный же — признак необходимого
и опосредствованный признак бога. Не трудно понять, что непосредственный
признак занимает место промежуточного признака (nota intermedia)
между более отдаленным признаком и самой
вещью, так как только через него более отдален-
61
ный
признак сравнивается с самой вещью. Но через промежуточный
признак можно сравнить с вещью некоторый признак также и отрицательно, признав,
что нечто противоречит непосредственному признаку вещи. Случайное,
как признак, противоречит необходимому, необходимое
же есть признак бога, и, следовательно, через
промежуточный признак здесь достигается познание, что случайное бытие
противоречит богу.
Только теперь я могу
установить реальное определение умозаключения. Всякое суждение через опосредствованный
признак есть умозаключение, или, другими словами, умозаключение есть
сравнение признака с вещью через промежуточный признак. Этот промежуточный
признак (nota intermedia) принято называть средним термином (terminus medius) умозаключения;
другие термины умозаключения достаточно известны.
Чтобы ясно познать отношение
признака к вещи в суждении человеческая душа есть дух, я
пользуюсь промежуточным признаком разумный так, что через него признак быть духом я рассматриваю как опосредствованный
признак человеческой души. Три суждения необходимо
должны здесь быть, а именно:
1. Быть духом есть признак
разумного;
2. Разумное есть признак
человеческой души;
3. Быть духом есть признак
человеческой души,
ибо
сравнение более отдаленного признака с самой вещью
возможно только через эти три действия.
В форме суждений они гласили
бы так: все разумное есть дух, душа человека разумна; следовательно, душа человека есть дух. Это и есть утвердительное умозаключение.
Что касается отрицательных умозаключений, то столь же легко бросается в глаза,
что именно потому, что противоречие между предикатом и субъектом я не всегда усматриваю с достаточной ясностью, мне,
насколько это возможно, приходится прибегать к вспомогательному средству, чтобы
облегчить себе понимание через промежуточный признак. Предположим, что дано отрицательное суждение продолжительность
существования бога не может быть измерена никаким временем,
62
и допустим, я не нахожу, что этот предикат при таком непосредственном сравнении его с субъектом дает мне достаточно ясную идею противоречия; тогда я прибегаю к
такому признаку, который я могу непосредственно представить
себе в этом субъекте, сравниваю предикат с ним и
через него — с самой вещью. Быть измеримым посредством времени противоречит всему неизменному, неизменное же есть признак бога; следовательно… и т. д. Будучи выражено формально, это умозаключение гласило бы: ничто неизменное не может быть измерено посредством времени, продолжительность существования
бога неизменна; следовательно… и т. д.
§ 2
О высших правилах всех
умозаключений
Из приведенного выше мы
узнаем, что первое и общее правило всех утвердительных умозаключений таково: признак
признака есть признак самой вещи (nota notae est etiam nota rei ipsius); для всех
отрицательных суждений: что́ противоречит признаку вещи,
противоречит и самой вещи (repugnans
notae repugnat rei ipsi). Ни одно из
этих правил не доступно дальнейшему доказательству, потому что доказательство
возможно только через одно или несколько умозаключений; желать же доказать высшее правило всех умозаключений значило
бы поэтому допускать порочный круг. Но что именно эти
правила содержат в себе общее и последнее основание
всех возможных способов умозаключения, ясно из
того, что те правила, которые до сего времени всеми
логиками считались первыми правилами всех умозаключений,
должны заимствовать единственное основание
своей истинности из правил? указанных здесь нами. Dictum de
63
нака, а тем самым и признак самих вещей, от которых он был обособлен, т. е. он присущ также и всем низшим понятиям, в нем содержащимся. Всякий, кто хоть сколько-нибудь преуспел в логических познаниях, легко поймет, что это Dictum обладает истинностью только в
силу этого основания и что, стало быть, оно подчинено
нашему первому правилу. Dictum de nullo находится в точно таком же отношении к нашему второму
правилу: что́ относительно понятия
отрицается во всем его объеме, отрицается и относительно всего того, что содержится в этом понятии. Ибо то понятие, в
котором содержатся эти другие понятия, есть только признак, от них
обособленный. Но то, что противоречит этому признаку,
противоречит и самим вещам; следовательно, то, что противоречит более широким
понятиям, должно противоречить и понятиям, подчиненным тому же понятию.
§ 3
О чистых и смешанных
умозаключениях
Общеизвестно, что имеются
непосредственные заключения, когда из одного суждения истинность другого
познается непосредственно, без среднего термина. Именно поэтому такие заключения вовсе не есть
умозаключения; например, из положения всякая материя изменчива
прямо следует: что́ неизменчиво, не есть материя.
Логики насчитывают несколько различных видов таких
непосредственных выводов; среди них наиболее
важные суть, несомненно, те, которые получаются посредством логического обращения
и противопоставления.
И вот если умозаключение
строится только посредством трех предложений по правилам, только что изложенным
для всякого умозаключения, то такое умозаключение я называю чистым умозаключением
(ratiocinium purum); если же оно возможно
только через соединение между собой более чем трех суждений, то оно умозаключение смешанное (ratiocinium hybridum). Допустим, в. самом деле, что
между тремя основными предложениями будет вставлено еще заключение, выведен-
64
ное
из них непосредственно, так что, следовательно, у нас будет на одно предложение
больше, чем допускается в чистом умозаключении. Это и будет ratiocinium hybridum. Допустим, например, что
заключают следующим образом:
Ничто
тленное не есть простое,
Следовательно, ничто простое
нетленно;
Душа
человека есть нечто простое,
Следовательно, душа человека
нетленна.
Здесь, собственно, нет
сложного умозаключения, так как таковое
должно состоять из нескольких умозаключений; данное же умозаключение содержит в
себе кроме того, что требуется для [чистого] умозаключения, еще непосредственное заключение через противопоставление
и состоит из четырех предложений.
Но если бы выраженными были
даже всего только три суждения, а вывод из этих суждений был бы возможен
только через допустимое логическое обращение, противопоставление или другое логическое изменение одной из посылок, — все равно умозаключение было бы ratiocinium hybridum, потому что дело здесь вовсе не в том, что́ именно высказывают, а в том, что́
неизбежно при этом нужно мыслить, чтобы мог иметь место правильный
вывод. Допустите, в самом деле, что в умозаключении
Ничто тленное не есть
простое,
Душа человека есть нечто
простое;
Следовательно, душа человека
нетленна
правильный
вывод возможен лишь постольку, поскольку посредством совершенно правильного
обращения большей посылки я могу сказать: ничто тленное не просто; следовательно, ничто простое нетленно; тогда умозаключение остается смешанным, потому что сила вывода в нем основывается на молчаливом присовокуплении
этого непосредственного заключения, которое здесь
необходимо хотя бы подразумевать.
65
Лишь в так называемой
первой фигуре возможны чистые умозаключения,
в трех остальных — только смешанные
Если умозаключение строится
непосредственно согласно одному из двух приведенных нами высших правил, то оно
всегда представляет собой умозаключение по первой
фигуре. Первое правило гласит: признак В признака C, приписываемого некоторой вещи а, есть признак самой этой вещи а. Отсюда берут начало три предложения:
5
|
C имеет своим признаком B, A
имеет
своим признаком C; Следовательно
своим признаком. |
Все, что разумно [C], есть дух [B]; Человеческая душа [A] разумна [C] Следовательно, человеческая душа [A]
есть дух. |
Очень легко построить много
подобных предложений, а также показать, как к некоторым из них применяются
правила отрицательных заключений, чтобы убедиться, что, поскольку они соответствуют
этим правилам, они всегда строятся по первой фигуре, и это дает мне право избежать здесь излишних подробностей. Легко
понять также, что эти правила умозаключений не требуют,
чтобы кроме суждений, входящих в их состав, между ними
был бы для убедительности аргументации вставлен еще
и непосредственный вывод из того или другого из этих суждений. Вот почему умозаключение
по первой фигуре есть чистое умозаключение.
По второй фигуре возможны
только смешанные умозаключения.
Правило второй фигуры таково:
чему противоречит признак вещи, то противоречит и самой вещи. Это
положение истинно только потому, что то, чему противоречит признак, и само
противоречит этому признаку; а то, что противоречит
признаку, противоречит и самой вещи,
следовательно, то, чему противоречит признак вещи,
противоречит и самой вещи. Здесь совершенно
66
очевидно,
что только потому, что бо́льшую посылку как отрицательное суждение я могу здесь подвергнуть
простому обращению, возможен и переход через меньшую посылку к выводу. Поэтому обращение это должно быть здесь молчаливо подразумеваемо, иначе суждения
мои не приведут к выводу. Но предложение, полученное через обращение, есть
вставленное здесь непосредственное следствие из первой посылки, и умозаключение,
стало быть, состоит из четырех суждений и есть ratiocinium hybridum; например, если я скажу:
Ни
дух не делим;
Всякая
материя делима;
Следовательно, никакая
материя не есть дух,
то я
заключаю правильно, но вывод имеет здесь силу только
потому, что из первого предложения — ни один дух не делим
— путем непосредственного заключения вытекает: следовательно,
ничто делимое не есть дух, а отсюда все уже следует согласно общему правилу
всех умозаключений совершенно правильно. Но так как
доказательство способно привести к заключению только в силу этого непосредственного вывода, который отсюда следует, то сам этот вывод входит в него и делает его состоящим из четырех суждений:
Ни
один дух не делим;
Стало быть, ничто делимое не
есть дух;
Всякая
материя делима;
Следовательно, никакая
материя не есть дух.
По третьей фигуре возможны
только смешанные умозаключения.
Правило третьей фигуры
следующее: что́ присуще вещи или
противоречит ей, то также присуще или противоречит некоторым вещам, имеющим другой
признак этой вещи. Само это положение истинно только потому, что то суждение, в котором говорится, что некоторый другой признак присущ этой вещи, подлежит обращению (per
conversionem logicam). Только таким образом это
67
положение
и становится соответствующим правилу всех умозаключений:
Все
люди грешны;
Все
люди — разумные существа;
Следовательно, некоторые разумные
существа грешны.
Этот вывод возможен только
потому, что благодаря обращению per аccidens я из
меньшей посылки могу заключить так: следовательно, некоторые разумные
существа суть люди, а это уже дает возможность сравнить понятия по правилу всех умозаключений, однако только
через посредство вставленного непосредственного заключения мы и получаем здесь ratiocinium hybridum:
Все
люди грешны;
Все
люди — разумные существа;
Стало быть, некоторые
разумные существа суть люди;
Следовательно, некоторые
разумные существа грешны.
То же самое легко показать и
в отрицательном модусе этой фигуры, что я ради краткости опускаю.
По четвертой фигуре
возможны только смешанные умозаключения.
Способ заключения по этой
фигуре до такой степени неестествен и основывается на таком большом числе возможных промежуточных заключений, которые должны
быть здесь подразумеваемы как вставленные, что общее
правило его, которое я мог бы здесь предложить, было бы
весьма неясным и малопонятным. Поэтому я только
скажу, на каких условиях держится здесь сила вывода. В
отрицательных модусах этих умозаключений правильный
вывод возможен потому, что я могу менять здесь места
терминов, либо посредством логического обращения,
либо посредством противопоставления и, следовательно,
каждый раз за большей посылкой мыслить непосредственно. вытекающий из нее
вывод, так что эти выводы оказываются поставленными в те
отношения, которые они вообще должны иметь согласно общему правилу. Что же касается утвердительных мо-
68
дусов,
то я покажу, что по четвертой фигуре они вообще невозможны. Отрицательное умозаключение
по этой фигуре в том его виде, как оно, собственно, должно мыслиться, может быть представлено таким образом:
Ни
один глупец не есть ученый;
отсюда: ни один ученый не
есть глупец.
Некоторые
ученые благочестивы;
отсюда: некоторые
благочестивые люди — ученые.
Следовательно, некоторые
благочестивые люди неглупы.
Возьмем
теперь силлогизм второго рода:
Всякий
дух есть нечто простое;
Ничто
простое нетленно;
Следовательно, некое
нетленное есть дух.
Здесь совершенно ясно
бросается в глаза, что суждение, содержащее вывод, в том его виде, в каком оно перед нами, вообще не может вытекать из посылок. Это тотчас же становится ясным, как только мы сравним с ним средний термин. В самом деле, я не могу сказать: некое нетленное есть дух потому, что оно есть [нечто] простое, ибо из того, что нечто обладает простотой, не следует еще, что тем самым оно есть и дух. Далее, при этом никакими возможными логическими изменениями нельзя так составить посылки, чтобы предложение,
содержащее вывод или хотя бы какое-нибудь другое предложение, из которого этот
вывод вытекает как непосредственное следствие, могло бы быть из них выведено,
если только согласно раз навсегда установленному для всех фигур правилу термины должны быть размещены так, чтобы больший термин находился в большей, а меньший —
в меньшей посылке*. И хотя и окажется
возмож-
69
ным
получить предложение, из которого вытекает данный вывод, при условии, если я совершенно
переменю места терминов, так что меньшим станет тот, который раньше был большим термином, и наоборот, — все же при этом необходимо потребуется также полная
перестановка посылок, и таким образом полученное по четвертой фигуре мнимое умозаключение
хоть и будет содержать в себе [требуемый для умозаключения] материал, но не
будет обладать той формой, по которой оно должно быть
построено. И это вообще не будет согласным с логическим порядком
умозаключением, при котором только и возможно деление на четыре фигуры и которое в отрицательном модусе той же [четвертой] фигуры приобретает совершенно другой вид. Вот как должно выглядеть это умозаключение:
Всякий дух есть нечто простое;
Ничто простое нетленно;
Следовательно,
всякий дух нетленен;
А стало быть,
некое нетленное есть дух.
Заключить так совершенно
правильно, но такого рода умозаключение
отличается от умозаключения по первой фигуре не иным положением среднего
термина, а только тем, что здесь переменились места посылок и в предложении, содержащем вывод, переставлены бо́льший
и меньший термины*. Это, однако, вовсе не
означает изменения фигуры. С ошибкой подобного рода встречаемся мы в
приведенном месте «Логики» Крузия, где это право
менять места посылок дало автору повод думать, что
заключение строится в таком случае по четвертой фигуре, и притом естественнее,
[чем по первой].
70
Становится жаль тех усилий, которые великий ум
затрачивает на усовершенствование бесполезного занятия. Некоторой пользы можно было бы достичь только упразднением этого занятия.
§ 5
Логическое деление на четыре силлогистические фигуры есть ложное мудрствование
Нельзя отрицать, что по всем
этим четырем фигурам можно получать правильный вывод. Но бесспорно также и
то, что все они, за исключением первой фигуры, только
окольным путем — введением промежуточных заключений —
приходят к определенному выводу и что тот же самый
вывод через тот же самый средний термин мог бы быть
по первой фигуре получен в чистом, ни с чем не
смешанном виде. Здесь поэтому могла бы возникнуть мысль, что остальные фигуры в
худшем случае бесполезны, но не ложны. Однако если принять во
внимание, с какой целью они были изобретены и по сие время все еще составляют предмет преподавания, то придется судить иначе. Если бы вся задача состояла в том, чтобы множество заключений, перемешанных с главными суждениями, так переплести с ними, чтобы, в то время как одни из них были бы очевидны, а другие скрыты, потребовалось много искусства для усмотрения
их согласия с правилами умозаключения, то можно было бы,
конечно, в добавление к имеющимся примыслить еще много, правда, не фигур, но
разного рода загадочных и достаточно головоломных заключений. Но цель логики — не запутывать, а распутывать, не излагать что-то в скрытой форме, а достигать ясности в изложении. Вот почему эти четыре вида умозаключений
должны быть простыми, ни с чем не смешанными, без скрытых
побочных заключений; иначе за ними нельзя признать право стать предметом
логического изложения в качестве формул, дающих самое ясное понятие об умозаключениях. Несомненно также и то, что до сих пор все логики рассматривали их как простые умозаключения,
не требующие введения в них других суждений; иначе за ними никогда не было бы
признано
71
право
законного существования, Таким образом, остальные три способа заключения в качестве
правил умозаключения вообще истинны, но в качестве таких, которые содержали бы простые и чистые заключения, они ложны. Эта неправильность, считающая вполне законным запутывать наши воззрения, хотя подлинная цель логики — все приводить к простейшей форме
познания, становится тем большей, чем больше требуется особых правил (каковых в каждой фигуре имеется несколько),
для того чтобы при всех этих отклонениях самому себе
не подставить ногу. И действительно, если существовало
когда-либо совершенно бесполезное занятие, на которое было затрачено много
остроумия и расточено много мнимой учености, так именно это. Так называемые модусы, возможные в каждой
фигуре и обозначенные странными словами, да еще содержащие искусственно подобранные, таинственным значением преисполненные буквы, облегчающие превращение их в модусы первой фигуры, — все это для будущих времен послужит ценным и редкостным свидетельством способа мышления человеческого рассудка. Наступит время, когда, рассматривая эту почтенную ржавчину древности
как некоторого рода пережиток, более просвещенное потомство научится удивляться и сожалеть о кропотливых
и напрасных усилиях своих предков.
Легко найти и первую причину
такого мудрствования. Тот, кто впервые написал посылки силлогизма в три ряда друг под другом, стал рассматривать их как своего рода шахматную доску и сделал попытку уяснить себе, что могло бы получиться от перестановки в нем среднего термина, был, надо полагать, столь же изумлен,
заметив, что при этом получается некоторый разумный смысл, как бывает поражен и тот, кто в имени неожиданно
находит анаграмму. Но и та и другая радость есть ребячество, особенно если из-за этого забывают, что в отношении ясности ничего нового таким образом не
достигается, а, напротив, только еще увеличивается степень неясности. Но такова
уже, видно, участь человеческого рассудка: он либо склонен мудрствовать и тогда начинает гримасничать, либо дерзновенно гонится
за слишком великими предметами и тогда строит
72
воздушные замки. Из громадной толпы мыслителей один избирает себе предметом своих изысканий число 666, другой — первоначальное происхождение животных и растений или сокровенные пути провидения. Заблуждение,
в которое оба они впадают, весьма различного оттенка, как различны и их умы.
Вещей, достойных изучения,
становится в наши дни все больше и больше. Скоро наша способность окажется слишком слабой, а жизнь — слишком короткой, чтобы постигнуть
хотя бы только наиболее полезную часть их. Нам в
избытке предлагают богатства, и, для того чтобы найти
для них место, нам приходится выбрасывать много
ненужного хлама. Было бы лучше никогда и не обременять
себя им.
Я бы слишком польстил себе, если
бы решил, что эта работа, на которую я затратил всего несколько
часов труда, способна ниспровергнуть колосс, голова которого скрывается в
облаках древности, а ноги сделаны из глины.
Моей задачей было только дать отчет о том, почему в
моем изложении логики, в котором я не имею возможности
все расположить согласно моему собственному пониманию дела и вынужден многое
сделать в угоду господствующим вкусам, я буду особенно краток при рассмотрении этого предмета, чтобы время, которое я при этом выиграю, использовать для расширения действительно полезных знаний.
Существует и некоторое другое
применение силлогистики, состоящее в том, чтобы при ее помощи в ученом словопрении взять верх над неосмотрительным противником.
Но так как это относится к атлетике ученых — искусству,
которое в других отношениях, быть может, и весьма
полезно, но которое немного способствует интересам истины, то я и ее обхожу
здесь молчанием.
§ 6
Заключительное рассуждение
Мы знаем теперь, что высшие
правила всех умозаключений непосредственно ведут к тому порядку понятий,
который называется первой фигурой; что все другие перестановки среднего термина
дают возможность
73
делать
правильные выводы, лишь поскольку они с пси мощью легко
усматриваемых непосредственных следствий ведут к таким предложениям, которые
связаны между собой простым порядком первой фигуры; что
простые и несмешанные умозаключения возможны единственно только по одной
фигуре, потому что всегда именно только
первая фигура, замаскированная [непосредственными] следствиями, скрыто лежит в
основании всякого умозаключения и одна только она содержит в себе всю силу вывода, а перестановка терминов приводит к менее длинным или более длинным окольным путям, которые нужно пройти, чтобы получить вывод, и что вообще деление на фигуры, поскольку они должны
содержать только чистые, ни с какими промежуточными суждениями не смешанные заключения, ложно и
невозможно. Каким образом наши основные общие правила всех умозаключений
содержат в себе также и особые правила так называемой первой фигуры и каким образом, исходя из данного заключения и среднего
термина, можно тотчас же всякое умозаключение по любой из остальных фигур без лишних подробностей и формул сведения превратить в простой способ умозаключения по первой фигуре, так что получаем либо само
заключение, либо предложение, из которого оно вытекает как непосредственное следствие, — все это так легко усмотреть из нашего разъяснения, что я не буду на этом больше останавливаться.
Я не хотел бы закончить это
рассуждение, не присовокупив к нему несколько замечаний, которые и в других отношениях могли бы оказаться весьма полезными.
Итак, я утверждаю, во-первых,
что отчетливое понятие возможно только посредством суждения, полное
же понятие — не иначе как посредством умозаключения.
В самом деле, для отчетливого понятия требуется, чтобы я нечто ясно осознал как признак некоторой вещи, а это и есть суждение. Чтобы иметь отчетливое понятие о теле, я составляю себе ясное представление о
непроницаемости как его признаке. Но это представление есть не что иное, как мысль тело непроницаемо. При
этом следует только заметить, что это суждение есть не само
74
отчетливое
понятие, а только действие, посредством которого оно
осуществляется, ибо то представление о самой
вещи, которое возникает благодаря этому действию, есть отчетливое
представление. Легко показать, что полное
понятие возможно только посредством умозаключения, стоит только прочитать
первый параграф настоящего исследования. Поэтому отчетливым понятием
можно было бы назвать также и такое, которое становится ясным через суждение,
полным же — такое, которое приобретает отчетливость посредством
умозаключения. Если это полнота первой степени, то тогда мы имеем дело с простым умозаключением, если же она второй или третьей степени, то она возможна только через ряд связанных между собой в виде цепи
заключений, которым рассудок придает сокращенную форму сорита2. Отсюда становится ясной также и существенная
ошибка логики в том ее виде, как она обыкновенно излагается, а именно что в ней об отчетливых и полных понятиях трактуется раньше, чем о суждениях и
умозаключениях, хотя и те и другие понятия возможны только через них.
Во-вторых, сколь очевидно то, что для полного понятия требуется та же основная сила души, что и для отчетливого понятия (поскольку та же способность, благодаря которой мы что-то непосредственно познаем как признак некоторой вещи, делает возможным в свою очередь также и представлять себе в этом признаке другой признак, и, стало быть, мыслить вещь через
посредство более отдаленного признака), — столь же легко бросается в глаза и
то, что рассудок и разум, т. е.
способность отчетливого познания и способность делать
умозаключения, вовсе не различные основные способности. Они состоят в
способности к суждению; судить же опосредствованно и значит делать умозаключения.
В-третьих, отсюда же можно прийти и к выводу, что высшая сила познания основывается исключительно на способности к суждению. Поэтому если какое-нибудь
существо способно иметь суждения, то оно обладает и высшей способностью познания. Если же найдется
основание отказать ему в этой способности, то это значит,
75
что
оно не в состоянии составлять суждения. Пренебрежение такого рода исследованиями
дало одному знаменитому ученому3 повод признать и за животными
способность к образованию отчетливых понятий. Согласно этому мнению, бык в своем представлении о стойле имеет ясное представление также о признаке стойла — двери и, следовательно, отчетливое понятие о стойле. Не трудно обнаружить, что это заблуждение. Не в том состоит отчетливость понятия, что то, что составляет признак вещи, ясно представляется, а в том, что оно познается как признак вещи. Конечно, дверь есть нечто относящееся к стойлу и может служить его признаком, но только тот, кто составляет суждение эта дверь
есть принадлежность этого стойла, имеет отчетливое понятие о самом здании, а это, несомненно,
превосходит способность животных.
Я пойду еще дальше и скажу:
одно дело различать вещи и совсем другое — познавать различие между
вещами. Последнее возможно только посредством суждения и недоступно
никакому неразумному животному. Следующее
подразделение может оказаться весьма полезным. Логически различать —
значит познавать, что вещь а не есть B, и это всегда есть отрицательное суждение; физически
различать — значит посредством различных представлений быть побуждаемым к
различным действиям. Собака отличает мясо от хлеба, потому что сравнительно с хлебом мясо производит на нее иное впечатление (ведь различные вещи вызывают и различные
ощущения) и ощущение, получаемое от мяса, вызывает у
нее иное вожделение, нежели то, какое вызывается ощущением, получаемым от хлеба*, согласно естественной связи влечений собаки с ее
представлениями. Все это может послужить поводом для более основа-
76
тельного размышления о существенном различии в природе
разумных и неразумных животных. Если бы удалось постигнуть, что́ это за
таинственная сила, которая делает возможными
суждения, то задача была бы решена. В данный момент я считаю, что эта сила, или
способность, есть не что иное, как способность внутреннего чувства, т. е. способность делать свои собственные
представления предметом своих мыслей. Способность эта не вытекает из какой-нибудь другой, а есть одна из основных способностей в собственном смысле этого слова
и, по моему убеждению, может принадлежать только разумным существам. Но от нее-то именно и зависит вся высшая сила познания. Я закончу это исследование увещанием, которое должно быть приятно тем, кто
способен испытывать удовольствие от усмотрения единства человеческих познаний. Все утвердительные суждения подчинены одной общей формуле, а именно принципу тождества: Cuilibet
subjecto c
![]()
ПРЕДИСЛОВИЕ
Пользоваться математикой в
философии можно, или подражая ее методу, или действительно применяя ее положения к предметам философии. Нельзя сказать, что первое принесло до сих пор какую-то пользу, сколь больших выгод ни ожидали от этого первоначально; равным образом постепенно отпали и все претенциозные титулы, которыми из ревности к геометрии старались украсить философские положения, потому что пришлось
скромно признать, что неприлично упорствовать при
малоблагоприятных обстоятельствах и что тягостное non liquet [дело неясно] никак не хотело поддаться всей этой пышности.
Второй вид приложения
[математики к философии], напротив,
оказался для тех ее разделов, которых он коснулся,
тем более плодотворным, что, как раз благодаря тому, что эти разделы философии
пользовались учениями математики, они поднялись на такую высоту, на которую они иначе не могли бы притязать. Впрочем, речь идет здесь лишь о [философских] воззрениях, относящихся
к учению о природе, если только не причислять к философии еще и логику ожидания
стечения счастливых обстоятельств1.
Что касается метафизики, то эта наука, вместо того чтобы пользоваться
некоторыми понятиями или учениями математики, часто, напротив, ополчалась
против них. И мы видим, что там, где она
могла бы, пожалуй, позаимствовать твердые основания,
дабы построить на них свои исследования,
81
она
старается превратить понятия математика всего лишь в
какие-то утонченные измышления, обладающие за пределами
его поприща малой степенью истинности. Не трудно
угадать, на какой стороне окажется преимущество в споре двух наук, из которых
одна превосходит все другие достоверностью и ясностью, тогда как другая еще только стремится достигнуть такого
состояния.
Метафизика пытается,
например, постичь природу пространства
и то высшее основание, из которого можно было
бы объяснить его возможность. В этом отношении ничего,
по-видимому, не могло бы быть более
полезным, чем откуда-то позаимствовать достоверные данные, дабы положить их в
основу своих исследований. Геометрия доставляет некоторые такие данные, касающиеся самых общих свойств пространства,
например что пространство вовсе не состоит из простых
частей; однако в метафизике проходят мимо [этих
данных] и полагаются только на двузначность этого
понятия в нашем сознании, мысля его совершенно абстрактно.
а когда построенное по этому методу умозрение не согласуется с положениями
математики, тогда пытаются спасти свое искусственно созданное понятие, упрекая математику в том, что понятия, полагаемые ею в основание, не выведены, мол, из
подлинной природы пространства, а произвольно выдуманы. Математическое исследование
движения, связанное с познанием пространства, равным образом доставляет нам много
данных, чтобы удержать на пути истины и
метафизическое рассмотрение времени. Некоторый стимул к
этому среди других [исследователей] дал знаменитый г-н Эйлер*; однако здесь, по-видимому, считают более удобным держаться в сфере смутных абстракций, с трудом поддающихся проверке, чем вступить в связь с наукой, придерживающейся лишь вполне понятных и очевидных взглядов. Понятие бесконечно малого, к которому математика так часто прибегает, высокомерно отвергается как
82
простое
измышление, тогда как на самом деле имеются все
основания предположить, что его еще недостаточно понимают, чтобы высказывать о нем какие-либо суждения.
Да и сама природа, по-видимому, дает нам недвусмысленные доказательства того,
что это в высшей степени истинное понятие. В самом деле, если
существуют силы, действующие непрерывно в течение известного времени, чтобы
породить движения (такую силу, по всей видимости, представляет собой тяжесть), то сила, которую тяжесть приводит в действие в начальный
момент [действия] или в состоянии покоя, должна быть
бесконечно малой по сравнению с сшгой, которую она
сообщает [телу] в течение некоторого времени. Я
согласен, что трудно проникнуть в природу таких
понятий, однако эта трудность может оправдать разве только
осмотрительность при высказывании не вполне
достоверных предположений, но никак не может служить
оправданием для решительного заявления о невозможности
[бесконечно малого].
В данном случае я намерен
подвергнуть философскому рассмотрению одно понятие, которое в математике хорошо
известно, но в философии еще почти не встречается.
Мои рассуждения представляют собой только
первые незначительные попытки, как это обыкновенно бывает, когда хотят открыть
новые перспективы, однако подобные рассуждения могут привести и к весьма важным результатам. Из-за пренебрежения понятием отрицательных величин в философии возникло
множество ошибок или же ложных толкований взглядов
других. Если бы, например, знаменитому господину
Крузию* благоугодно было уяснить себе смысл, который математики вкладывают в это понятие, то
он не счел бы столь удивительно ложным сопоставление, проведенное Ньютоном,
который силу притяжения, постепенно превращающуюся — при
возрастающем расстоянии, однако вблизи [данных] тел — в силу отталкивания, сравнивает с такими рядами [величин], в которых там, где исчезают положительные величины, возникают отрицательные. Дело в том, что
83
отрицательные
величины суть не отрицания величин, как это
можно было бы предположить по сходству выражения, а
нечто само по себе подлинно положительное и только противоположное чему-то
другому. В этом смысле отрицательное притяжение есть не покой, как считает Крузий, а подлинное отталкивание.
Однако я перехожу к самому
исследованию, дабы показать, какое применение это понятие может вообще иметь в философии.
Понятие отрицательных величин
с давних пор применяется в математике и всегда имело здесь чрезвычайно большое
значение. Между тем представление, которое создалось
о нем у большинства [исследователей], как и толкование, которое они ему давали,
странны и противоречивы. Правда, это не привело к какой-либо неправильности его применения, так как особые правила
заменяли собой определение и обеспечивали пользование им, а то, что в суждении
о природе этого абстрактного понятия было ложным, осталось втуне и не имело никаких последствий. Никто, пожалуй, не показал яснее и определеннее, что́ следует понимать под отрицательными величинами, чем профессор г-н Кестнер*4
под руками которого все приобретает точность, становится понятным и привлекательным.
Порицание, которое он по этому случаю выражает одному абстрактнейшему философу5 за его
страсть к классификации, имеет гораздо более общий смысл, чем тот упрек, который сделал здесь [автор]. Этот упрек можно рассматривать как своего рода призыв проверить силу мнимого остроумия многих мыслителей на каком-нибудь
истинном и полезном понятии, дабы философски судить о
качестве этого понятия, правильность которого уже доказана математикой. Ложная
метафизика охотно уклоняется от подобной проверки, так как здесь ученому пустословию было бы не так легко, как в других
случаях, создать видимость ссновательности. Пытаясь приобрести для философии до
сих пор еще не применявшееся в ней, хотя и в высшей степени необходимое,
понятие, я хотел бы иметь для себя только
84
таких судей, как тот проницательный муж, сочинения которого побудили меня написать это исследование. Ибо что касается метафизических умов, имеющих на все окончательный взгляд, то нужно быть очень неопытным
человеком, чтобы воображать, будто можно что-нибудь прибавить к их мудрости или
что-то убавить из их заблуждений.
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ОБЪЯСНЕНИЕ ПОНЯТИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН ВООБЩЕ
Если одно упраздняет то, что
другое полагает, то они противоположны друг другу. Эта противоположность
может быть двоякой: или логической, через противоречие, или реальной,
т. е. без противоречия.
До сих пор обращали внимание
только на противоположность первого рода, т. е. на логическую. Она состоит в том, что относительно одной и той же вещи нечто одновременно и утверждается, и отрицается. Следствие такого логического соединения есть ничто (nihil negativum
irrepraesentabile [ничто отрицательное непредставимо]),
как гласит закон противоречия. Тело, находящееся
в движении, есть нечто; тело, которое не находится
в движении, тоже есть нечто (cogitabile [мыслимое]); но тело, которое находилось бы в движении
и в то же время в том же смысле не находилось бы в движении, есть ничто.
Противоположность второго
рода — реальная — состоит в том, что два предиката одной и той же вещи противоположны, но не по закону противоречия. Здесь также одно упраздняет то, что другое полагает; однако следствие [здесь] нечто (cogitabile). Сила, движущая тело в одну сторону, и равное стремление того же тела в противоположном направлении не противоречат друг другу и в качестве предикатов возможны в одном и том же теле одновременно. Следствие этого — покой, который есть нечто (repraesentabile [представимое]). И тем не
менее мы имеем здесь истинную противоположность, ибо то, что полагается одним
стремлением —
85
если
бы действовало только оно одно, — упраздняется другим и оба
они истинные предикаты одной и той же вещи/
присущие ей одновременно. Следствием этого также является
ничто, но не в том смысле, что при противоречии
(nihil privativum, repraesentabile). Это ничто в
дальнейшем мы будем называть нулем = 0, и его
значение будет одинаковым со значением отрицания (negatio), отсутствия — термины, обычно применяемые философами только с некоторым более подробным определением, которое будет приведено ниже.
Когда речь идет о логической
несовместимости, то имеют в виду только то отношение, которым два
предиката вещи в силу противоречия упраздняют друг друга и свои следствия. Но какой именно из обоих предикатов действительно утвердительный (realitas) и какой
действительно отрицательный (negatio) —
это здесь безразлично. Например, быть одновременно темным
и нетемным в одном и том же смысле будет в одном и том же субъекте противоречием. Первый предикат логически утверждает, второй логически отрицает, хотя первый в метафизическом смысле есть отрицание. Реальная несовместимость также основывается на
взаимном отношении двух предикатов одной и той же вещи; но противоположность эта совсем иного рода. Одним из них вовсе не отрицается то, что утверждается
другим, ибо это невозможно; оба предиката — а и В — утвердительны; только в то время, как от каждого в отдельности возникли бы следствия а и b, от совокупности их в одном субъекте не возникает ни
того ни другого, и таким образом следствием оказывается нуль. Положим, кому-то кто-то другой должен 100
рейхсталеров, — это будет основанием для такой же суммы дохода. Положим также, что он сам должен 100
рейхсталеров, — это явится основанием для уплаты такой же суммы. Оба долга вместе составляют основание для нуля, т. е. для того, чтобы денег не платить и не получать. Легко заметить, что этот нуль есть
относительное ничто, поскольку нет лишь определенного следствия: в данном случае нет определенного капитала,
а в вышеприведенном случае — определенного
86
движения,
тогда как при упразднении через противоречие получается вообще ничто. Поэтому nihil negativum не может быть выражено нулем = 0, ибо
нуль не содержит в себе никакого противоречия. Можно себе представить, что определенного движения нет, но невозможно представить себе, что оно одновременно и есть и не есть.
Математики же пользуются
понятием этой реальной противоположности для своих величин и, чтобы отметить такие величины, обозначают их знаками + и –. Так как такая противоположность [величин] всегда взаимна, то нетрудно видеть, что одна величина всегда упраздняет здесь другую либо полностью, либо отчасти, при этом те величины, перед которыми стоит +, не отличаются от тех, перед которыми стоит –. Положим,
корабль совершает путь из Португалии в Бразилию.
Обозначим все расстояния этого пути, которые он проходит при восточном ветре,
знаком +, а те, которые он проходит при западном ветре, знаком –. Самые числа пусть обозначают мили. Тогда путешествие, длящееся семь дней, можно выразить так: + 12 + 7 – 3 – 5 + 8 = 19 милям,
которые корабль прошел в направлении к западу. Те величины, перед которыми
стоит –, имеют его только как знак противоположности, поскольку они
должны быть взяты вместе с теми, которые имеют перед
собой +; если же они находятся в соединении с теми, перед которыми также стоит –, то здесь не будет уже
никакой противоположности, потому что противоположность
есть взаимное отношение (Gegenverhältnis),
которое имеет место только между + и –. И так как вычитание есть некоторое упразднение,
происходящее в том случае, когда противоположные величины берутся вместе, то
ясно, что минус не может быть, собственно говоря, знаком вычитания, как это обыкновенно себе представляют: + и –, только взятые вместе, означают
вычет. Поэтому – 4 – 5 = – 9 есть не вычитание, а
действительное увеличение и сложение однородных
величин. Но + 9 –5 = 4 означает вычитание, поскольку
знаки этого противоположения указывают на то, что одна величина исключает из
другой равное себе. Точно так же знак + сам по себе не озна-
87
чает,
собственно, никакого сложения; он получает такой смысл
лишь тогда, когда величина, перед которой он стоит,
должна быть соединена с другой, перед которой
также стоит или мыслится +. Но если она должна быть
соединена с другой величиной, перед которой
стоит –, то это может произойти только через противоположение, и тогда знак +, как и знак –, одинаково означают вычитание, т. е. одна величина
исключает из другой равное себе, например – 9 + 4 = –5. На том же основании и знак – в примере – 9 –4 = – 13 означает
не вычитание, а такое же сложение, как и знак + в примере + 9 + 4 = + 13. Ибо вообще, когда знаки одинаковы, обозначаемые ими суммы просто подлежат сложению; когда же они различны, они могут быть соединены лишь через противоположение, т. е. посредством вычитания. Вот почему оба эти знака служат в математике лишь для различения величин, противоположных друг другу, т. е. таких, которые при их соединении полностью или частично исключают друг друга, чтобы таким образом, во-первых, выявить само это отношение
противоположности между величинами и, во-вторых, чтобы после вычитания одной
величины из другой, из которой ее можно вычесть, было ясно, к которой из этих двух величин относится итог. Так, в вышеупомянутом
случае получилось бы одно и то же, если бы движение [корабля] при восточном
ветре было обозначено посредством –, а плавание
при западном ветре — посредством +, с той только разницей, что итог имел бы тогда знак –.
Отсюда и возникает
математическое понятие отрицательных величин. Одна величина по отношению к другой отрицательна, когда она может быть соединена с ней только через противоположение, а именно так, что одна величина исключает из другой равное себе. Но это, конечно, есть отношение противоположности, и величины, которые таким образом противоположны друг другу, исключают одна из другой равное себе, так что, собственно, никакую величину нельзя назвать безусловно отрицательной, а следует сказать, что + а и – а представляют собой отрицательные величины
88
по
отношению друг к другу; так как, однако, это всегда можно
подразумевать, то математики раз навсегда условились называть отрицательными
величинами те, перед которыми стоит знак –, причем, однако, не следует
забывать, что это обозначение указывает не на особый род вещей с точки зрения
их внутреннего свойства, а на само это отношение противоположности,
когда одни вещи берутся в противоположении другим вещам, обозначенным знаком +.
Дабы, не обращая особого
внимания на величину, извлечь из этого понятия то, что, собственно, составляет
предмет философии, заметим прежде всего, что в нем
содержится то противоположение, которое мы выше
обозначили как реальное. Допустим, что есть + 8
капиталов и – 8 долга; тогда нет никакого противоречия в том, что и то и другое
относится к одному лицу. а между тем одно исключает сумму, равную той, которую полагает другое, и следствием будет нуль. Поэтому я долги буду называть отрицательными капиталами.
Но этим я вовсе не хочу сказать, будто долги — это только
отрицание или простое отсутствие капиталов, ведь в таком случае они сами были
бы отмечены знаком 0 и данный капитал, взятый вместе с долгами, представлял бы тогда имущественную ценность, выражаемую
равенством 8 + 0 = 8, что ложно. Я хочу лишь сказать, что
долги представляют собой положительные основания
для уменьшения капиталов. Так как, далее, все это обозначение
всегда указывает лишь на отношение тех или иных вещей друг к другу, без
которого и само понятие [отрицательных величин] тотчас же теряет всякий смысл, то было бы нелепо мыслить при этом особый род вещей и называть их отрицательными вещами, ведь даже выражение математиков отрицательные
величины не очень точное. В самом деле, отрицательные вещи означали
бы отрицания вообще (negationes), что,
однако, вовсе не есть то понятие, которое мы хотим
установить. Скорее достаточно того, что уже сказано нами
по поводу тех отношений противоположности, которые вполне исчерпывают это понятие
и заключаются в реальной противоположности. Необходимо,
однако, в самом выражении дать понять, что
89
один
из [членов] противоположности не есть контрадикторная противоположность другого
и что если этот последний есть нечто положительное, то и первый не есть простое отрицание его, а, как мы это скоро увидим, противостоит ему как нечто утверждающее. Для этого мы, следуя методу математиков, нисхождение будем называть отрицательным восхождением, падение —
отрицательным подъемом, возвращение назад — отрицательным
движением вперед, чтобы уже из самого выражения
было ясно, что, например, падение отличается от подъема не только так, как non а от а,
но представляет собой нечто столь же положительное, как и подъем, и лишь в соединении с ним дает основание
для некоторого отрицания. Ведь ясно, что, поскольку
здесь все дело в отношении противоположности, постольку я с одинаковым правом
могу нисхождение назвать отрицательным восхождением, а восхождение —
отрицательным нисхождением; равным образом капиталы
в такой же мере отрицательные долги, как и
долги — отрицательные капиталы. Но все же представляется несколько более уместным давать название отрицательное тому, что мы в каждом [данном]
случае преимущественно имеем в виду, когда хотим
обозначить его реальную противоположность. Так, например,
несколько более уместно долги называть отрицательными капиталами, чем наоборот,
хотя различие заключено не в самом отношении противоположности,
а лишь в том, как связан результат этого отношения с
дальнейшей целью. Напомню еще только о том, что я
иногда пользуюсь следующим выражением: одна вещь
есть негатив (die Negative)
другой. Так, например, негатив восхождения есть нисхождение; под этим я понимаю не отрицание другой вещи, а нечто такое, что находится к этой другой вещи в отношении
реальной противоположности.
Когда речь идет о таком
реальном противоположении, нужно отметить следующее положение в качестве одного из основных правил. Реальная
противоположность имеет место лишь в том случае, когда одна из двух
вещей как положительное основание устраняет следствия
другой. Допустим, что движущая сила есть положительное
90
основание;
в этом случае реальное столкновение может иметь место
лишь тогда, когда эта сила и соединенная с ней другая
движущая сила устраняют следствия друг друга. Общим
доказательством может служить следующее. Противоречащие друг другу определения
должны, во-первых,
принадлежать одному и тому же субъекту. В самом
деле, допустим, что в одной вещи имеется одно определение,
а любое другое — в другой; в таком случае отсюда не произойдет никакого
действительного противоположения*.
Во-вторых, одно из противостоящих друг другу определений при реальном
противоположении не может быть контрадикторной противоположностью другого, ибо
тогда противоречие было бы логическим
и, как было показано выше, невозможным. В-третьих, определение может отрицать только то, что полагается другим определением, ибо здесь вообще нет никакого противоположения. В-четвертых, эти
определения, если они противоречат друг другу, не могут быть оба отрицательными, ибо в этом случае ни одно из них не полагало бы того, что устранялось бы другим. Поэтому в каждом реальном противоположении оба предиката должны быть положительными, но так, чтобы при их соединении следствия их устраняли друг друга в одном и том же субъекте. Именно таким образом две вещи, из которых одна рассматривается как
отрицательная по отношению к другой, сами по себе положительны, однако
следствием их соединения в одном субъекте
оказывается нуль. Движение [корабля] по направлению
к западу есть в такой же мере положительное движение, как и движение по
направлению к востоку, только для одного и того же корабля
пройденные таким образом пути устраняют друг друга либо всецело, либо отчасти.
Этим я не хочу сказать, что
такие реально противоположные друг другу вещи не могут заключать в себе множество отрицаний. Корабль, который движется по направлению к западу, не движется в то же время к востоку или к югу и т. п., как не находится он также
91
одновременно
во всех местах: множество отрицаний присуще его
движению. Однако при всех этих отрицаниях только то может приходить в реальное
противоречие и давать в результате нуль, что одинаково положительно и в
движении на восток, и в движении на запад.
Это можно пояснить при помощи
общераспространенных знаков. Все истинные отрицания, которые, следовательно,
возможны (ибо отрицание того же, что одновременно
полагается в субъекте, невозможно), могут быть выражены нулем = 0, а утверждения
— каким-нибудь положительным знаком; соединение же [отрицаний и утверждений] в
одном и том же субъекте — через + или
–. Отсюда ясно, что [выражения] а + 0 = а, а – 0 = а, 0 + 0 = 0, 0 – 0 = 0*
все вместе не представляют собой вообще противоположений и что ни в одном из них не устраняется ничего из того, что полагалось. а + а также не есть
упразднение; остается только один случай: а – а = 0, т. е. вещи, из которых одна
служит отрицанием другой, суть обе а и, таким образом,
истинно положительны так, однако, что одна исключает то, что полагает другая, и это обозначается здесь знаком –.
Второе правило, которое, собственно, есть обращенное первое, гласит:
везде, где есть положительное основание, а следствие тем не менее нуль, мы
имеем реальное противоположение, т. е. это основание находится в соединении с
другим положительным основанием, представляющим
собой негатив первого. Если в открытом море восточный ветер действительно гонит
вперед корабль, а он не двигается с места или по крайней мере скорость его движения несоразмерна с силой ветра, то это значит, что морское течение непременно
92
гонит его в обратном направлении. Общий смысл этого таков: устранение следствия какого-либо положительного
основания всегда требует в свою очередь положительного основания. Если мы
возьмем какое-нибудь основание для следствия b, то это следствие никогда не может быть нулем, пока нет основания для – b, т. е. для чего-то действительно положительного, но противоположного первому: В – В = 0. Если кто-то оставил
после себя капитал в 10 000 рейхсталеров, то все наследство может составить 6000 рейхсталеров только в том случае, если 10 000—4000 = 6000, т. е. если с
наследством связано 4000 талеров долга или другого
расхода. Дальнейшее во многом будет способствовать разъяснению этих законов.
В заключение этого раздела я
сделаю еще одно замечание. Отрицание, если оно следствие реальной
противоположности, я буду называть лишением (privatio); всякое же
отрицание, если оно не результат такого рода противоположности,
будет здесь обозначаться как отсутствие (defectus, аbsentia). Для такого
отрицания требуется не положительное основание, а лишь его
отсутствие; первое же отрицание имеет действительное основание полагания, а также равное ему
противоположное основание. Покой тела есть или просто отсутствие, т. е. отрицание, движения, если [в нем] нет движущей силы, или лишение, если движущая сила, правда, имеется, но следствие, а именно движение, устраняется противоположной силой.
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ,
В КОТОРОМ ПРИВОДЯТСЯ ПРИМЕРЫ ИЗ ФИЛОСОФИИ, ЗАКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЕ ПОНЯТИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН
1
Каждое тело благодаря своей
непроницаемости сопротивляется силе, движущей другое тело в пространство,
которое оно занимает. И так как оно при наличии силы движения
другого тела все же есть основание своего
покоя, то из предыдущего следует, что непро-
93
ницаемость
в равной мере предполагает как действительную силу в частях тела, благодаря
которой они вместе занимают некоторое пространство, так и ту — какова бы она ни была, — посредством которой другое тело стремится к движению в это пространство.
Для ясности представьте себе
две пружины, которые действуют одна против другой. Совершенно очевидно, что, пока движущие силы их равны, обе они находятся в состоянии покоя. Поместите между ними пружину такой же упругости; благодаря своему напряжению она будет производить такое же действие и по закону равенства действия и противодействия будет удерживать
обе пружины в состоянии покоя. Но поставьте в середине
на место этой пружины какое-нибудь твердое тело; оно
приведет к тому же, и упомянутые выше пружины благодаря его непроницаемости
будут оставаться в состоянии покоя. Причина — непроницаемость — есть поэтому действительная сила, ибо она производит то же самое, что производит действительная сила. Если вы теперь назовете притяжением какую бы то ни
было причину, по которой одно тело принуждает другие тела давить на пространство, которое оно занимает, или двигаться по направлению к нему (а здесь достаточно только предположить это притяжение), то
непроницаемость будет отрицательным притяжением. А это значит, что она
есть такое же положительное основание, как и всякая
другая движущая сила в природе. И так как
отрицательное притяжение есть, собственно говоря, настоящее отталкивание, то силы, благодаря которым элементы занимают некоторое пространство, однако так, что они и ему ставят пределы через столкновение двух противоположных сил, дают повод ко многим
размышлениям. Эти размышления привели меня, как мне кажется, к некоторому
отчетливому и верному знанию, которое я
намерен изложить в другом исследовании6.
2
Возьмем пример из психологии.
Вот такой вопрос: есть ли неудовольствие лишь отсутствие удовольствия или оно основание для лишения его, основание, кото-
94
рое,
правда, само по себе есть нечто положительное, а не только противоречащая удовольствию
противоположность, но которое противоположно ему в реальном смысле, и,
следовательно, можно ли неудовольствие назвать отрицательным удовольствием?
Внутреннее чувство сразу подсказывает, что неудовольствие есть нечто большее, чем простое отрицание. В самом
деле, какое бы удовольствие мы ни испытывали, все же всегда будет ощущаться недостаток в некотором
возможном удовольствии, пока мы остаемся ограниченными существами. Тот, кто принимает лекарство, имеющее вкус чистой воды, быть может, испытывает удовольствие
от ожидаемого выздоровления, но в самом вкусе лекарства он
не находит никакого удовольствия; однако это
отсутствие удовольствия еще не составляет неудовольствия. Но дайте ему
лекарство из польши — это ощущение
весьма положительного свойства. Здесь мы имеем не
простое отсутствие удовольствия, а нечто составляющее действительное основание
того чувства, которое называется неудовольствием.
Из приведенного объяснения
можно во всяком случае усмотреть, что неудовольствие есть не только некоторое
отсутствие удовольствия, но и некоторое положительное ощущение. Однако то, что
оно не только нечто положительное, но и нечто реально противоположное
удовольствию, станет вполне ясным из следующего. Матери спартанца сообщают, что ее сын мужественно сражался за свое отечество. Приятное чувство удовольствия
овладевает ее душой. Затем добавляют, что в этой борьбе он пал смертью славных. От такого сообщения чрезвычайно уменьшается ее удовольствие и снижается степень его. Степень удовольствия, определяемую одним
первым основанием, обозначьте 4a и
предположите, что неудовольствие есть простое отрицание = 0; тогда, взяв оба вместе, мы выразим величину удовольствия 4a + 0 = 4a, и,
следовательно, удовольствие не было бы уменьшено известием
о смерти, а это неверно. Пусть поэтому
удовольствие, вызванное сообщением о проявленной им храбрости, равняется 4a, а то, что от этого удовольствия
останется, после того как подействовало и неудовольствие,
вызванное другой причиной, пусть
95
будет
равняться 3a, тогда неудовольствие равно
а, и оно и есть негатив удовольствия, а именно – а, и потому мы имеем: 4a – а = 3a. Совокупная оценка удовольствия в каком-либо сложном состоянии была бы лишена всякого смысла, если бы неудовольствие было равно простому отрицанию и
нулю. Допустим, что кто-то купил имение, ежегодный доход которого составляет
2000 рейхсталеров. Выразим числом 2000 степень удовольствия от этого дохода, поскольку это чистый доход. Все, что он должен уплатить из этого дохода без выгоды для себя, составит основание неудовольствия, как-то: поземельный налог в 200 рейхсталеров, жалованье прислуге — 100
рейхсталеров, ремонт — 150 рейхсталеров ежегодно. Если неудовольствие есть простое отрицание = 0, то в общем итоге получится: 2000 + 0 + 0 + 0 = 2000, т. е.
удовольствие от приобретения имения окажется таким же, как если бы он мог пользоваться доходами с него, не имея никаких расходов. Но очевидно, что он может
пользоваться лишь той частью своих доходов, которая останется за вычетом
расходов, и тогда степень его удовольствия выразится так: 2000 – 200 – 100 –
150 = 1550. Поэтому неудовольствие есть не только отсутствие
удовольствия, но и положительное основание, частью или целиком уничтожающее удовольствие, вызванное другой
причиной, почему я и называю его отрицательным удовольствием.
Отсутствие удовольствия, равно как и неудовольствия,
поскольку оно вытекает из отсутствия оснований
для них, называется безразличием (indifferentia).
Отсутствие удовольствия, равно как и неудовольствия, поскольку оно есть
следствие реального противоположения равных оснований, называется равновесием (aequilibrium):
и то и другое представляют собой нуль, но первое
есть просто отрицание, второе же есть лишение. То расположение духа, когда при
неравенстве противоположных друг другу удовольствия и
неудовольствия что-нибудь остается от одного из этих чувств, есть перевес удовольствия или неудовольствия (suprapondium voluptatis vel taedii). Пользуясь такого
рода понятиями, г-н де Мопертюи7 в своем «Опыте
моральной философии» пытался определить сумму благополу-
96
чия
человеческой жизни, и она действительно не может быть определена иначе, только эта задача неразрешима для человека, поскольку лишь однородные ощущения могут быть суммированы, между тем как мы видим, что чувство при чрезвычайной сложности обстоятельств жизни весьма различно ввиду многообразия впечатлений.
В своем подсчете этот ученый пришел к отрицательному итогу, в чем я, однако, не
могу с ним согласиться.
На основании сказанного отвращение
можно назвать отрицательным желанием, ненависть — отрицательной любовью,
безобразие — отрицательной красотой, порицание — отрицательной похвалой.
Можно было бы подумать, что все это только пустая игра
словами, но так будут судить лишь люди, не знающие, какая польза заключается в том, что эти выражения указывают также на отношение к уже известным понятиям,
в чем может убедить самое элементарное знакомство с математикой. Ошибка, в
которую впадают многие философы, пренебрегая этим, очевидна. Известно,
что в большинстве случаев они рассматривают зло как простое
отрицание, между тем как из наших объяснений явствует, что существует зло как отсутствие
(mala defectus) и
зло как лишение (mala privationis).
Первое есть просто отрицание, и для полагания чего-то противоположного
ему нет никакого основания; второе, напротив, предполагает положительное
основание для устранения того блага, для которого имеется другое основание, и оно поэтому есть отрицательное благо. Оно гораздо большее зло, чем первое. Не дать [что-то]
— значит причинить зло тому, кто нуждается [в этом], но отнять, вынудить, украсть будет гораздо бо́льшим злом; изъятие есть отрицательное даяние. Нечто подобное
можно указать и в логических отношениях. Ошибки суть отрицательные истины (не следует смешивать
это с истинностью отрицательных суждений), опровержение
есть отрицательное доказательство; я не хотел бы,
однако, останавливаться на этом слишком долго. Моим
намерением было только пустить эти понятия в ход, польза же их скажется в их
применении, и в третьем разделе я сделаю несколько замечаний по этому поводу.
97
3
Понятие реальной
противоположности может применяться с пользой также и в практической философии.
Порок (demeritum) есть не простое
только отрицание, а отрицательная добродетель (meritum negativum). Ведь порок может иметь место лишь
в том случае, если есть какой-то внутренний закон (все
равно, будет ли это просто совесть или осознание какого-нибудь положительного
закона), вопреки которому данное
существо действует. Этот внутренний закон составляет
положительное основание доброго поступка, и его следствие
может оказаться равным нулю только потому, что
тот поступок, который проистекал бы единственно из осознания закона,
устраняется. Здесь, следовательно, имеет место лишение, реальная противоположность,
а не просто отсутствие. И не следует думать, что
это относится только к грехам деяния (démérita c
98
облегчает
все, и это усилие в конце концов становится едва
ощутимым. Поэтому нравственно грех деяния следует отличать от греха
упущения не по качеству, а только по количеству. Но физически,
т. е. по своим внешним следствиям, они, конечно, различны и по качеству. Тот,
кто ничего не получает, испытывает одно зло —
отсутствие; тот же, у кого отнимают, испытывает другое зло — лишение. Что же
касается нравственного состояния того, кто повинен в грехе упущения, то для
греха деяния требуется лишь несколько большая
степень действия, подобно тому как противовес на рычаге есть действительная
сила, способная удерживать груз в состоянии покоя, и достаточно лишь незначительно увеличить эту силу, чтобы этот груз действительно двинулся в другую сторону. Равным образом тот, кто не уплачивает своего долга, будет при известных обстоятельствах обманывать, чтобы получить
выгоду, а тот, кто не помогает, если может помочь,
будет причинять вред другому, как только усилятся побудительные к тому причины.
Любовь и нелюбовь суть противоречащие друг другу противоположности. Нелюбовь
есть действительное отрицание, однако в
отношении того, любовь к чему сознается как обязанность,
это отрицание возможно лишь через реальное противоположение и, значит, только
как лишение. И в таком случае не любить и ненавидеть
различаются только по степени. Напротив, всякое упущение, которое
хотя и есть отсутствие большего нравственного совершенства,
но не есть еще грех упущения, представляет собой не что иное, как
простое отрицание некоторой добродетели, а не лишение или порок. К такого рода упущениям относятся несовершенства святых и недостатки благородных душ. Отсутствует некоторое большее основание совершенства, и это упущение
обнаруживается не из-за противодействия.
Можно было бы еще значительно
расширить сферу применения указанных понятий к предметам практической
философии. Запрещения суть отрицательные повеления, наказания
— отрицательные награды и т. д. Однако моя
цель будет пока достигнута, если только использование
этой мысли станет вообще понятным.
99
Я
сознаю, конечно, что читателям с просвещенным умом предыдущие
разъяснения могут показаться излишне пространными. Однако меня извинят, как
только подумают о том, что еще и до сих пор существует весьма непонятливая порода критиков, которые, довольствуясь всю свою жизнь одной-единственной книгой, понимают
только то, что в ней содержится; для них не будет
излишней даже и самая большая обстоятельность.
4
Возьмем еще один пример из
естествознания. Много [случаев] лишения происходит в природе от столкновения
двух действующих причин, из которых одна через реальную
противоположность устраняет следствие другой. Часто, однако, не известно, не
есть ли это, быть может, только отрицание в смысле отсутствия, поскольку нет положительной причины, или же это есть следствие противопоставления действительных сил, подобно тому как состояние покоя может быть объяснено
или отсутствием движущей причины, или столкновением задерживающих друг друга
движущих сил. Для примера возьмем известный вопрос о том, имеет ли холод положительную причину или же его, как отсутствие,
следует объяснить отсутствием причины тепла. Я немного
остановлюсь на этом, поскольку это требуется для моей цели. Без сомнения, сам
холод есть только отрицание тепла, и нетрудно видеть, что сам по себе он возможен и без положительного основания. Но столь же легко понять, что он может быть вызван и некоторой положительной причиной и иногда
действительно из нее возникает, какого бы мнения ни придерживались о происхождении тепла. Природа не знает никакого абсолютного холода, и если о нем говорят, то его понимают лишь в относительном смысле. Опыт и доводы разума в полном согласии между собой служат подтверждением мысли знаменитого Мушенбрука8
о том, что нагревание состоит не во внутреннем сотрясении
[частиц тела], а в действительном переходе первичного
огня из одной материи в другую, хотя весьма
вероятно, что этот переход сопровождается
100
внутренним
сотрясением [тела], содействующим выделению из него первичного огня. На этом
основании можно сказать, что если элемент огня среди тел в
пределах какого-то пространства находится в состоянии равновесия, то в отношении друг к другу эти тела не будут ни холодными, ни теплыми. Но как только это равновесие нарушается, материя, в которую переходит первичный огонь, будет холодной по отношению к
телу, которое вследствие этого лишается первичного огня; само же это тело, поскольку оно отдает это тепло упомянутой
материи, будет называться в отношении этой последней теплым.
Состояние первого тела при этом изменении
называется нагреванием, состояние второго — охлаждением,
пока все не придет снова в состояние равновесия.
Конечно, всего естественнее
было бы думать, что силы притяжения материи до тех пор приводят в движение
эту тонкую и упругую жидкость и наполняют ею массу
тел, пока она повсюду находится в равновесии, т. е. пока пространства заполнены
ею соразмерно притяжениям, действующим в них. И здесь явно бросается в глаза, что одна материя, соприкасаясь с другой, охлаждает ее и посредством действительной силы (притяжения) отцимает первичный огонь, которым
была наполнена масса другого [тела], и что холод того тела, [которое лишает тепла], может быть назван отрицательным теплом, потому что отрицание, которое как следствие этого получается в более
теплом теле, есть некоторое лишение [тепла]. Однако введение этого выражения было бы здесь бесполезным и немногим
лучше простой игры слов. Главное для меня при этом лишь
то, что́ следует дальше.
Давно известно, что магнитные
тела имеют два противоположных друг другу конца, называемых полюсами,
из которых один отталкивает в другом теле полюс того же наименования
и притягивает противоположный ему полюс. Однако
знаменитый профессор Эпинус9 в своем
исследовании о сходстве электрической и магнетической сил показал, что
наэлектризованные тела при определенном обращении с ними точно так же обнаруживают
два полюса, один из которых он называет
101
положительным, а другой — отрицательным, и что один из них притягивает то, что отталкивается другим. Всего лучше можно наблюдать это явление, если к
наэлектризованному телу приблизить трубку, но так, чтобы она не выбивала из него искры. И вот я утверждаю,
что при нагреваниях или охлаждениях, т. е. при всех
изменениях тепла или холода, а особенно при быстрых
изменениях, происходящих на одном конце связанного
[с телом] промежуточного пространства (Mittelraum) или на конце вытянутого в длину тела, всегда имеются как бы два полюса тепла, из которых один будет положительным, т. е. выше прежней
температуры указанного тела, а другой — отрицательным, т. е. ниже этой температуры тела, или, что то же,
холодным. Известно, что различного рода земляные ямы внутри бывают тем холоднее, чем больше солнце
нагревает снаружи воздух и землю; Матиас Бель, описывающий такие ямы в
Карпатах, отмечает, что крестьяне в Трансильвании
имеют обыкновение охлаждать свои напитки,
закапывая их в землю и разводя сверху быстрогорящий
огонь. Слой земли на поверхности в течение
этого времени не может, по-видимому, стать положительно
теплым, без того чтобы на некоторой более значительной глубине не возник
негатив [тепла]10. Кроме того, Бургав упоминает,
что огонь кузнечного очага на определенном расстоянии от него вызывает холод. В разреженном (freien) воздухе над земной
поверхностью господствует, по-видимому, такая же противоположность,
особенно при быстрых изменениях. Г-н Якоби замечает где-то в «Hamburg.
Magazin»11, что во время сильных холодов,
которые часто бывают в странах, занимающих большие пространства, все же обычно имеются значительные по своему размеру
места, где температура умереннее. Равным образом г-н Эпинус замечает относительно
трубки, о которой я упоминал, что от положительного полюса одного ее конца до отрицательного полюса другого конца на определенных расстояниях друг от друга положительное и
отрицательное электричество меняются местами. По-видимому,
воздух в каком-то одном месте не может начать
нагреваться, не давая тем самым как бы повода
102
к
действию отрицательного полюса, т. е. холода, в другом месте, и на этом же основании,
наоборот, быстроусиливающийся в одном месте холод будет служить к тому, чтобы в другом месте усиливалось тепло. Равным
образом, если сразу охладить в воде конец раскаленного металлического стержня,
то тепло на другом конце стержня увеличится*.
Поэтому различие
103
между тепловыми полюсами прекращается, как только передача или лишение тепла имело достаточно времени для равномерного распространения [его] по всей
материи, подобно тому как трубка г-на проф. Эпинуса, после того как она выбила искру, показывает электричество
только одного рода. Возможно, что сильный холод
верхних слоев воздуха следует объяснить не только
отсутствием средств нагревания, но и некоторой положительной
причиной, а именно тем, что в отношении тепла этот воздух в той же степени
становится отрицательным, в какой воздух нижних слоев и
поверхности земли положителен. Вообще магнетическая сила, электричество и тепло действуют, по-видимому, в
некоторой однородной, объединяющей их материи (Mittelmaterie). Все они одинаково могут быть вызваны трением, и я думаю, что при умелом обращении различие
полюсов и противоположность положительного и
отрицательного действия могут быть замечены также и в явлениях тепла. Наклонная плоскость Галилея, отвес Гюйгенса, ртутная трубка Торичелли, воздушный насос Отто Герике и стеклянная призма Ньютона дали нам ключ к раскрытию великих тайн природы. Способность
веществ, особенно электричества, к положительному и отрицательному действию, по
всей видимости, таит в себе важные познания, и мы предвидим уже те светлые дни, когда более счастливому потомству, надо надеяться, станут известны те законы, которые нам пока представляются в неясной еще связи.
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
СОДЕРЖИТ НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ, МОГУЩИЕ СЛУЖИТЬ ПОДГОТОВКОЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ УПОМЯНУТОГО ПОНЯТИЯ К ПРЕДМЕТАМ ФИЛОСОФИИ
То, что я до сих пор излагал,
было лишь первым взглядом, брошенным мной на предмет большой важности,
но и не меньшей трудности. Если от приведенных примеров,
которые достаточно понятны, перейти теперь к общим
положениям, то имеются все основания опа-
104
саться,
не совершаем ли мы, идя по этому непроторенному пути, неверные шаги, которые,
быть может, будут осознаны лишь в дальнейшем продвижении. Поэтому то, что хочу еще сказать об этом, я считаю лишь пробой,
притом весьма несовершенной, хотя от внимания, которое
следует посвятить этому предмету, я ожидаю пользы во
многих отношениях. Я хорошо понимаю, что подобное
признание есть весьма плохая рекомендация для того, чтобы заручиться одобрением
тех, кто требует самоуверенного догматического тона, посредством
которого можно на любом пути добиться одобрения. Но, нисколько не жалея об
утрате такого рода одобрения, я полагаю, что такому ненадежному познанию,
как метафизическое, гораздо более подобает сначала представить свои мысли на
общее обсуждение в виде неуверенных еще попыток, чем сразу же провозглашать
их со всем убранством мнимой основательности и полной уверенности, ибо в таком
случае обычно отказываются от всякой поправки и всякая погрешность,
которую можно в них найти, окажется неисправимой.
1
Каждый легко понимает, почему
нечто не существует, если только для этого отсутствует положительное основание;
но не так легко понять, каким образом перестает
существовать то, что существует. Положим, у меня в
душе в настоящий момент силой воображения имеется
представление о солнце. В следующий момент я перестаю
думать об этом предмете. Это представление, которое было во мне, перестает
существовать, и наступившее вслед за тем состояние оказывается нулем предшествовавшего. Если я скажу, что представление потому перестало существовать, что в следующий момент
я уже не старался вызвать его, то такой ответ ничем не
отличался бы от вопроса, ведь речь идет как раз о
том, каким образом действительно происходящее действие может быть приостановлено,
т. е. может перестать существовать. Поэтому я говорю: всякое исчезновение есть отрицательное
возникновение, т. е. для упразднения чего-то
105
положительного,
что существует, в такой же мере требуется подлинное реальное основание, как и
для того, чтобы его произвести, если его [еще] нет. Мысль эта основывается на предыдущих [рассуждениях]. Пусть мы имеем а; в таком случае а – а = 0, т. е. а может быть
устранено лишь тогда, когда с основанием а связано равное, но противоположное
реальное основание. Природа тел всюду дает нам примеры этого. Движение никогда
не прекращается ни полностью, ни отчасти, если с ним не связана движущая сила,
равная той, которая могла бы вызвать это движение при его прекращении, но противоположная ей [по направлению]. С
этим вполне согласуется также и внутренний опыт
относительно прекращения представлений и желаний, возникших благодаря
деятельности души. Каждый на себе самом может с полной ясностью убедиться в том, что требуется настоящая и обычно значительная деятельность, чтобы преодолеть в себе и заставить исчезнуть
какую-нибудь скорбную мысль. Действительно стоит
больших усилий подавить забавное представление, вызывающее
смех, когда хотят прийти в серьезное настроение. Всякое абстрагирование есть не
что иное, как устранение некоторых ясных представлений, которое обычно только для того и предпринимают, чтобы тем яснее представить себе остающееся. Но каждый знает, сколько усилий требуется для этого, и, таким образом, абстрагирование можно назвать отрицательным
вниманием, т. е. оно — настоящая деятельность, которая противоположна деятельности, приводящей к ясным представлениям, и в соединении с ней приводит
к нулю, или к отсутствию ясного представления. Ведь в противном
случае, т. е. если бы абстрагирование было просто
отрицанием или отсутствием, для него требовалось
бы столь же мало усилий, сколь мало нужно их мне,
чтобы остаться в неведении насчет чего-либо, если у меня
никогда не было основания для такого знания.
Та же самая необходимость
положительного основания для прекращения какого-либо внутреннего состояния души
обнаруживается и при подавлении влечений, для чего можно использовать вышеприведенные
106
примеры.
Да и вообще, и помимо случаев, когда, как в
приведенных нами выше, эта противоположная деятельность даже сознается, нет
достаточного основания оспаривать ее, хотя мы и не замечаем ее в себе с полной ясностью. Я, например, в данный момент представляю себе тигра. Но вот представление это исчезает, и вместо него мне на ум приходит шакал. При смене этих представлений нельзя, правда, заметить
в себе никакого особого стремления души к устранению
одного из них. Но ведь бывает такая поразительная
деятельность, скрытая в глубине нашего духа, которую мы не замечаем, когда она
совершается, потому что действий очень много, а каждое из них в отдельности представляется лишь в весьма неясном виде. Примеры, подтверждающие это, известны
каждому; вспомним хотя бы о тех действиях, которые
незаметно происходят в нас, когда мы читаем и приходим в изумление.
Другие подтверждения этому можно, между прочим, найти и в «Логике» Реймаруса12, который
много рассуждает об этом. И таким
образом мы можем заключить, что игра представлений и всяких вообще действий
нашей души, если их следствия, бывшие ранее реальными, затем снова исчезли, предполагает существование противоположных
действий, из которых одно есть отрицание другого. И
это — вывод из некоторых указанных выше оснований,
хотя наш внутренний опыт и не всегда дает нам ясное
представление об этом.
Если принять в соображение
основания, на которых покоится приведенное здесь правило, то легко будет заметить, что по отношению к устранению
чего-то существующего не может быть различия между состояниями
мыслящих существ и результатами сил, действующих в материальном мире, разве
только то, что эти последние могут быть устранены лишь настоящей, действующей в противоположном направлении движущей
силой другого [тела]; внутреннее же состояние, [например] мысль, возникающая в душе, не может исчезнуть без [действия] подлинно деятельной силы того же самого
мыслящего субъекта, Эта разница указывает
здесь, следовательно, только на различие
107
законов,
которым подчинены оба эти рода сущностей, — различие,
сводящееся к тому, что состояние материи всегда
претерпевает изменения только под влиянием внешней причины, тогда как состояние духа может быть изменено также и под влиянием внутренней причины;
необходимость же наличия реальной противоположности, несмотря на это различие,
остается неизменной.
Я еще раз напоминаю, что было бы самообманом думать, будто можно понять устранение положительных следствий нашей душевной деятельности, назвав его бездействием (Unterlassung). Вообще в высшей степени удивительно, что, чем больше мы исследуем свои самые обычные и самые верные суждения, тем больше мы находим такого рода заблуждения, поскольку мы довольствуемся словами, ничуть не понимая сути дела. Отсутствие у меня в данный момент мысли, которой и раньше у меня не было, становится, конечно, вполне понятным, если я скажу: я не мыслю этого; ведь в таком случае это выражение указывает на отсутствие основания, откуда делается понятным и отсутствие следствия. Но стоит только спросить, почему в моем уме исчезла мысль, которая только что [в нем] была, как предыдущий ответ не будет уже иметь никакого смысла. Дело в том, что теперь это небытие есть уже некоторого рода лишение, а неделание имеет теперь уже совершенно другой смысл*, а именно оно есть упразднение некоторой деятельности, незадолго до этого имевшей место. Но в этом как раз и заключается весь смысл вопроса, который я здесь ставлю, и я уже не могу так легко удовлетвориться одним каким-то словом. Применяя упомянутое правило к различным случаям, имеющим место в природе, необходимо быть весьма осмотрительным, дабы не принять ошибочно нечто отрицательное за положительное, что всегда может легко случиться, ибо смысл приведенного здесь положения относится к возникновению и исчезновению чего-то положительного. Так, например, исчезновение пламени,
108
вызванное истощением горючего материала, не есть отрицательное возникновение, т. е. оно не зависит от какой-либо действительной движущей силы, противоположной той, от которой пламя возникает. Ведь если пламя не гаснет, то это не продолжение уже существующего движения, а беспрерывное порождение новых движений других горючих частиц газа*. Угасание пламени есть поэтому не устранение действительного движения, а отсутствие новых движений и дальнейшего отделения [частиц], ввиду того что для этого нет причины, а именно нет больше пищи для огня; вот почему следует рассматривать это не как устранение некоторой существующей вещи, а как отсутствие основания для некоторого возможного полагания (для дальнейшего отделения [частиц]). Но довольно об этом. Я пишу это для того, чтобы дать тем, кто стремится к такого рода познанию, повод для дальнейших размышлений; люди малосведущие были бы, конечно, вправе требовать больших разъяснений.
2
Положения, которые я намерен привести в этом параграфе, представляются мне чрезвычайно важными. Сначала, однако, я должен присовокупить к общему понятию отрицательных величин одно определение, которого я выше умышленно не касался, дабы не нагромождать слишком много вопросов, требующих напряженного внимания. До сих пор я рассматривал основания реальной противоположности лишь постольку, поскольку они в одной и той же вещи действительно полагают определения, из которых одно есть реальное отрицание другого, например движущие силы одного и того же тела, действующие в прямо противоположных направлениях, где одно основание действительно уничтожает следствие другого, а именно движения. Такую
109
противоположность я буду поэтому называть теперь действительным противоположением (oppositio аctualis). О таких предикатах, которые, правда, присущи различным вещам, но один из которых непосредственно не упраздняет следствие другого, мы имеем основание сказать, что один из них представляет собой отрицание другого, поскольку каждый из них таков, что все же в состоянии устранить либо следствие другого, либо по крайней мере нечто такое, что так же определено, как это следствие, и равно ему. Такое противоположение можно назвать потенциальным (oppositio potentialis). Обе эти противоположности реальны, т. е. отличны от логической противоположности; обе находят себе постоянное применение в математике, и обе достойны быть примененными и в философии. Когда две одинаковые силы заставляют два тела двигаться друг против друга по одной и той же прямой линии, то, поскольку они при столкновении сообщаются обоим этим телам, их можно назвать отрицающими друг друга, и именно в первом значении, [т. е.] через действительное противоположение [их]. Точно так же друг друга отрицающими будут две равные силы, которые заставляют два тела двигаться по одной прямой линии в противоположных направлениях, удаляясь друг от друга. Но так как в данном случае тела не сообщают своих сил друг другу, то они находятся лишь в отношении потенциальной противоположности, ибо каждое из этих тел устраняло бы в другом столько же силы, сколько ее содержится в этом другом [теле], если бы оно столкнулось с этим [телом], которое двигалось бы в том же направлении, что и оно. Такой именно смысл я буду в дальнейшем придавать всем основаниям реальной противоположности в мире, а не только тем, которые присущи движущим силам. Но чтобы привести пример также из другой области, можно было бы сказать, что удовольствие, испытываемое одним человеком, и неудовольствие, испытываемое другим, находятся друг к другу в отношении потенциальной противоположности, потому что иногда действительно бывает, что одно из этих чувств устраняет следствия другого, поскольку при таком реальном столкновении
110
один человек часто уничтожает то, что другой сообразно получаемому им удовольствию создает. Поскольку же эти основания, которые и в том и другом значении реально противоположны друг другу, я беру в самом общем их смысле, от меня нельзя требовать, чтобы я всякий раз in concreto придавал этим понятиям наглядность при помощи примеров. Ведь насколько ясным и понятным можно сделать для созерцания все, что относится к движению, настолько трудны и неясны у нас реальные немеханические основания, чтобы можно было объяснить их отношения к их следствиям при противоположении или согласовании. Я ограничусь поэтому формулировкой следующих положений в самом общем их виде.
Первое положение гласит: во всех происходящих в мире естественных изменениях сумма положительного не увеличивается и не уменьшается, поскольку она получается в результате того, что согласующиеся между собой (не противоположные друг другу) полагания складываются, а реально противоположные вычитаются одно из другого.
Всякое изменение состоит в том, что либо нечто положительное, чего [раньше] не было, полагается, либо то, что [уже] было, упраздняется. Естественным же изменение является, если его основание, как и [его] следствие, одинаково принадлежат к миру. Поэтому в первом случае, при полагании того, чего [раньше] не было, изменение есть возникновение. Состояние мира перед этим изменением, в отношении этого полагания, равно нулю = 0, и благодаря этому возникновению реальное следствие равно а. Но я утверждаю, что если возникает а, то при естественном изменении мира должно возникнуть и – а, т. е. не может быть такого естественного основания какого-либо реального следствия, которое в то же время не было бы основанием некоторого другого следствия, представляющего собой отрицание первого следствия*. В самом
111
деле, так как следствие есть ничто =
0, за исключением того случая, когда полагается некоторое основание, то сумма
полагания заключает в следствии не больше, чем содержалось в состоянии мира,
если она содержит основание для этого. Но это состояние содержало в себе нуль
того полагания, которое имеется в следствии, т. е. в предшествующем состоянии
не было полагания, которое имеется в следствии; стало быть, и проистекающее
отсюда изменение в мире в целом по своим действительным или потенциальным следствиям
также может быть равным только нулю. И вот так как, с одной стороны, следствие
положительно и равно а, а, с другой стороны, общее состояние Вселенной в отношении
изменения а тоже должно быть нуль = 0, что, однако, невозможно, за исключением
того случая, когда а и – а
приходится брать вместе, то отсюда вытекает, что в мире никогда не может
произойти естественным путем какое-либо положительное изменение, следствие
которого в общем не состояло бы в действительной или потенциальной
противоположности, самое себя упраздняющей. Но такая сумма дает в результате
нуль = 0, и до изменения она также была = 0, так что она этим не увеличивалась
и не уменьшалась.
Во втором случае, когда изменение состоит в устранении чего-то положительного, следствие = 0. Но состояние всего основания, согласно сказанному в предыдущем параграфе, было не просто а, а а – а = 0. Следовательно, согласно способу исчисления, который я здесь допускаю, положительное содержание (Position) в мире не может ни увеличиться, ни уменьшиться. Я попытаюсь разъяснить это положение, которое мне представляется весьма важным. В отношении изменений, происходящих в материальном мире, оно твердо установлено как уже давно доказанное правило механики. Оно гласит: Quantitas motus, summando vires corporum in easdem partes et subtrahendo eas, quae vergunt in contrarias, per mutuam illorum аctionem
112
(conflicfum,
pressionem, аttractionem) nonmutatur [Количество движений, если сложить силы
тел, действующие в одном направлении, и вычесть силы, действующие в другом направлении,
не изменяется от их взаимного
действия (столкновения, давления, притяжения)]. Но хотя это правило чистой
механики и не выводится непосредственно из метафизического основания, откуда мы
вывели наше общее положение, тем не менее его истинность на самом деле зиждется
именно на этом основании. Ведь закон инерции, который составляет основу
общепринятого доказательства, черпает свою истинность только из приведенного
выше довода, что я мог бы легко показать, если бы имел возможность подробнее
говорить об этом.
Разъяснить рассматриваемое нами правило в его применении к
немеханическим изменениям, как, например, к изменениям, происходящим в нашей
душе или вообще зависящим от нее, само по себе трудно, подобно тому как вообще
такого рода действия, равно как и их основания, нельзя показать столь же
понятно и наглядно, как изменения в материальном мире. Тем не менее я
попытаюсь, насколько это представляется мне возможным, пролить свет на этот
предмет.
Отвращение есть нечто столь же положительное, как и
влечение. Первое есть следствие некоторого положительного неудовольствия, точно
так же как второе — положительное следствие некоторого удовольствия. Влечение к
какому-то предмету и отвращение к нему находятся в отношении действительной
противоположности друг к другу лишь тогда, когда мы одновременно испытываем и
удовольствие, и неудовольствие от этого предмета. Поскольку, однако, основание,
вызывающее в отношении одного предмета удовольствие, становится основанием
действительного неудовольствия в отношении другого, постольку основания
влечений суть вместе с тем и основания отвращений. Вот почему основание
некоторого влечения есть одновременно и основание чего-то такого, что находится
к этому влечению в отношении реальной противоположности, хотя эта противоположность
[здесь] только потенциальна. Точно так же и движения тел, которые удаляются
друг от друга
113
по одной прямой линии в противоположных направлениях, хотя и не имеют стремления устранять друг друга, все же должны рассматриваться одно в отношении другого как отрицания (die Negative), потому что потенциально они противоположны друг другу. Соответственно этому, чем сильнее в ком-либо страсть к славе, тем в большей степени вместе с этим возникает в нем отвращение ко всему, что противоположно [славе]. Правда, это отвращение лишь потенциальное, покуда обстоятельства еще не находятся в отношении действительной противоположности со страстью к славе. Тем не менее все та же причина — страсть к славе — определяет в [нашей] душе положительное основание также и для равного ей по степени неудовольствия, поскольку обстоятельства [окружающего] мира могут оказаться противоположными тем условиям, которые благоприятствуют страсти к славе*. Мы скоро увидим, что в совершеннейшем существе дело обстоит иначе и что основание его высшего удовольствия исключает даже всякую возможность неудовольствия.
В отношении действий рассудка мы даже находим, что, чем более ясной и отчетливой становится какая-то определенная идея, тем более затемняются все остальные и тем менее ясными они будут, так что то положительное, что становится действительным при таком изменении, связано с реальной и действительной противоположностью, которая, если по упомянутому способу оценки взять все вместе, от этой перемены не увеличивает и не уменьшает степени положительного.
Второе положение гласит: все реальные основания Вселенной, если сложить те, что согласуются между соой, и вычесть те, что противоположны друг другу, дают результат, равный нулю. Мир в целом сам по себе есть ничто, разве только по воле другого он есть нечто. Поэтому сумма всей существующей реальности, по-
114
скольку она имеет свое основание в мире, рассматриваемая сама по себе, равна 0. И хотя вся возможная реальность в своем отношении к божественной воле дает положительный итог, сущность мира этим все же не устраняется. Но из этой сущности с необходимостью вытекает, что существование того, что имеет в мире свое основание, взятое само по себе, равно нулю. Таким образом, сумма существующего в мире в отношении к тому основанию, которое находится вне его, положительна, в отношении же внутренних реальных оснований друг к другу равна нулю. а так как в первом отношении никогда не может быть противоположности между реальными основаниями мира и божественной волей, то здесь, следовательно, нет никакого устранения и сумма будет положительной. Но так как во втором отношении результат — нуль, то отсюда следует, что положительные основания должны находиться друг к другу в отношении противоположности и что если рассматривать их именно таким образом и сложить их, то они дают нуль.
Замечания к параграфу второму
Я привел эти два положения, дабы побудить читателя к размышлениям об этом предмете. Сознаюсь также, что и для меня самого они еще недостаточно ясны и не с надлежащей очевидностью усматриваются из их оснований. Тем не менее я твердо убежден в том, что даже незаконченные опыты, развитые предположительно в сфере абстрактного познания, могут быть весьма полезными для преуспеяния высшей философии, ибо очень часто другой легче находит решение какого-то особенно трудного вопроса, нежели тот, кто дает ему повод для этого и чьих усилий достаточно, быть может, для преодоления только половины трудностей. Содержание этих положений, как мне кажется, само по себе имеет некоторую ценность и, конечно, может побудить к тщательному исследованию их, если только верно понять их смысл, что в подобного рода познании не так-то легко.
115
Я попытаюсь, однако, предупредить
еще несколько недоразумений. Совершенно неправы те, кто думает, будто своим
первым положением я хотел сказать, что сумма реальности в мире вообще не
увеличивается и не уменьшается от происходящих в нем изменений. Это до такой
степени расходится с моим мнением, чтодаже приведенное в качестве примера
правило механики говорит о совершенно противоположном. Ибо от столкновения тел
сумма движений, если ее рассматривать саму по себе, то увеличивается, то
уменьшается, и только окончательный итог, если его подсчитывать согласно
указанному способу, остается неизменным. В самом деле, противоположности во
многих случаях только потенциальны там, где движущие силы в действительности не
устраняют друг друга и где, следовательно, имеет место увеличение. Однако,
согласно уже принятому для руководства способу оценки, и эти [потенциальные
противоположности] должны вычитаться друг из друга.
Так же следует рассуждать и тогда,
когда это положение применяется к немеханическим изменениям. Меня равным
образом не понял бы тот, кому пришло бы в голову утверждать, будто, согласно
этому положению, невозможен никакой рост совершенства в мире. На самом же деле
это положение вовсе не отрицает всякую возможность увеличения естественным
путем суммы реальности. Кроме того, в этом столкновении противоположных
реальных оснований как раз и состоит совершенство мира вообще, равно как и закономерный
ход материальной части его совершенно очевидно поддерживается только борьбой
[этих] сил. И всегда будет большим заблуждением отождествлять сумму реальности
с величиной совершенства. Выше мы видели, что неудовольствие столь же положительно,
как и удовольствие, но кто же, однако, назовет его совершенством?
3
Мы уже заметили выше, что часто
трудно бывает решить, каковы те или иные отрицания в природе: то ли мы имеем
дело с простым отсутствием, поскольку нет
116
[соответствующих]
оснований, то ли они — лишения, проистекающие из реальной противоположности
двух положительных оснований. Примеров этого в материальном мире много.
Связанные между собой части любого тела оказывают друг на друга давление посредством
действительных сил (притяжения), и следствием этих воздействий неизбежно
было бы уменьшение объема [тела], если бы этим силам не противодействовали в
той же степени столь же реальные деятельные силы посредством отталкивания
элементов, действие которых составляет основание непроницаемости. Здесь состояние
покоя возникает не из-за отсутствия движущих сил, а благодаря их взаимному
противодействию. Точно так же тяжести на обеих чашах весов находятся в
состоянии покоя, если они привешены к рычагу по законам равновесия. Это понятие
можно распространить далеко за пределы материального мира. Когда нам кажется,
что наш дух находится в состоянии полной бездеятельности, то это вовсе не
значит, что сумма реальных оснований для [нашего] мышления и [наших] влечений в
этом случае меньше, чем в том состоянии, когда та или иная степень этой
деятельности доходит до нашего сознания. Попросите самого ученого человека в
моменты, когда он ничем не занят и отдыхает, чтобы он что-то рассказал о своих
взглядах! [Окажется, что] он ничего не знает, и в этом состоянии вы его найдете
пустым, не имеющим ни определенных соображений, ни суждений. Но дайте ему только
повод [высказать их] каким-либо вопросом или вашим собственным суждением! Его
ученость обнаружится в целом ряде действий, которые примут такое направление,
что дадут ему самому и вам возможность понять эти взгляды. Нет сомнения, что
реальные основания для этого давно уже в нем имелись, но так как по отношению к
сознанию следствие [их] было равно нулю, то они должны были быть противоположны
друг другу. Так, орудия, изобретенные искусством разрушения, в грозном
безмолвии лежат в арсенале какого-нибудь князя для будущей войны, пока
предательский трут не коснется их, заставив вспыхнуть молнией и опустошить все
вокруг себя. Пружины, которые все время
117
были
готовы развернуться, лежали в этих орудиях, связанные огромной силой притяжения,
и ждали только действия искры, чтобы освободиться. Есть нечто великое и, как
мне кажется, очень верное в мысли г-на фон Лейбница: силой своего представления
душа охватывает всю Вселенную, хотя только бесконечно малая часть этого
представления достигает ясности. В самом деле, все виды понятий должны
покоиться только на внутренней деятельности нашего духа как на своем основании.
Вещи внешнего мира могут, конечно, содержать в себе условия, при которых они
так или иначе обнаруживаются, но они не заключают в себе той силы, которая их
действительно порождает. Мыслительная способность души должна содержать
реальные основания для всех этих [понятий], сколько бы их ни возникло в ней
естественным путем, и явления возникающих и исчезающих знаний следует, по всей
видимости, рассматривать как результат согласованности или противоположности
всех моментов этой деятельности. Эти суждения можно рассматривать как
истолкование первого положения предыдущего параграфа.
В явлениях нравственного порядка нуль также не всегда следует рассматривать как отрицание в смысле отсутствия; больший положительный результат тоже далеко не всегда есть доказательство более значительного действия, направленного на достижение такого результата. Вложите в человека какую-нибудь страсть [силою] в десять единиц, в определенном случае противоречащую законам долга, например скряжничество! Наделите затем этого человека стремлением поступать по принципам любви к ближнему [силою] в двенадцать единиц, тогда результатом будут две степени способности его благодетельствовать и оказывать помощь [ближнему]. Представьте себе другого человека, которому присуща жадность к деньгам [силою] в три единицы, а способность действовать по принципам долга [силою] в семь единиц. Его способность действовать на пользу ближнего в результате столкновения противоположных влечений будет иметь силу в четыре единицы. Бесспорно, однако, что, поскольку
118
упомянутую
страсть можно рассматривать как естественную и непроизвольную, моральная
ценность поступков первого будет выше ценности поступков второго, хотя если бы
мы захотели оценивать их с точки зрения живой силы, то во втором случае
результат превосходит первый. Поэтому человек не может правильно судить о
степени добродетельности других людей по их поступкам, и только тот может
сохранить за собой право судить, кто способен проникнуть в тайники
[человеческого] сердца.
4
Если решиться применить эти понятия к столь ограниченному знанию, какое люди могут иметь о бесконечном божестве, то какие только трудности не встанут и при самых крайних [наших] усилиях. Так как основание для этих понятий мы можем почерпнуть только из самих себя, то в большинстве случаев остается неясным, должны ли мы переносить на этот непостижимый предмет эту идею в ее собственном смысле или же только посредством некоторой аналогии. Истинным мудрецом все еще оказывается Симонид, который после долгих колебаний и отсрочек дал наконец своему государю такой ответ: чем больше я размышляю о боге, тем меньше я способен постичь его. Язык ученой черни звучит не так. Она ничего не знает, ничего не понимает, но обо всем говорит и очень кичится тем, что́ говорит. В высшем существе не может быть никаких оснований для лишения или какой-либо реальной противоположности. Поскольку все дано в нем и через него, оно обладает всеми определениями и потому в его собственном бытии невозможно никакое внутреннее устранение. Поэтому богу никогда нельзя приписать такой предикат, как чувство неудовольствия. Человек никогда не испытывает влечения к предмету, не питая положительного отвращения к его противоположности, т. е. отношение его воли есть не только контрадикторная противоположность влечения, но и реальная противоположность этого влечения (отвращение), а стало быть, следствие положительного
119
неудовольствия. При каждом желании, которое проявляет верный наставник, стремясь хорошо воспитать своего ученика, всякий результат, не соответствующий его старанию, противен ему положительно и служит основанием для неудовольствия. Отношения предметов к божественной воле совсем иного рода. Собственно говоря, никакая вещь внешнего мира не есть для этой воли основание удовольствия или неудовольствия. В самом деле, эта воля ни в малейшей мере не зависит от чего-то другого и эта чистая радость присуща блаженному самим собою не потому, что добро существует вне его, а, наоборот, это добро существует потому, что вечное представление о возможности добра и связанная с этим радость составляют основание уже исполненного желания. Если сравнить с этим [наше] конкретное представление о природе влечений всех сотворенных [существ], то мы увидим, как мало может иметь с ними сходства воля [существа] несотворенного; этот [вывод] и в отношении остальных определений не покажется неожиданным для тех, кто хорошо понимает, как неизмеримо велико должно быть качественное различие, если сопоставить вещи, которые сами по себе ничто, с тем, благодаря чему только и существует все.
Общее замечание
Так как с каждым днем число основательных философов, как они сами себя именуют, растет и так как они настолько глубоко проникают в природу вещей, что для них уже ничто не остается скрытым, чего они не могли бы объяснить и понять, то я уже предвижу, что понятие реальной противоположности, с самого начала положенное мной в основу этого сочинения, покажется им весьма поверхностным, а построенное на нем понятие отрицательных величин — недостаточно основательным. Но я, как человек, не привыкший скрывать слабость своего разумения, из-за которой я обыкновенно меньше всего понимаю то, что всем людям кажется весьма понятным, утешаюсь тем, что эта моя неспособность дает мне право на помощь со стороны этих
120
великих умов; их глубокая мудрость могла бы восполнить те пробелы, которые должно было оставить мое слабое разумение.
Я очень хорошо понимаю, как следствие определяется основанием по закону тождества, потому что через расчленение понятий становится очевидным, что оно уже содержится в этом основании. Так, необходимость есть основание неизменности, сложность — основание делимости, бесконечность — основание всеве́дения и т. д. и т. д. Эту связь основания со следствием я могу усмотреть с полной ясностью, так как следствие действительно совпадает здесь с частью понятия основания, и, поскольку оно уже содержится в нем, оно тем самым определяется данным основанием по закону согласия. Но как нечто вытекает из чего-то другого не по закону тождества, объяснение этого я охотно бы послушал. Первый вид основания я называю логическим основанием, потому что его отношение к следствию может быть усмотрено логически, т. е. с [полной] ясностью по закону тождества; второй же вид основания я называю реальным основанием потому, что это отношение хотя и принадлежит к моим истинным понятиям, однако самый характер его никак не может быть предметом суждения.
А что касается этого реального основания и его отношения к следствию, то мой вопрос принимает такой простой вид: как должен я понять, что, благодаря тому что есть нечто, есть также и что-то другое. Логическое следствие имеет силу в сущности лишь потому, что оно тождественно с основанием. Человек может заблуждаться; основание этой возможности заблуждаться коренится в ограниченности его природы. В самом деле, я расчленяю понятие конечного духа, я вижу, что возможность заблуждаться уже заложена в нем, т. е. что она тождественна с тем, что содержится в понятии конечного духа. Но божественная воля содержит в себе реальное основание существования мира. Божественная воля есть нечто. Существующий мир есть нечто совсем другое. Между тем одним полагается другое. Мое состояние, когда я слышу имя Стагирит13, есть нечто, благодаря чему полагается что-то другое,
121
а именно моя мысль о философе. Тело
а находится в движении, другое тело B, находящееся на той же прямой линии, — в состоянии покоя.
Движение тела а есть нечто, движение тела В есть нечто другое, и тем не менее
одним полагается другое. Вы можете сколько угодно расчленять понятие
божественной воли и все же никогда не найдете в нем существующего мира, и
нельзя сказать, что он заключается в этом понятии и благодаря тождеству им
полагается, и точно так же во всех других случаях. Я не могу, конечно, удовлетвориться
словами причина и действие, сила и действование.
Ведь если я рассматриваю нечто уже как причину чего-то или связываю с ней
понятие силы, то я тем самым уже мыслил в ней отношение реального основания к
следствию и тогда уже легко понять полагание следствия по закону тождества.
Так, исходя из всемогущества божественной воли весьма легко понять
существование мира. Однако здесь могущество означает в боге то,
благодаря чему полагаются другие вещи. Но это слово уже обозначает отношение
реального основания к следствию, [т. е.] то, разъяснение чего я и хотел бы
получить. Кстати замечу, что проводимое г-ном Крузием деление на идеальное и
реальное основание совершенно отлично от моего. В самом деле, его идеальное основание
совпадает с основанием познания, и в этом случае легко понять, что если я
что-нибудь уже рассматриваю как основание, то я могу вывести отсюда и
следствие. Поэтому, согласно его положениям, западный ветер есть реальное
основание туч и вместе с тем идеальное основание, потому что, исходя из этого основания,
я могу познать и предвидеть их. По нашим же понятиям, реальное основание
никогда не может быть логическим основанием и дождь определяется ветром не по
закону тождества. Рассмотренное нами выше различие между логической и реальной
противоположностью аналогично только что указанному различию между логическим и
реальным основанием.
Первое для меня ясно посредством закона противоречия, и я понимаю,
что если я приписываю богу бесконечность, то этим исключается [по отношению к
нему] предикат смертности, потому что этот второй предикат
122
противоречит первому. Но каким образом движение одного тела может устранить движение другого тела, не находящееся с ним ни в каком противоречии, — это совсем другой вопрос. Если я предположу непроницаемость, реально противоположную всякой силе, которая стремится проникнуть в пространство, занимаемое данным телом, то я уже могу понять, почему движения устраняются. Но в таком случае я свел одну реальную противоположность к другой. Пусть подумают, можно ли вообще объяснить реальную противоположность и дать ясно понять, каким образом из-за того, что нечто существует, нечто другое устраняется, и можно ли об этом сказать больше того, что я об этом сказал, а именно только то, что это происходит не по закону противоречия. Я размышлял о природе нашего познания в отношении наших суждений об основаниях и следствиях, и когда-нибудь я подробно изложу результат этих размышлений. Из него явствует, что отношение реального основания к чему-то, что оно полагает или устраняет, может быть выражено не посредством суждения, а единственно только посредством понятия, которое, если разложить его, можно, правда, привести к более простым понятиям о реальных основаниях, однако лишь таким образом, что в конце концов все наши познания об этом отношении сведутся к некоторым простым и далее уже неразложимым понятиям о реальных основаниях, отношение которых к следствию уже никак нельзя сделать понятным. а до того времени те, чей надменный ум не знает никаких границ, пусть испытывают методы своей философии, чтобы установить, как далеко могут они продвинуться в решении подобных вопросов.
![]()
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
О РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТАХ ЧУВСТВА ВОЗВЫШЕННОГО И ПРЕКРАСНОГО
Различные ощущения приятного или неприятного основываются не столько на свойстве внешних вещей, возбуждающих эти ощущения, сколько на присущем каждому человеку чувстве удовольствия или неудовольствия от этого возбуждения. Этим объясняется, что одни люди испытывают радость по поводу того, что́ у других вызывает отвращение; этим же объясняется, что любовная страсть часто остается загадкой для всех окружающих или что один ненавидит то, к чему другой совершенно равнодушен. Сфера наблюдений этих особенностей человеческой природы простирается очень далеко и таит в себе еще множество открытий, столь же привлекательных, сколь и поучительных. Здесь я обращу внимание лишь на некоторые пункты, особенно, как нам кажется, выделяющиеся в данной области, и взгляну на них больше глазами наблюдателя, чем философа.
Так как человек чувствует себя счастливым, лишь поскольку он удовлетворяет какую-нибудь склонность, то чувство, делающее его способным испытывать большое удовольствие, не нуждаясь для этого в исключительных талантах, имеет, конечно, немаловажное значение. Тучные люди, для которых самый остроумный автор — это их повар, чьи изысканные произведения хранятся в их погребе, будут по поводу пошлой непристойности и плоской шутки испытывать такую же пылкую радость, как и та, которой гордятся люди более
127
благородных чувств. Ленивый человек, любящий слушать чтение книги потому, что при этом можно прекрасно заснуть; купец, которому все удовольствия кажутся глупыми, за исключением того, которое умный человек испытывает, когда он составляет смету своей торговой прибыли; тот, кто любит другой пол лишь в той мере, в какой он причисляет его к предметам, годным для употребления; любитель охоты, охотится ли он за мухами, как Домициан, или за дикими животными, как А... — у всех этих людей есть чувство, делающее их способными наслаждаться каждого на свой лад; им незачем для этого завидовать другим, и они могут при этом не составлять о других определенного представления; однако в данное время мое внимание обращено не на чувство таких людей. Существует еще одно чувство, более тонкое; оно называется так или потому, что его можно испытывать более длительное время без пресыщения и истощения; или потому, что оно предполагает, так сказать, некоторую возбудимость души, делающую ее способной к добродетельным порывам; или же потому, что оно свидетельствует о талантах и превосходстве духа, тогда как названные выше чувства бывают и при полном отсутствии мыслей. Одну сторону именно этого чувства я и хочу рассмотреть. Но я исключаю отсюда ту склонность, которая обращена на глубокое проникновение ума, а также то возбуждение, к которому был способен такой человек, как Кеплер, когда он, как сообщает Бейль, заявил, что одного своего открытия он не отдал бы за целое княжество. Подобного рода чувство слишком тонко, чтобы оно могло быть темой настоящего очерка, касающегося лишь того чувства, к которому способны и более обыкновенные люди.
Имеется преимущественно два вида более тонкого чувства, которое мы хотим здесь рассмотреть: чувство возвышенного и чувство прекрасного. Оба чувства возбуждают приятное, но весьма различным образом. Вид гор, снежные вершины которых поднимаются над облаками, изображение неистовой бури или описание ада у Мильтона вызывают удовольствие, связанное, однако, с некоторым страхом. Вид покрытых цветами лугов и долин с бегущими по ним ручьями и пасущимися
128
на них стадами, описание рая или гомеровское изображение женских прелестей также вызывают приятное чувство, но радостное и веселое. Чтобы первое из упомянутых здесь впечатлений имело надлежащую силу, мы должны обладать чувством возвышенного; для того же, чтобы как следует насладиться вторым, необходимо иметь чувство прекрасного. Высокие дубы и уединенные тени священной рощи возвышенны, цветочные клумбы, низкая изгородь и затейливо подстриженные деревья прекрасны. Ночь возвышенна, день прекрасен. Спокойная тишина летнего вечера, когда мерцающий свет звезд пробивается сквозь ночные тени и светит одинокая луна, постепенно вызывает у натур, обладающих чувством возвышенного, глубокое чувство приязни, презрения к земному, ощущение вечности. Сияющий день внушает деловое рвение и чувство веселья. Возвышенное волнует, прекрасное привлекает. Выражение лица человека, охваченного чувством возвышенного, серьезно, иногда неподвижно и полно удивления. Сильное ощущение прекрасного, напротив, возвещает о себе блеском веселья в глазах, улыбкой и порой шумной радостью. Возвышенное в свою очередь бывает различного рода. Иногда этому чувству сопутствует некоторый страх или даже грусть, в иных случаях — лишь спокойное изумление, еще в других — сознание возвышенной красоты. Первое я хотел бы назвать устрашающе-возвышенным, второе — благородным, третье — великолепным. Глубокое одиночество возвышенно, но оно чем-то устрашает*. Поэтому
129
огромные, обширные пустыни, как, например, необъятная пустыня Шамо в Центральной Азии, всегда давали повод к тому, чтобы населять их страшными тенями, домовыми и привидениями.
Возвышенное всегда должно быть значительным, прекрасное может быть и малым. Возвышенное должно быть простым, прекрасное может быть нарядным и изысканным. Большая высота вызывает чувство возвышенного, как и большая глубина, однако чувство, вызываемое такой глубиной, сопровождается ощущением ужаса; чувство же, вызываемое высотой, — изумлением; и именно поэтому первое ощущение может быть устрашающе-возвышенным, а второе — благородным. Вид египетских пирамид, как рассказывает Хассельквист1, производит на нас гораздо большее впечатление,
130
чем все описания, однако устройство их просто и благородно. Церковь св. Петра в Риме великолепна. Так как на здании ее, величественном и простом, красота, например золото, мозаика и т. п., распределена так, что ощущение возвышенного все же преобладает, то и самый предмет называется великолепным. Арсенал должен быть благороден и прост, за́мок правителя — великолепен, загородный дворец — красив и наряден.
Длительность возвышенна. Если она относится к прошедшим временам, она благородна. Если же предвидят ее в необозримом будущем, она пугает. Постройки самой далекой древности вызывают благоговение. Описание Галлером вечности будущего вызывает легкий трепет, а его описание вечности прошедшего — немое изумление.
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
О СВОЙСТВАХ ВОЗВЫШЕННОГО И ПРЕКРАСНОГО У ЧЕЛОВЕКА ВООБЩЕ
Ум возвышен, остроумие прекрасно. Смелость возвышенна и величественна, хитрость ничтожна, но красива. Осторожность, говорил Кромвель, есть добродетель бургомистра. Правдивость и честность просты и благородны, шутка и угодливая лесть тонки и красивы. Учтивость — украшение добродетели. Бескорыстное служебное рвение благородно, утонченность и вежливость прекрасны. Возвышенные свойства внушают уважение, прекрасные же — любовь. Люди, чувство которых обращено преимущественно на прекрасное, ищут себе честных, верных и серьезных друзей только в несчастье, для повседневного же общения они избирают себе шутливого, учтивого и вежливого собеседника. Некоторых людей ценят слишком высоко, чтобы их можно было любить. Они внушают нам удивление, но настолько превосходят нас, что мы не решаемся приблизиться к ним с интимным чувством любви. Те, кто сочетает в себе оба эти чувства, найдут, что умиление, вызываемое возвышенным, сильнее умиления, вызываемого прекрасным. Но если чувство возвышенного не чередуется с чувством прекрасного или
131
не сопровождается им, оно утомляет и не может продолжаться такое длительное время*. Глубокие чувства, до которых возвышается иногда беседа в избранном обществе, должны время от времени находить разрядку в веселой шутке, а радостный смех должен составить прекрасный контраст к растроганному и серьезному выражению лица, способствуя тому, чтобы оба вида этих ощущений непринужденно сменяли друг друга. Для дружбы характерно главным образом возвышенное, для любви же между мужчиной и женщиной — прекрасное. Однако нежность и глубокое уважение придают этой любви известное достоинство и возвышенность, а забавная шутка и интимность усиливают в этом чувстве колорит прекрасного. Трагедия, на мой взгляд, отличается от комедии главным образом тем, что первая возбуждает чувство возвышенного, а вторая — чувство прекрасного. В первой перед нами выступает великодушное самопожертвование для блага других, отважная решимость в опасностях и испытанная верность. Любовь там печальна, нежна и исполнена глубокого уважения, несчастье же других пробуждает в душе у зрителя сочувствие, чужое горе заставляет сильнее биться великодушное сердце. Зритель тронут и ощущает благородство своей собственной натуры. Комедия, напротив, изображает тонкие интриги, забавную неразбериху, остряков, умеющих выпутаться из всякого положения, глупцов, позволяющих себя обманывать, шутки и смешные характеры. Любовь здесь не так мрачна, она весела и непринужденна. Тем не менее и здесь, так же как в других случаях, благородное может в известной мере сочетаться с прекрасным.
Даже пороки и нравственные недостатки не лишены иногда некоторых черт возвышенного или прекрасного,
132
по крайней мере в том виде, в каком они предстают нашему непосредственному чувству, не осознанному еще разумом. Гнев человека, внушающего страх, имеет возвышенный характер, как гнев Ахилла в «Илиаде». Вообще герой Гомера устрашающе-возвышен, тогда как герой Вергилия благороден. В открытой смелой мести за сильное оскорбление есть что-то величественное, и, как бы непозволительна она ни была, она в рассказе все же трогает нас ужасом и вызывает сочувствие[2]. Когда на шаха Надира в его шатре ночью напало несколько заговорщиков, то он, как рассказывает Ганвей3, отчаянно защищаясь, раненый, воскликнул: «Пощадите! Я всех вас прощу». Тогда один из нападавших, занеся над ним саблю, ответил: «Ты никого не щадил и не заслуживаешь пощады». Решительная отвага, проявленная подлецом, в высшей степени опасна, но в рассказе она все же трогает, и, даже когда его ведут на позорную казнь, он до известной степени облагораживает ее тем, что встречает ее с гордым презрением. С другой стороны, в хитроумном замысле, даже если цель его — мошенничество, есть что-то утонченное и вызывающее смех. Изощренное кокетство, а именно старание пленять и очаровывать, быть может, и достойно порицания по отношению к тем, кто в других отношениях вполне благопристоен, но все же привлекательно, и обыкновенно его предпочитают скромному и серьезному благонравию.
Облик тех, кто нравится своей внешностью, затрагивает то одно, то другое из названных чувств. Так, высокий рост обращает на себя внимание и внушает уважение, маленький рост располагает больше к непринужденности. Даже смугловатое лицо и черные глаза ближе к возвышенному, голубые глаза и светлые волосы — к прекрасному. Более почтенный возраст сочетается со свойствами возвышенного, молодость же — со свойствами прекрасного. Так же обстоит дело и с
133
различием по сословиям, и во всех этих только что упомянутых случаях даже вид одежды должен соответствовать этому различию чувств. Люди высокого роста со статной фигурой должны соблюдать в своей одежде простоту или — самое большее — великолепие, люди маленького роста могут быть нарядными и разукрашенными. Солидному возрасту подобают более темные цвета и однообразие одежды. Молодость любит выделяться более светлой и яркой одеждой. Люди из различных сословий при одинаковом имущественном положении и ранге должны одеваться по-разному: духовное лицо — с наибольшей простотой, государственный муж — с наибольшим великолепием. Чичисбей может наряжаться как ему заблагорассудится.
Во внешнем благополучии также есть нечто, что по крайней мере в воображении людей имеет отношение к этого рода чувствам. Происхождение и звание обыкновенно располагают людей к уважению. Богатство, хотя бы и без заслуг, почитается даже людьми бескорыстными, потому вероятно, что с представлением о нем связываются мысли о великих деяниях, которые посредством него могли бы быть совершены. Это уважение выпадает заодно и на долю некоторых богатых мерзавцев, которые подобных деяний никогда не совершат и не имеют никакого понятия о благородном чувстве, которое единственно могло бы придать богатствам какую-то ценность. Зло, причиняемое бедностью, усугубляется презрением, которое даже заслуги не могут полностью перевесить, по крайней мере в глазах толпы, разве что чин и звание введут в заблуждение это грубое чувство и обманут к его же пользе. В человеческой природе никогда не бывает достойных качеств, отклонения от которых не переходили бы через бесконечные оттенки в самые крайние несовершенства. Устрашающе-возвышенное, если оно совершенно неестественно, приобретает причудливый характер*. Неестественное, если предполагают, что
134
в нем есть возвышенное, хотя бы его и было в нем мало или вовсе не было, представляет собой гримасы (Fratzen). Кто любит все причудливое (Abenteuerliche) и верит в него, тот фантазер; склонность же к гримасам делает из человека чудака. С другой стороны, чувство прекрасного извращается, если при этом совершенно отсутствует благородство, и тогда его называют нелепым (läppisch). Мужчину с таким качеством, если он молод, называют дуралеем, а если он в среднем возрасте, — фатом. Так как более пожилому возрасту всегда более пристойно возвышенное, то старый фат — самое презренное существо в мире, так же как молодой чудак — самое противное и несносное. Шутки и веселость относятся к чувству прекрасного. При всем том [в них] может просвечивать еще довольно много ума, и постольку они могут быть более или менее близки к возвышенному. Тот, в чьей веселости эта примесь [ума] незаметна, — пустомеля. Тот, кто постоянно мелет вздор, глуп, Легко заметить, что и умные люди иногда говорят глупости и что нужно немало ума, чтобы, отозвав на короткое время рассудок с его поста, ничего при этом не упустить. Тот, чьи речи или поступки не забавляют и не трогают, скучен. Скучный человек, если он тем не менее пытается развлечь и заинтересовать, пошл. Пошлый же человек, если он еще и чванлив, — дурак*. Этот курьезный очерк человеческих слабостей я попытаюсь пояснить несколькими примерами; ведь тот, кому не хватает гравировального резца Хогарта4, должен отсутствие выразительности в своем изображении восполнить описанием. Готовность подвергнуться опасностям ради нас самих, ради нашего отечества и наших друзей — такая отвага возвышенна. Крестовые
135
походы, старое рыцарство были авантюрны; дуэли, жалкий остаток их, основанный на превратном представлении о чести, суть гримасы[3]. Грустное отрешение от мирской суеты из-за понятного пресыщения [ею] благородно. Отшельническая набожность древних пустынников была причудлива. Монастыри и другие подобного рода склепы для заточения в них живых святых — это гримасы. Укрощение страстей ради принципов возвышенно. Умерщвление плоти, обеты и другие монашеские добродетели суть гримасы. Мощи, священное дерево и всякого рода подобный хлам, в том числе и священные испражнения великого ламы Тибета, — все это гримасы. Из произведений, отличающихся остроумием и тонким чувством, эпические стихотворения Вергилия и Клопштока относятся к сфере благородного, Гомера и Мильтона — к области приключенческого, «Метаморфозы» Овидия суть гримасы, волшебные сказки французского суемудрия — самые жалкие гримасы, которые когда-либо были придуманы. Анакреонтические стихотворения обычно весьма близки к нелепому.
Произведения ума и остроумия, если содержание их имеет какое-то касательство к чувству, равным образом причастны так или иначе к упомянутым различиям [возвышенного и прекрасного]. Математическое представление о бесконечной величине мироздания, рассуждения метафизики о вечности, о провидении, о бессмертии нашей души в известной мере возвышенны и благородны. С другой стороны, и философия немало извращается пустыми мудрствованиями, и видимость основательности [в ней] не мешает тому, чтобы четыре силлогистические фигуры по праву рассматривать просто как школьные гримасы.
Среди моральных свойств только истинная добродетель возвышенна. Все же имеются и другие хорошие нравственные качества, привлекательные и прекрасные; если они согласуются с добродетелью, их можно рассматривать и как благородные, хотя, строго говоря, по своему характеру их нельзя отнести к добродетелям. Судить об этом — дело тонкое и сложное. Нельзя, конечно, назвать добродетельным расположение духа, приводящее к таким поступкам, к которым, правда, могла
136
бы стремиться добродетель из соображений, случайно совпадающих с добродетелью, но по своей природе часто могущих даже противоречить общим правилам добродетели. Некоторое мягкосердечие, легко превращающееся в теплое чувство сострадания, прекрасно и привлекательно[4]: оно свидетельствует о доброжелательном участии в судьбе других людей, к чему сводятся также и принципы добродетели. Однако эта благонравная склонность все же слаба и всегда слепа. В самом деле, допустим, что это чувство побуждает вас затратить часть ваших средств на помощь нуждающемуся, а вы между тем должны кому-то другому, и это лишает вас возможности исполнить строгий долг справедливости; очевидно, что в этом случае ваш поступок не может возникнуть из добродетельного намерения, ведь подобное намерение никак не могло бы побудить вас к тому, чтобы ради этого слепого влечения пожертвовать более высоким обязательством. Напротив, если благорасположение ко всему человеческому роду вообще стало для вас принципом, которому вы всегда подчиняете свои поступки, то любовь к нуждающемуся остается, но теперь она с некоторой высшей точки зрения поставлена в истинное отношение ко всей совокупности ваших обязательств. Вообще благожелательность к людям есть основание не только сочувствия к их бедам, но и справедливости, согласно предписанию которой вы в данный момент не должны совершать данный поступок. И вот как только это чувство достигнет надлежащей всеобщности, оно становится возвышенным, но и более холодным. Ведь невозможно, чтобы наше сердце преисполнялось нежным участием в судьбе каждого и чтобы мы по поводу каждого чужого несчастья впадали в уныние; иначе добродетельный человек, непрестанно проливая подобно Гераклиту слезы сострадания, при всем своем добросердечии оказался бы не чем иным, как только мягкосердечным бездельником*.
137
Второй вид чувства благожелательности, несомненно прекрасного и привлекательного, но не составляющего еще основы истинной добродетели, — это услужливость, стремление быть приятным другим своей приветливостью, готовностью пойти навстречу желаниям других и сообразовать свое поведение с их настроениями. Эта привлекательная обходительность прекрасна, и такая отзывчивость благородна. Однако это чувство вовсе не добродетель; более того, там, где высокие принципы не ограничивают и не ослабляют его, из него могут возникнуть всевозможные пороки. В самом деле, не говоря уже о том, что эта услужливость по отношению к тем, с кем мы общаемся, часто есть несправедливость по отношению к другим, находящимся вне этого тесного круга, такой человек, если иметь в виду только это побуждение, может обладать всеми пороками, и не в силу его непосредственных наклонностей, а потому, что он желает доставить кому-то удовольствие. Ради любвеобильной обходительности он становится лжецом, бездельником, пьяницей и т. п., потому что он поступает не по правилам хорошего поведения вообще, а сообразно своей склонности, которая сама по себе прекрасна, но становится нелепой, поскольку она неустойчива и беспринципна.
Вот почему истинная добродетель может опираться только на принципы, и, чем более общими они будут, тем возвышеннее и благороднее становится добродетель. Эти принципы не умозрительные правила, а осознание чувства, живущего в каждой человеческой душе и простирающегося не только на особые основания сострадания и услужливости, но гораздо дальше. Мне кажется, что я выражу все, если скажу, что это есть чувство красоты и чувство достоинства человеческой
138
природы. Первое есть основание всеобщего благорасположения, второе — основание всеобщего уважения, и если бы это чувство достигло в каком-либо человеческом сердце высшей степени совершенства, то этот человек, правда, и самого себя любил и ценил бы, однако лишь постольку, поскольку он лишь один из всех тех, на кого простирается его широкое и благородное чувство. Только тогда, когда мы подчиняем свои особые склонности такой обширной склонности, наши добрые стремления могут находить для себя соответственное применение и способствовать претворению в жизнь той благородной пристойности, которая и составляет красоту добродетели.
Зная слабость человеческой природы и ничтожность власти, какую всеобщее моральное чувство могло бы проявить в отношении большинства [человеческих] сердец, провидение вложило в нас подобного рода вспомогательные стремления в качестве дополнений к добродетели; и эти стремления таковы, что, в то время как одних они и без наличия принципов побуждают к благородным поступкам, другим, руководствующимся этими принципами, они способны дать более сильный толчок к добродетели и более сильное к ней побуждение. Сострадание и услужливость представляют собой основания благородных поступков, которые при преобладании над ними более грубого чувства своекорыстия, быть может, вовсе не были бы совершены, но они не составляют, как мы видели, непосредственных оснований добродетели, хотя они и приобретают ее название, когда, связанные с ней, облагораживаются. Я могу их поэтому назвать адоптированными добродетелями, а ту добродетель, которая зиждется на принципах, — истинной добродетелью. Те прекрасны и привлекательны, одна только эта возвышенна и достойна преклонения. Сердце, в котором господствуют ощущения первого рода, называют добрым сердцем, а человека, обладающего им, — добросердечным; что же касается добродетельного человека, действующего согласно принципам, то мы можем с полным правом сказать, что у него благородное сердце, а его самого можем назвать честным. Адоптированные добродетели, однако, в
139
значительной мере сходны с истинными, поскольку содержат в себе чувство непосредственного удовольствия от хороших и благожелательных поступков. Человек добросердечный будет без какого-либо особого намерения, из непосредственной готовности услужить спокойно и вежливо обходиться с вами, а также искренне сочувствовать несчастью другого.
Так как, однако, такой моральной симпатии еще недостаточно, чтобы побудить косную человеческую природу к общеполезным поступкам, то провидение вложило в нас еще некоторого рода тонкое чувство, заставляющее нас действовать и способное уравновесить более грубое своекорыстие и склонности к низменным наслаждениям, — это есть чувство чести и его следствие — стыд. Мнение других о нашем достоинстве и их суждение о наших поступках есть сильная побудительная причина, заставляющая нас идти на многие жертвы. То, что значительная часть людей не сделала бы из непосредственного порыва добросердечия или из принципов, довольно часто делается только для вида исходя из иллюзии, весьма полезной, хотя самой по себе и пустой, будто суждение других определяет достоинство нас самих и ценность наших поступков. Все, что происходит из такого побуждения, нисколько не добродетельно, и именно поэтому каждый желающий прослыть таковым тщательно скрывает [от других] побудительный мотив — честолюбие. Эта склонность даже еще менее, чем добросердечие, сродни истинной добродетели, ибо деятельной она может стать не непосредственно — благородством поступков, а лишь их благопристойностью в глазах других людей. Соответственно этому, поскольку чувство чести все же весьма тонкое, я могу назвать то подобие добродетели, которое оно порождает, показным блеском добродетели.
Если мы сравним между собой натуры людей по тому, какой из трех упомянутых здесь видов чувства господствует в них и определяет их моральный характер, то мы найдем, что каждое из этих чувств тесно связано с одним из известных нам темпераментов, но при этом чаще всего моральное чувство отсутствует у флегматиков. Дело не в том, будто главный признак в
140
характере этих различных натур зависит от упомянутых черт; ведь более грубое чувство, например своекорыстие, низменное наслаждение и т. п., мы в настоящем сочинении вообще не рассматриваем, а между тем при обычной классификации на подобного рода склонности обращается больше всего внимания. Дело в том, что упомянутые более тонкие моральные ощущения могут легче сочетаться с тем или другим из этих темпераментов, и они действительно большей частью и сочетаются с ними.
Если общим основанием всей совокупности наших поступков становятся сокровенное чувство красоты и достоинства человеческой природы, равно как и самообладание и сила духа, то это есть нечто серьезное и не вяжется, конечно, с ветреной веселостью или непостоянством легкомысленного человека. Такое чувство будет даже ближе к нежному благородному чувству грусти, если только эта грусть основывается на том [внутреннем] страхе, который испытывает ограниченная [по своей природе] душа, когда она, исполненная великих замыслов, видит предстоящие ей опасности и перед ней встает трудное, но великое усилие над самой собой. В подлинной добродетели, т. е. добродетели, исходящей из принципов, есть поэтому нечто такое, что всего более, пожалуй, созвучно умеренному меланхолическому характеру.
Добросердечие, красота и тонкая чувствительность души, состоящие в том, что в зависимости от того или другого повода проявляют в отдельных случаях сострадание или благосклонность, весьма подвержены смене обстоятельств, и, поскольку подобное движение души не покоится на всеобщем принципе, оно легко видоизменяется, смотря по тому, какой своей стороной обращены [к нам] объекты. Итак как эта склонность ведет к прекрасному, то она, как нам кажется, всего естественнее согласуется с тем душевным складом, который называют сангвиническим, отличающимся непостоянством и жаждой развлечений. В этом темпераменте мы и должны будем искать те привлекательные качества, которые мы назвали адоптированными добродетелями.
141
Чувство чести обычно рассматривалось другими как признак холерического склада души, и на этом основании мы можем для описания такого характера найти моральные следствия этого тонкого чувства, имеющие целью большей частью лишь внешний блеск.
Не бывает людей без всяких признаков более тонких чувств, однако чаще всего они отсутствуют (такое отсутствие соответственно называют бесчувственностью) у людей флегматического темперамента, которому иногда отказывают даже в более грубых побудительных причинах, таких, как жадность к деньгам и т. п., но мы можем во всяком случае за ним оставить эти [влечения] вместе с другими родственными им склонностями, потому что они вовсе не относятся к этой сфере.
Рассмотрим теперь чувства возвышенного и прекрасного — главным образом с их моральной стороны — несколько подробнее с точки зрения принятой классификации темпераментов.
Тот, чье чувство приобретает меланхолический характер, не потому называется меланхоликом, что, лишенный радостей жизни, он терзается в мрачной тоске, а потому, что его ощущения, если они усиливаются сверх определенной степени или по каким-то причинам принимают ложное направление, легче приводят к такому, а не какому-либо другому состоянию [духа]. Такой человек больше всего обладает чувством возвышенного. Даже красота, которую он чувствует в такой же степени, должна не только привлекать его, но, поскольку она в то же время вызывает в нем восхищение, также и волновать его. Наслаждение от развлечений имеет у него более серьезный характер7 не становясь от этого менее сильным. Все, что трогает как возвышенное, больше чарует, чем обманчивые прелести прекрасного. Хорошее самочувствие вызывает у меланхолика не столько веселость, сколько удовлетворенность. Он постоянен. Поэтому он свои чувства подчиняет принципам. Его чувства тем меньше подвержены изменениям, чем более общим является принцип, которому они подчиняются, и чем шире, следовательно, то глубокое чувство, которое охватывает чувства, стоящие ниже. Все особые основания для склонностей
142
допускают много исключений и изменений, если они не выведены из подобного высшего основания. Веселый и приветливый Альцест говорит: я люблю и уважаю свою жену, потому что она прекрасна, ласкова и умна. Ну а если болезнь ее обезобразит, возраст сделает ворчливой, то, после того как первое очарование исчезнет, покажется ли она вам умнее, чем всякая другая? Если нет уже основания [для очарования], то что станется со склонностью? А вот благожелательный и степенный Адраст5 рассуждает так: к этой женщине я буду относиться с любовью и уважением, потому что она моя жена. Этот образ мыслей благороден и великодушен. Пусть отныне меняются временные привлекательные черты, но она все же останется его женой. Благородный мотив остается и не слишком подчинен непостоянству внешних обстоятельств. Таковы принципы по сравнению с порывами, вызываемыми лишь тем или иным отдельным поводом, и таков человек, руководящийся принципами, в противоположность тем, на кого только случайно находит доброе и любвеобильное настроение. Ну а если бы даже тайный голос его сердца говорил следующее: вот тому человеку я должен помочь, ибо он страдает; не потому, что он мой друг или товарищ или что я считаю его способным ответить благодарностью на мое благодеяние. Теперь не время размышлять и ставить вопросы: он человек, а что случается с человеком, касается и меня. В этом случае поведение его зиждется на высшем основании доброжелательства в человеческой природе и в высшей степени возвышенно как по своей неизменности, так и в силу всеобщности своего применения.
Я продолжу свои замечания. Человек меланхолического склада мало заботится о том, каково суждение других, что́ они считают хорошим или истинным; он опирается поэтому только на свое собственное разумение. Так как побудительные мотивы принимают у него характер принципов, то нелегко внушить ему новые мысли; его постоянство иногда превращается в упрямство. На перемену в модах он смотрит с равнодушием, а на их блеск — с презрением. Дружба возвышенна и потому соответствует его чувству. Сам он может,
143
конечно, потерять непостоянного друга, но этот последний не так легко потеряет его. Даже память об угасшей дружбе для него все еще священна. Красноречие прекрасно, молчание, исполненное мыслей, возвышенно. Меланхолик хорошо хранит свои и чужие тайны. Правдивость возвышенна — и он ненавидит ложь и притворство. У него глубокое чувство человеческого достоинства. Он знает себе цену и считает человека существом, заслуживающим уважения. Никакой подлой покорности он не терпит, и его благородство дышит свободой. Все цепи — от позолоченных, которые носят при дворе, до тяжелых железных цепей рабов на галерах — внушают ему отвращение. Он строгий судья себе и другим, и нередко он недоволен как самим собой, так и миром.
Если этот характер портится, то серьезность переходит в мрачность, благоговение — в экзальтацию, любовь к свободе — в восторженность. Оскорбление и несправедливость воспламеняют в нем жажду мести. В таком случае его следует остерегаться. Он пренебрегает опасностью и презирает смерть. Если чувство его 'извращено и ум его недостаточно ясен, он впадает в причуды. Наущения, виде́ния, искушения. Если рассудок [его] еще более слаб, то им овладевают гримасы. Вещие сны, предчувствия, знамения. Ему грозит опасность превратиться в фантазера или стать чудаком.
У человека сангвинического склада души преобладает чувство прекрасного. Его радости поэтому полны веселья и жизни. Если он не весел, то он уже в дурном настроении, а пребывание в тиши мало ему знакомо. Разнообразие прекрасно, и он любит перемены. Он ищет радости в себе и вокруг себя и веселит других; он хороший собеседник. У него много моральной симпатии. Радость других доставляет ему удовольствие, а их страдание делает его мягкосердечным. Его нравственное чувство прекрасно, но лишено принципов и всегда зависит непосредственно от данного впечатления, производимого на него [окружающими] предметами. Он всем людям друг, или, что то же самое, в сущности никому не друг, хотя добросердечен и благожелателен.
144
Он не притворяется. Сегодня он покорит вас своей любезностью и хорошими манерами, завтра, если вы больны или вас постигло несчастье, он будет вам искренне и непритворно сочувствовать, но постарается незаметно исчезнуть, пока обстоятельства не переменятся. Он никогда не должен быть судьей. Законы обычно кажутся ему слишком строгими, и он дает подкупить себя слезами. Из него святой не получится; он никогда не бывает по-настоящему добрым и по-настоящему злым. Он часто предается беспутству и бывает безнравствен, [впрочем] больше из услужливости, чем по склонности. Он щедр и склонен к благотворительности, но забывает о своих долгах; он, правда, довольно восприимчив к добру, но мало — к справедливости. Никто не имеет такого хорошего мнения о собственном сердце, как он. И хотя бы вы и не очень уважали его, вы все же не можете его не любить. Если его характер портится, он становится пошлым, мелочным и ребячливым. Если с возрастом не убавится его живость и не прибавится рассудительности, то ему грозит опасность сделаться старым фатом.
У человека, которого считают холериком, преобладает чувство того рода возвышенного, которое можно назвать великолепием. Собственно говоря, это только обманчивый блеск возвышенного и лишь яркая окраска, скрывающая внутреннее содержание вещи или лица, быть может, плохое и пошлое, — окраска, своей внешностью вводящая в заблуждение и умиляющая. Подобно тому как здание, на котором изображены как бы высеченные камни, производит столь же благородное впечатление, как если бы оно действительно было сложено из таких камней, а прилепленные карнизы и пилястры создают видимость прочности, хотя они не имеют опоры и ничего не поддерживают, точно так же блистают и показные добродетели, мишура мудрости и приукрашенные заслуги.
Холерик судит о собственном значении и значении своих дел и поступков по тому, как они бросаются в глаза. К внутреннему качеству и движущим причинам, содержащимся в самом предмете, он равнодушен, его не греет искренняя доброжелательность и не трогает
145
уважение*. Его поведение неестественно. Он должен уметь становиться на самые различные точки зрения, чтобы с позиций разных наблюдателей судить о своем положении: ведь ему важно не то, что он есть, а то, чем он кажется. Поэтому он должен хорошо знать, как его поведение действует на общепринятые вкусы и каковы впечатления, которые он создает о себе у других. Так как в этой хитрой внимательности он должен непременно оставаться хладнокровным и не давать ослепить себя любовью, состраданием и отзывчивостью, то он сможет избежать также и многих глупостей, которые совершает сангвиник, находящийся во власти непосредственных чувств, и многих неприятностей, которые испытывает тот же сангвиник. Поэтому холерик обычно кажется более рассудительным, чем он есть на самом деле. Его благорасположение есть [в сущности] вежливость, проявляемое им уважение — церемония, его любовь — надуманная лесть. Он всегда полон самим собой, принимает ли он вид возлюбленного или друга (в действительности он ни тот ни другой). Он старается блистать, следуя моде; но так как все в нем неестественно и деланно, то он остается неуклюжим и неповоротливым. Он действует по принципам в гораздо большей мере, чем сангвиник, побуждаемый лишь случайными впечатлениями; но это принципы не добродетели, а чести; он лишен чувства красоты или достоинства поступков и считается лишь с мнением окружающих. Впрочем, так как поведение его, поскольку не обращают внимания на то, чем оно вызвано, почти столь же общеполезно, как и сама добродетель, то обыкновенная публика его столь же глубоко уважает, как и человека добродетельного. Однако от более проницательных глаз он тщательно скрывается, потому что хорошо знает, что, если раскроются тайные пружины его честолюбия, он потеряет всякое к себе уважение. Поэтому он весьма склонен притворяться, в религии лицемерен, в обращении льстив, в политических делах непостоянен. Он охотно раболепствует перед великими мира сего, дабы
146
тем самым стать тираном по отношению к нижестоящим. Наивность, эта благородная или прекрасная простота, носящая на себе печать природы, а не искусства, совершенно чужда ему. Поэтому, когда его вкус портится, ложный блеск его становится кричащим, т. е. отвратительно ярким. Тогда и в стиле его, и в наряде все утрированно — своего рода гримасы, представляющие собой по отношению к великолепному то же, что причудливое или чудаческое по отношению к серьезно-возвышенному. В случае оскорбления он прибегает к дуэли или судебному процессу, а в гражданских делах ссылается на предков, привилегии и чины. Покуда он только тщеславен, т. е. честолюбив, и старается попадаться на глаза, он еще терпим, но если он чванлив, не имея решительно никаких достоинств и талантов, то он является тем, кем меньше всего хотел бы прослыть, т. е. глупцом.
Так как в флегматической смеси [свойств] никакие ингредиенты возвышенного или прекрасного обычно не встречаются в особенно заметной степени, то этот душевный склад и не станет предметом наших рассуждений.
Какими бы ни были те утонченные чувства, о которых мы до сих пор говорили, будут ли они чувствами возвышенного или прекрасного, они имеют между собой то общее, что в суждении тех, кто не расположен к чувству возвышенного или прекрасного, они всегда представляются извращенными и нелепыми. Человек спокойный и преисполненный корыстолюбивых устремлений вообще не имеет, так сказать, органов для восприятия благородных черт в стихотворении или добродетели героя: он охотнее читает Робинзона, чем Грандисона6, а Катона считает упрямым глупцом. Точно так же лицам несколько более серьезного склада кажется пошлым то, что других привлекает, и веселая наивность пасторали кажется им нелепой и ребяческой. И даже если душевный склад [таких людей] и не совсем лишен более тонкого гармонического чувства, то степень восприимчивости его все же весьма различна, и мы видим, что один считает благородным и благопристойным то, что другому кажется хотя и значительным,
147
но причудливым. При [наблюдении] неморальных явлений нам представляется возможность подметить кое-что в чувстве другого человека, и это дает нам основание с довольно значительной степенью вероятности сделать вывод также и о более высоких свойствах его характера, и даже о свойствах его души. Тот, кто скучает, слушая прекрасную музыку, дает немало оснований предполагать, что красоты стиля и нежные очарования любви будут невластны над ним.
Существует какая-то любовь к безделушкам (esprit des bagatelles), свидетельствующая о некотором тонком чувстве, но обращенном как раз на то, что противоположно возвышенному. [Сюда относятся]: вкус к чему-то такому, что требует большого искусства и труда; стихи, которые можно читать слева направо и наоборот[5], загадки, часы в кольцах, очень тонкие цепочки и т. п.[6] Вкус ко всему, что точно вымерено, педантично расположено по полочкам, хотя и без всякой пользы, например книги, со вкусом и скрупулезностью подобранные в длинные ряды, стоящие в книжных шкафах, и пустая голова, которая глядит на них и не нарадуется; комнаты, разукрашенные наподобие калейдоскопов и необычайно чисто вымытые, и тут же негостеприимный и ворчливый хозяин, в них обитающий. Вкус ко всему, что редко, как бы малоценно ни было оно во всех других отношениях: лампа Эпиктета, перчатка короля Карла XII, в известной мере также страсть к собиранию монет. Таких лиц можно не без основания подозревать в том, что в области наук они окажутся мечтателями и чудаками, а в сфере нравственности — бесчувственными ко всему, что прекрасно и благородно само по себе (auf freie аrt).
Было бы, правда, с нашей стороны несправедливо, если бы от человека, не видящего ценности и красоты в том, что нас трогает и привлекает, отделались заявлением, что он этого не понимает. Дело здесь не столько в том, что усматривается умом, сколько в том, что воспринимается чувством. И тем не менее способности души столь связаны между собой, что по проявлениям чувств можно очень часто судить о способностях ума. В самом деле, тому, кто обладает многими интеллек-
148
туальными достоинствами, эти способности были бы ни к чему, если бы он в то же время не имел сильного чувства того, что́ истинно благородно или прекрасно, поскольку именно такое чувство должно быть побудительной причиной надлежащего и правильного применения упомянутых умственных дарований*.
Принято считать полезным только то, что удовлетворяет нашим более грубым чувствам, что может дать нам вдоволь еды и питья, великолепную одежду и домашнюю утварь, а также щедрые пиры, хотя я не вижу, почему бы и все, чего вообще так горячо желают, не отнести к числу полезных вещей. Но как бы там ни было, с теми, кто находится во власти своекорыстия, с этой точки зрения никогда не следует рассуждать о вещах более тонкого вкуса. В этом отношении курица, конечно, лучше попугая, печной горшок полезнее фарфоровой посуды, все проницательные умы мира ничего не стоят по сравнению с крестьянином, а что касается попытки определить расстояние до неподвижных звезд, то с этим можно повременить, пока не придут к согласию, как лучше всего пахать плугом. Глупо, однако, пускаться в подобного рода спор там, где невозможно воспринимать одинаково, поскольку и чувства не одинаковы. И тем не менее человек самых грубых и низменных чувств способен понять, что прелести и приятности жизни, без которых как будто всего легче можно обойтись, привлекают наше самое пристальное внимание и что, если исключить их из числа стимулов, у нас осталось бы мало побудительных причин для столь разнообразной деятельности. Равным образом никто не настолько груб, чтобы не почувствовать, что нравственный поступок, по крайней мере совершенный другим
149
лицом, тем больше волнует, чем дальше он от своекорыстия и чем больше выступают в нем упомянутые благородные побуждения.
Когда я наблюдаю у людей то благородные, то слабые стороны, я упрекаю самого себя в том, что не в силах найти точку зрения, с которой эти бьющие в глаза различия раскрывали бы перед нами великую картину всей человеческой природы в волнующем нас виде. Ибо я охотно соглашусь, что, поскольку речь идет о плане великой природы, такие причудливые состояния могут найти только благородное выражение, хотя люди слишком близоруки, чтобы обозреть их в этом состоянии. Все же, бросая на это беглый взгляд, можно, я полагаю, заметить следующее. Людей, поступающих согласно принципам, совсем немного, что, впрочем, очень хорошо, так как легко может случиться, что в этих принципах окажется ошибка, и тогда вред, отсюда проистекающий, распространится тем дальше, чем более общим будет принцип и чем более непреклонным лицо, которое им руководствуется. Людей, действующих из добрых побуждений, гораздо больше, и это превосходно, хотя и нельзя каждый отдельный поступок ставить в особую заслугу данному лицу. Эти добродетельные инстинкты, конечно, могут иногда отсутствовать, однако в общем они так же осуществляют великую цель природы, как и все другие инстинкты, с такой правильностью движущие животный мир. Тех, кто неизменно имеет перед глазами свое любимое Я как единственную точку приложения своих усилий и добивается того, чтобы все вращалось вокруг своекорыстия как великой оси, — таких людей имеется всего больше. Нет ничего более полезного, чем данное обстоятельство; ведь эти люди наиболее усердны, наиболее аккуратны и осмотрительны. Всему они, сами того не желая, придают прочность и постоянство; тем самым они служат общей пользе, вызывая к жизни необходимые потребности и создавая ту основу, на которой более благородные души способствуют распространению красоты и гармонии. Наконец, в сердцах всех людей, хотя и не в одинаковой мере, укрепилось честолюбие, что должно придать всему целому поразительную красоту.
150
В самом деле, хотя тщеславие — глупая иллюзия, но, если оно становится правилом, которому подчиняют все другие склонности, оно как сопутствующее побуждение чрезвычайно ценно. В самом деле, каждый совершает на великой арене [жизни] поступки сообразно со своими основными склонностями, но в то же время какое-то тайное побуждение заставляет его мысленно смотреть на себя со стороны, чтобы судить о благообразии своего поведения; каково оно и каким оно представляется в глазах публики. Благодаря этому обстоятельству различные группы [людей] составляют картину превосходной выразительности, где среди большого многообразия проявляется единство и вся моральная природа в целом проникнута красотой и достоинством.
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
О РАЗЛИЧИИ ВОЗВЫШЕННОГО И ПРЕКРАСНОГО У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Тот, кто первый назвал женщин прекрасным полом, хотел, быть может, сказать этим нечто лестное для них, но на самом деле он выразил нечто большее, чем сам предполагал. Мы не будем уже говорить о том, что облик женщины вообще тоньше, черты нежнее и мягче, что дружелюбие, шутка и приветливость выражены на ее лице сильнее и привлекательнее, чем у мужчины; не следует забывать также и о скрытой волшебной силе, которой она склоняет нашу страсть к благоприятному о ней мнению. Помимо этого, в самом душевном строе прекрасного пола прежде всего заложены своеобразные черты, явственно отличающие его от нашего пола и отмеченные главным образом печатью прекрасного. Мы же могли бы притязать на звание благородного пола, если бы от благородной души не требовалось, чтобы она отклоняла почетные звания и охотнее наделяла ими других, чем получала сама. Все сказанное не следует, однако, понимать в том смысле, будто женщина лишена благородных свойств или что мужской пол лишен красоты; напротив, можно полагать, что каждый пол сочетает в себе и то и другое, однако у женщины
151
все другие достоинства соединяются лишь для усиления в ней характера прекрасного, с чем, собственно, соотносится все, тогда как среди мужских свойств возвышенное отчетливо выделяется как отличительный признак пола. Это надо принять во внимание, когда судят о представителях того и другого пола — все равно, хвалят ли их или порицают; всякое воспитание и наставление должно постоянно иметь в виду это различие, и все усилия должны быть обращены на то, чтобы содействовать нравственному совершенству того или другого [пола], если только не желают сделать незаметным яркое различие, которое природа хотела провести между ними. Здесь недостаточно представлять себе, что имеешь перед собой людей; нужно не упускать из виду еще и то, что это люди разного рода.
У женщины более сильна прирожденная склонность ко всему красивому, изящному и нарядному. Уже в детстве женщины с большой охотой наряжаются и находят удовольствие в украшениях. Они чистоплотны и очень чувствительны ко всему, что вызывает отвращение. Они любят шутку, и, если только у них хорошее настроение, их можно забавлять безделушками. Очень рано они приобретают благонравный вид, умеют держать себя и владеют собой; и все это в таком возрасте, когда наша благовоспитанная мужская молодежь еще необузданна, неуклюжа и застенчива. Женщины очень участливы, добросердечны и сострадательны, прекрасное они предпочитают полезному, и то, что у них остается от расходов на пропитание, они охотно откладывают, чтобы тратить больше на внешний блеск и наряды. Они чрезвычайно чувствительны к самому пустячному оскорблению и очень тонко подмечают малейшее невнимание и неуважение к себе. Одним словом, благодаря женщинам можно отличить в человеческой природе прекрасные свойства от благородных; женщины даже мужской пол делают более утонченным.
Я надеюсь, что от меня не потребуют перечисления свойств мужчин, поскольку они аналогичны упомянутым свойствам женщин, и удовлетворятся лишь тем, что рассмотрят их путем сопоставления. У прекрас-
152
ного пола столько же ума, сколько у мужского пола, с той лишь разницей, что это прекрасный ум, наш же, мужской, — глубокий ум, а это лишь другое выражение для возвышенного.
Красота поступка состоит прежде всего в том, что его совершают легко и как бы без всякого напряжения; усилия же и преодоленные трудности вызывают восхищение и относятся к возвышенному. Раздумье и долгое размышление благородны, но трудны и не особенно подходят для лиц, у которых естественная прелесть должна свидетельствовать лишь о прекрасной природе. Трудное учение или слишком отвлеченные рассуждения (даже если бы женщине удалось достигнуть в этом совершенства) сводят на нет достоинства, присущие женскому полу. Хотя они и способны ввиду их редкости сделать женщину предметом бесстрастного удивления, но они уменьшают силу тех прелестей, благодаря которым женщины имеют такую большую власть над другим полом. Женщине, у которой, как у г-жи Дась7, голова полна греческой премудрости или которая подобно маркизе Шатле8 ведет ученый спор о механике, не хватает для этого только бороды — борода, быть может, еще отчетливее выразила бы глубокомыслие, приобрести которое стремятся такие женщины. Прекрасный ум выбирает предметом своего рассмотрения все, что близко более тонкому чувству; абстрактные же умозрения или знания полезные, но сухие он предоставляет прилежному, основательному и глубокому уму. Женщина не будет поэтому изучать геометрию; о законе достаточного основания или о монадах она узнает лишь столько, сколько необходимо, чтобы уловить соль тех сатирических стихотворений, которые протащили [в печать] поверхностные умники из нашего пола. Красавицы могут спокойно предоставить Картезию постоянно крутить свои вихри9, оставаясь к ним равнодушными, если бы даже галантный Фонтенель и захотел, чтобы блуждающие звезды составили этим вихрям компанию10. Притягательная сила их прелестей не уменьшится, если они ничего не будут знать о том, что Альгаротти11 старался для их блага рассказать о силах притяжения грубых материй по
153
теории Ньютона. В области истории они не будут забивать себе голову сражениями, а в географии — крепостями: ведь им так же мало подобает пахнуть порохом, как лицам мужского пола пахнуть мускусом.
Со стороны мужчин было, по-видимому, злой хитростью то, что они хотели склонить прекрасный пол к подобному извращению вкуса. Ведь они хорошо знают свою слабость к естественным прелестям этого пола, а также то, что один лукавый взгляд приводит их в смущение больше, чем самый трудный схоластический вопрос. Напротив, как только женщина усваивает себе этот [извращенный] вкус, мужчины тотчас же видят свое решительное превосходство [над ней] и оказываются в том выгодном положении, которого они в ином случае едва ли могли бы добиться, а именно с великодушной снисходительностью потакают ее слабости — тщеславию. Содержание великой науки женщины — скорее всего человек, а среди людей — мужчина. Ее философия не умствования, а чувство. Если речь идет о том, чтобы дать женщинам возможность развить свою прекрасную природу, то всегда нужно иметь перед глазами это важнейшее обстоятельство. Надо стремиться развить все их моральное чувство в целом, а не их память, и притом не посредством общих правил, а с помощью суждений о том, что происходит вокруг них. Примеры, заимствованные из других эпох с целью понять то влияние, которое прекрасный пол имел на происходившие в мире события, многообразные отношения этого пола к мужскому полу в прежние века или в чужих странах, характер их обоих, поскольку его можно объяснить, а также изменчивый вкус к удовольствиям — вот что составляет всю их историю и географию. Хорошо, если можно для женщины сделать приятным вид карты, представляющей весь мир или его важнейшие части. Это достигается тем, что эту карту показывают ей лишь для того, чтобы описать различные характеры народов, обитающих на земле, их различные вкусы и нравственное чувство, в особенности же чтобы рассказать о влиянии, которое все это имеет на отношения между полами, а также для того, чтобы дать ей некоторые сведения о странах, о свободе или рабстве в них.
154
Неважно, будет ли она при этом знать отдельные части этих стран, занятия населения, могущество этих стран и их властителей. Точно так же и о мироздании ей незачем знать больше, чем нужно для того, чтобы вид неба в прекрасные вечера мог ее взволновать, а также чтобы она поняла, что существует еще много миров и что там обитают еще более прекрасные создания. Вкус к выразительным описаниям и к музыке не как искусству, а как выражению ощущений — все это облагораживает и возвышает чувства этого пола и всегда некоторым образом связано с нравственными побуждениями. Недопустимо бесстрастное и умозрительное обучение [женщины]; всегда [нужно развивать у нее] чувства, и притом те, что близки ее полу. Такое обучение столь редко потому, что оно требует таланта, опыта и добрейшего сердца. Без всякого же другого обучения женщина прекрасно может обойтись, ведь даже и без упомянутого обучения она обычно сама очень хорошо развивается.
Добродетель женщины есть прекрасная добродетель*. Добродетель мужского пола есть добродетель благородная. Женщины избегают дурного не потому, что оно несправедливо, а потому, что оно безобразно, и добродетельными будут для них поступки нравственно прекрасные. Никакого «до́лжно», никакого «надо», никакой обязанности, никаких приказаний, никакого сурового принуждения женщина не терпит. Она делает что-то только потому, что так ей нравится; поэтому главное — уметь сделать так, чтобы ей нравилось только то, что хорошо. Я не думаю, чтобы прекрасный пол руководствовался принципами, и надеюсь, что этим не оскорбляю его, ведь принципы чрезвычайно редко встречаются и у мужского пола. Зато провидение вселило в сердца женщин чувства доброты и благожелательства, дало им тонкое чувство приличия и благосклонность. Не следует требовать от них жертв и великодушного самоограничения. Муж никогда не должен
155
говорить жене о том, что ради друга он рискует частью своего состояния. Зачем ему сковывать ее веселую болтливость, обременяя ее душу важной тайной, хранить которую надлежит ему одному? Даже многие из слабостей женщин представляют собой, так сказать, прекрасные недостатки. Обида или несчастье повергает их нежную душу в уныние. Мужчина никогда не должен проливать иных слез, кроме слез великодушия. Слезы, проливаемые им от боли или от счастья, вызывают к нему презрение. Тщеславие, которое так часто ставят в упрек прекрасному полу, если оно действительно его недостаток, то прекрасный недостаток. Ведь не говоря уже о том, что мужчинам, так охотно льстящим женщине, пришлось бы плохо, если бы ей не нравилась такая лесть, именно эта лесть делает ее прелести еще более привлекательными. Склонность принимать эту лесть побуждает ее к проявлению своей нежности, к благопристойности, к веселой игре ее ума, а также к тому, чтобы увеличивать свою красоту тем, что́ мода непрестанно изобретает для этого. Для других здесь нет ничего оскорбительного, а скорее наоборот; если это делается со вкусом, то это так мило, что было бы весьма неприлично ворчать и порицать это. Женщину, в этом отношении чересчур ветреную и легкомысленную, зовут глупенькой, но это слово звучит не так грубо, как с другим окончанием для мужчины; более того, когда хорошо понимают друг друга, оно иногда свидетельствует о чем-то интимно-лестном. Если у женщин тщеславие — недостаток весьма извинительный, то спесь у них не только достойна порицания, как у каждого человека вообще, но совершенно искажает отличительные свойства их пола. Ибо это исключительно глупое и отталкивающее свойство совершенно не вяжется с располагающей к себе скромной прелестью [женщины]. Положение такой особы в этом случае весьма щекотливо. Ей придется сносить безжалостные и резкие суждения: ведь тот, кто надменно требует к себе большого уважения, вызывает всеобщее порицание. Подметить хотя бы малейший недостаток доставляет истинную радость каждому, и слово глупая уже не звучит
156
здесь так мягко. Нужно всегда различать тщеславие и спесь. Тщеславная женщина ищет одобрения и в известной мере почтительно относится к тем, ради кого она проявляет свое тщеславие; спесивая полагает, будто она уже в полной мере обладает таким одобрением, и, нисколько не добиваясь его, она его и не получает.
Некоторая доля тщеславия нисколько не делает женщину в глазах мужчин менее привлекательной, но, чем больше оно бросается в глаза, тем больше оно способно посеять раздоры между самими представительницами прекрасного пола. В этом случае они очень резко судят друг о друге, так как одной кажется, что другая затмевает ее прелести, и действительно, те из них, кто еще претендует на завоевание [сердец], редко бывают подругами в истинном смысле этого слова.
Прекрасному ничто не противно в такой мере, как то, что вызывает отвращение, и ничто не столь далеко от возвышенного, как смешное. Поэтому для мужчины нет ничего более обидного, чем обозвать его глупцом, а для женщины — сказать, что она безобразна. Английский «Spectator» полагает, что для мужчины нет ничего оскорбительнее, чем прослыть лжецом, для женщины же — ничего горше, чем прослыть нецеломудренной. Я бы все это оспаривал, если бы подходил к этому с точки зрения строгой морали. Однако здесь вопрос не в том, что само по себе заслуживает наибольшего порицания, а в том, что всего болезненнее воспринимается. И тут я спрошу читателя, не придется ли ему, если он как следует поразмыслит, согласиться с моим мнением? Мадемуазель Нинон де Ланкло12 не имела ни малейших притязаний прослыть целомудренной, и тем не менее она была бы жестоко оскорблена, если бы кто-нибудь из ее поклонников зашел так далеко в своем суждении о ней, что упрекнул бы ее в отсутствии целомудрия. Известно, какая жестокая судьба постигла Мональдеши13 за такого рода оскорбительное выражение по адресу одной принцессы, отнюдь не намеревавшейся разыгрывать из себя Лукрецию. Невыносимо, когда нельзя совершить дурное, хотя и желаешь его совершить, потому
157
что даже несовершение его есть в таком случае весьма сомнительная добродетель.
Чтобы быть как можно дальше от всех этих отвратительных черт, нужна чистота; она, правда, приличествует всем, но у прекрасного пола она приобретает значение первейшей добродетели, и вряд ли можно говорить здесь о чересчур высокой степени, хотя у мужчин она иногда бывает чрезмерной, и тогда становится нелепой.
Стыдливость представляет собой некоторую тайну природы для ограничения необузданного влечения; следуя зову природы, она всегда согласуется с добрыми, нравственными свойствами, даже когда она чрезмерна. Поэтому она в высшей степени необходима как дополнение к принципам. В самом деле, нет другого подобного случая для измышления удобных принципов, поскольку влечение так легко пускается на хитрости. Но в то же время она служит также для того, чтобы набросить таинственный покров даже на самые естественные (geziemendsten) и самые необходимые цели природы, дабы слишком уже грубое знакомство с ними не вызвало отвращения или по меньшей мере равнодушия к конечным целям того побуждения человеческой природы, с которым связаны ее самые тонкие и сильные склонности. Это свойство присуще прежде всего прекрасному полу и очень ему приличествует. Грубо и достойно всякого презрения смущать нежное благонравие представительниц прекрасного пола или вызывать их негодование вульгарными шутками, называемыми сальностями. Так как, однако, влечение к другому полу, как бы мы ни хотели обойти молчанием эту тайну, в конце концов все же представляет собой основу всех других возбуждений и женщина всегда именно как женщина служит приятным предлогом благовоспитанных бесед, то этим, пожалуй, объясняется, почему мужчины, вообще-то говоря благонравные, иногда позволяют себе легкой игривостью своих шуток высказать тонкие намеки, которые можно назвать вольными или плутовскими. И вот, полагая, что своими дерзкими взглядами они не оскорбляют и не выказывают неуважения, мужчины считают себя вправе называть женщину, принимающую
158
все это с недовольной и пренебрежительной миной, педанткой благопристойности. Я упоминаю об этом только потому, что обычно это рассматривается как довольно смелая черта изысканного обращения и что на это в действительности было с давних пор потрачено много остроумия. Мы не рассматриваем этого вопроса с точки зрения строгой морали; мое дело лишь наблюдать и объяснять, как воспринимают прекрасное.
Благородные свойства этого пола, которые, однако, как мы уже заметили, никогда не должны затемнять собой чувство прекрасного, отчетливее и вернее всего проявляются через скромность — один из видов благородной простоты и наивности при наличии больших достоинств. От нее идет свет спокойного благорасположения и уважения к другим вместе с некоторым благородным доверием к самому себе и справедливым мнением о самом себе, всегда имеющим место у благородного характера. Располагая к себе своими привлекательными чертами и трогая внимательностью, это тонкое сочетание ограждает все другие блистательные качества от фривольного порицания и от склонности к насмешкам. Люди с таким характером расположены также и к дружбе, что в женщине никогда нельзя переоценить, ибо такое расположение чрезвычайно редко и в то же время должно быть столь необыкновенно привлекательным.
Так как наша задача — высказать свои соображения по поводу чувств, то весьма заманчиво осмыслить по возможности различие того впечатления, которое весь облик и черты лица женщины производят на мужчину. В основе своей вся эта обворожительная сила связана с влечением одного пола к другому. Природа преследует свою великую цель, и все сопутствующие тонкости, какими бы далекими от нее они ни казались, суть только украшения, и свою привлекательность они в конце концов заимствуют из того же источника. Мужчин со здоровым и грубым вкусом, всегда находящихся во власти этого влечения, мало трогают грациозность, прекрасные черты лица, глаза женщины и т. п., и, поскольку главное для них, собственно говоря, пол, они в большинстве случаев видят в этих тонкостях лишь пустое кокетство.
159
Если вкус этот и неутонченный, то пренебрегать им из-за этого все же нельзя. Ведь благодаря ему бо́льшая часть людей следует великому закону природы весьма простым и верным способом*[7]. Он приводит к большинству браков, и притом среди самой трудолюбивой части человеческого рода, и поскольку мужа не занимают очаровательное личико, томные взгляды, благородная осанка и т. п., да ничего во всем этом он и не смыслит, то тем больше обращает он внимания на домашние добродетели, бережливость и т. д. и т. п., а также на приданое. Что касается несколько более тонкого вкуса, ради которого следовало бы провести различие во внешних чарах женщины, то люди с таким вкусом обращают внимание или на то, что есть морального в облике женщины и выражении ее лица, или на то, что в нем не связано с моралью. Женщину, привлекательную в этом последнем смысле, называют хорошенькой. Пропорциональное сложение, правильные черты, цвет глаз и лицо, выделяющееся своим изяществом, — все это такая красота, которая нравится и в букете цветов, вызывая бесстрастное одобрение. Само лицо, хотя бы и красивое, еще ничего не выражает и не говорит сердцу. Что же касается выражения лица, глаз и мимики — насколько это выражение нравственно, — то оно может относиться либо к чувству возвышенного, либо к чувству прекрасного. Женщину, чьи прелести, свойственные ее полу, подчеркивают преимущественно моральное выражение возвышенного, называют прекрасной в собственном смысле этого слова; та, чей моральный облик (Zeichnung), поскольку он проявляется в выражении или чертах лица, обнаруживает свойства прекрасного, привлекательна, и если она такова в высшей степени, то очаровательна. У первой, выражая спокойствие и благородство, глаза светятся умом, и, поскольку ее лицо отражает также нежное чувство и благосклон-
160
ность, она пользуется расположением и глубоким уважением мужчины. У второй в смеющихся глазах веселость и острый ум, тонкая шаловливость, игривая шутливость и интригующая недоступность. Она обольщает, тогда как первая волнует, и то чувство любви, к которому она способна и которое она вызывает у других, хотя и поверхностно, но прекрасно, между тем как чувствования первой нежны, связаны с уважением и продолжительны. Я не могу здесь вдаваться в слишком подробный анализ, ибо в таких случаях всегда кажется, будто автор изображает только свои собственные склонности. Я только скажу, что здесь становится понятным, почему многим дамам нравится здоровый, но бледный цвет [лица]. Дело в том, что этот цвет [лица] бывает обычно у людей, чей склад души отличается бо́льшим внутренним чувством и тонким восприятием, что относится к свойству возвышенного, тогда как румянец и цветущий вид говорят не столько о возвышенном, сколько о веселом нраве; а между тем тщеславию больше свойственно трогать и пленять, чем возбуждать и прельщать. Напротив, люди, лишенные всякого морального чувства и без какой-либо выразительности, указывающей на тонкость восприятия, могут быть очень красивыми, однако они не будут ни волновать, ни привлекать, за исключением, быть может, того грубого вкуса, о котором мы упоминали выше; этот вкус иногда становится несколько более тонким и тогда в соответствии с этим производит свой выбор. Плохо то, что подобного рода красивые люди подвержены пороку — становятся спесивыми от сознания, что у них хорошая фигура, которую они видят в зеркале, а также оттого, что они не способны к более тонкому восприятию; тогда они у всех вызывают к себе равнодушное отношение, за исключением разве льстеца, преследующего свои цели и строящего козни.
После этих суждений можно, пожалуй, до некоторой степени понять, какое впечатление производит облик одной и той же женщины на мужчин с различным вкусом. Я не буду говорить здесь о том, что в этом впечатлении слишком тесно связано с половым влечением и что может соответствовать той особой сластолю-
161
бивой мечте, в которую облекается чувство отдельного человека, —это лежит вне сферы тонкого вкуса. Пожалуй, прав г-н Бюффон, полагая, что облик, производящий на нас первое впечатление, когда половое влечение еще свежо и только начинает развиваться, остается прообразом, которому впоследствии должны более или менее соответствовать все женские образы, могущие пробудить порождаемое фантазией желание, вследствие чего довольно грубая склонность вынуждена выбирать между различными индивидами. Что касается более тонкого вкуса, то я утверждаю, что о красоте тех [женщин], которых мы назвали хорошенькими, все мужчины судят примерно одинаково и что в этом отношении мнения не так различны, как это обычно думают. Черкесских и грузинских девушек все европейцы, совершавшие путешествие по их стране, всегда признавали очень красивыми. Турки, арабы, персы, надо полагать, почти полностью разделяют этот вкус, ибо они очень хотят сделать свою народность более красивой путем смешения с такой благородной кровью, и можно отметить, что персидской расе это действительно удалось. Индостанские купцы также не упускают случая извлечь для себя большую выгоду из преступной торговли столь прекрасными женщинами, доставляя их сластолюбивым богачам своей страны. Мы видим, что, каким бы разным ни был вкус в различных странах мира, все же то, что в одной из этих стран признается особенно красивым, считается таким же и во всех других. Но где в суждение об изящном облике примешивается то, что в его чертах морально, там вкус различных мужчин всегда весьма различен, поскольку неодинаково само их нравственное чувство, и соответственно тому, какое значение придает выражению лица [женщины] воображение каждого отдельного мужчины. Известно, что те женщины, которые при первом взгляде не производят особого впечатления, потому что они красивы не бесспорно, обычно, когда они начинают нравиться при более близком знакомстве, гораздо больше располагают к себе и кажутся все более красивыми. Наоборот, красивая внешность, сразу бросающаяся в глаза, впоследствии воспринимается
162
уже с большим равнодушием. Это, вероятно, объясняется тем, что нравственные прелести, когда становятся приметными, больше пленяют, а также тем, что они оказывают действие только при наличии ощущений нравственного порядка и как бы открываются, причем открытие каждой новой привлекательной черты всегда заставляет предполагать еще большее их число. А те приятные черты, которые вовсе не скрыты, оказав в самом начале все свое действие, впоследствии не могут уже достичь ничего иного, как только охладить чрезмерное любопытство влюбленного и постепенно довести его до равнодушия.
В связи с этими наблюдениями совершенно естественно напрашивается следующее замечание. Совсем простое, грубое половое влечение, правда, ведет самым прямым путем к великой цели природы; выполняя ее требования, оно способно сразу сделать данное лицо счастливым, однако, становясь слишком обыденным, оно легко приводит к разврату и беспутству. С другой стороны, изощренный вкус служит, правда, для того, чтобы лишить пылкую страсть ее грубой чувственности и, сильно ограничивая число ее объектов, сделать ее сдержанной и благоприличной. Однако эта страсть обычно не достигает великой конечной цели природы, и так как она требует или ожидает большего, чем то, что природа обычно дает, то она, как правило, лишь весьма редко делает счастливым лицо со столь деликатными ощущениями. Люди первого типа становятся грубыми, потому что имеют в виду всех представителей другого пола; люди второго типа становятся мечтательными, поскольку они не имеют в виду, собственно говоря, ни одного из них; у них один лишь объект — тот, который влюбленность создает себе в мыслях, наделяя его всеми благородными и прекрасными свойствами, которые природа редко совмещает в одном человеке и еще реже сообщает их тому, кто может их оценить и, вероятно, был бы достоин обладать ими. Этим объясняется то, что такие люди откладывают брачный союз и в конце концов совсем от него отказываются[8] или же — что, пожалуй, ничуть не лучше — горестно жалеют о сделанном выборе, не оправдавшем их больших
163
надежд[9]. В самом деле, нередко эзоповский петух находит жемчужину, между тем как ему более подходило бы обыкновенное ячменное зерно.
Здесь мы вообще можем заметить, что, как бы ни были прекрасны впечатления от нежного чувства, все же имеются все основания соблюдать осторожность в его изощрении, если мы не хотим чрезмерной возбудимостью создать себе дурное настроение и источник бед. Более благородным душам я — если бы только знал, как этого достичь, — посоветовал бы изощрять сколько можно свое чувство в отношении свойств, им самим присущих, или действий, ими самими совершаемых, и сохранять простоту чувства в отношении удовольствий или того, чего они ожидают от других. Но если бы это было возможно, они и других сделали бы счастливыми и сами были бы счастливы. Никогда не следует упускать из виду, что нельзя требовать слишком много благополучия в жизни и совершенства от людей, ибо тот, кто всегда ожидает лишь посредственного, имеет то преимущество, что результат редко разрушает его надежду, напротив, его иногда приятно поражают нежданные совершенства.
Наконец, всем подобным прелестям угрожает возраст, этот великий разрушитель красоты. Если бы все шло своим чередом, то возвышенные и благородные свойства должны были бы постепенно занять место прекрасных свойств, дабы человек, по мере того как он перестает быть достойным любви, заслуживал все большего уважения. По моему мнению, все совершенство прекрасного пола во цвете лет должно заключаться в прекрасной простоте, возвысившейся благодаря утонченному чувству любви ко всему привлекательному и благородному. Со временем, когда претензии на возбуждающие впечатления слабеют, чтение книг и расширение знаний могут постепенно оставлять музам место, свободное теперь от граций, и супругу следовало бы [в этом отношении] стать первым наставником. Тем не менее, даже когда приближается столь страшная для каждой женщины пора увядания, она все же принадлежит еще к прекрасному полу. И она сама обезображивает себя, если, отчаявшись сохранить свойства
164
прекрасного пола, отдается во власть ворчливого и мрачного расположения духа.
Пожилая женщина, которая ведет себя в обществе скромно и приветливо, участвует в веселых и разумных беседах, с надлежащим тактом покровительствует развлечениям молодежи, сама не принимая в них участия, выказывает удовольствие и благосклонность к окружающему веселью, проявляя заботу обо всем, — такая женщина все еще представляет собой существо более тонкое, чем мужчина в таком же возрасте, и, быть может, даже более привлекательное, чем иная девушка, хотя и в другом смысле. Правда, нам кажется слишком загадочной такая платоническая любовь, как у древнего философа, который сказал про предмет своей симпатии: «Грации обитают в ее морщинах, и душа моя как бы витает у моих губ, когда я целую ее увядшие уста». Однако в таком случае надо отказаться от подобного рода претензий. Старик, разыгрывающий из себя влюбленного, — это фат, а подобные же притязания старухи вызывают отвращение. Если мы ведем себя неблагопристойно, то в этом виновата не природа, а желание извратить ее.
Дабы не упустить из виду тему моего сочинения, я выскажу несколько мыслей и о том влиянии, которое один пол оказывает на другой с целью изощрить и облагородить его чувства. Женщина обладает преимущественно чувством прекрасного, поскольку прекрасное присуще ей самой, чувством же благородного — лишь поскольку благородное встречается у мужчины. У мужчины, наоборот, преобладает чувство благородного как одно из его качеств, чувство же прекрасного — поскольку прекрасное встречается у женщины. Отсюда следует, что цель природы — еще больше облагородить мужчину через влечение к другому полу, а женщину через него же сделать еще более прекрасной. Женщину мало смущает то, что у нее нет некоторых высоких понятий, что она пуглива и не предназначена для важных дел и т. д.; она прекрасна и пленяет — этого достаточно. Напротив, от мужчины она требует всех этих качеств, и возвышенность ее души в том только и проявляется, что она умеет ценить эти благородные качества, если
165
только они имеются у мужчины. Иначе как было бы возможно, что столько мужчин с безобразной наружностью, хотя и с [некоторыми] достоинствами, могли получить себе в жены таких милых и хорошеньких женщин! Мужчина, напротив, гораздо требовательнее к прекрасным свойствам женщины. Ее миловидность, веселая наивность и чарующая приветливость[10] достаточно вознаграждают его за отсутствие у нее книжной учености и за другие недостатки, которые он должен возместить своими собственными талантами. Тщеславие и увлечение модой могут, правда, дать этим естественным склонностям ложное направление и иного мужчину сделать слащавым, а женщину — педанткой или амазонкой, однако природа всегда стремится вернуть их в естественное состояние. По этому можно судить о том, какое могучее влияние могло бы оказывать влечение к другому полу, в особенности на мужчин, для их облагораживания, если бы вместо многочисленных скучных наставлений вовремя развивали у женщины нравственное чувство. Благодаря этому она могла бы надлежащим образом оценивать достоинства и благородные качества другого пола, а также была бы подготовлена к тому, чтобы с презрением смотреть на пошлого щеголя и не прельщаться никакими другими качествами, кроме настоящих достоинств. И несомненно также, что сила ее чар от этого вообще выиграла бы, ведь мы видим, что очарование женщин в большинстве случаев действует только на благородные души; другие же недостаточно тонки, чтобы их оценить. В этом же смысле высказался и поэт Симонид, когда ему посоветовали прочесть свои прекрасные стихи перед фессалийцами: «Эти люди слишком глупы, чтобы позволить такому человеку, как я, обмануть себя». Уже раньше замечали, что общение с прекрасным полом делает нрав мужчин более мягким, их поведение — более благопристойным и тонким, а их манеры — более изящными; однако это только второстепенная польза*. Самое
166
важное, чтобы муж становился все совершеннее как мужчина, а жена — как женщина, т. е. чтобы мотивы влечения их друг к другу действовали согласно предписанию природы сделать одного еще более благородным, а качества другой — еще более прекрасными. Если все это дойдет до крайней степени, то мужчина, гордый своими достоинствами, будет вправе сказать: «Хотя вы меня и не любите, я заставлю вас глубоко уважать меня». а женщина, уверенная в силе своих чар, ответит ему: «Хотя в глубине души вы и не цените нас высоко, мы, однако, все же заставим вас любить нас». Порой за неимением таких принципов мужчины, чтобы понравиться, усваивают женские слабости, а женщины иногда (хотя и гораздо реже) подражают мужским манерам, дабы внушать к себе глубокое уважение; но то, что делают против природы, делают всегда очень плохо.
В брачной жизни супруги должны образовать как бы одну нравственную личность, движимую и управляемую рассудком мужа и вкусом жены. Ведь дело не только в том, что от мужчины можно ожидать больше основанного на опыте понимания, а от женщины — больше свободы и верности в чувстве. Чем возвышеннее душевный склад мужчины, тем больше он склонен считать своей главной целью услаждение любимого существа, и, с другой стороны, чем женщина прекраснее, тем больше стремится она на его усилия ответить благосклонностью. Следовательно, при таких отношениях нелепо спорить о достоинствах [той или другой стороны], а там, где такой спор происходит, он служит вернейшим признаком грубости и противоречивости вкуса. А если уж речь идет о праве повелителя, то, значит, дело до крайности испорчено: ведь там, где союз зиждется в сущности только на влечении, он уже будет наполовину разорван, как только возвысит свой голос приказание. Притязание женщины на такой жесткий тон крайне отвратительно, подобное же
167
притязание мужчины в высшей степени неблагородно и достойно презрения. Между тем мудрый ход вещей приводит к тому, что утонченность и нежность чувств проявляют всю свою силу лишь вначале, затем от общения в обстановке домашней жизни они постепенно притупляются, а потом переходят в дружескую любовь, когда великое искусство состоит в конце концов в сохранении достаточных еще остатков первоначальных чувств, дабы равнодушие и скука не уничтожили всю ценность той радости, ради которой единственно только и стоило заключать такой союз.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
О
НАЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРАХ*,
ПОСКОЛЬКУ ОНИ ОСНОВЫВАЮТСЯ НА РАЗНОМ ЧУВСТВЕ ВОЗВЫШЕННОГО И ПРЕКРАСНОГО
Среди народов нашей части света именно итальянцы и французы, по моему мнению, более всего отличаются чувством прекрасного, немцы же, англичане и испанцы — чувством возвышенного[11]. Голландию можно считать страной, где этот более тонкий вкус остается в значительной мере незаметным. Само прекрасное либо чарует и трогает, либо веселит и возбуждает. В первом случае это чувство имеет в себе нечто возвышенное, и душа, охваченная им, задумчива и восторженна; во втором случае душа радостна и весела. Итальянцам большей частью
168
присущ, по-видимому, первый вид чувства прекрасного, французам же — второй. В национальном характере, в котором находит свое выражение возвышенное, это возвышенное либо связано с чем-то устрашающим и немного склонно к причудливому, либо оно есть чувство благородного, либо чувство великолепного. Я полагаю, что имею основание первое чувство приписать испанцу, второе — англичанину и третье — немцу. В отличие от других склонностей (Geschmack) чувство великолепного по своей природе не оригинально; хотя дух подражания может быть связан и со всяким другим чувством, он все же более свойствен чувству внешне возвышенного. А это чувство есть, собственно говоря, смесь из чувства прекрасного и чувства возвышенного, каждое из которых, рассматриваемое само по себе, более бесстрастно. Поэтому душа здесь достаточно свободна, чтобы при этом сочетании чувств обращать внимание на примеры, а также чувствовать потребность вдохновляться ими. Поэтому немец имеет менее развитое чувство прекрасного сравнительно с французом и менее развитое чувство возвышенного, чем у англичанина; но в тех случаях, когда оба чувства связаны между собой, проявление их более соответствует чувству немца; равным образом ему удается избегать и тех ошибок, впадать в которые могла бы только неумеренная сила каждого из этих видов чувства.
Я лишь бегло коснусь здесь тех искусств и наук, выбор которых может свидетельствовать о том вкусе, который мы приписали той или другой нации. Гений итальянцев проявился преимущественно в музыке, живописи, ваянии и зодчестве. Такой же тонкий вкус ко всем этим прекрасным искусствам имеют и французы, хотя во Франции красота их уже менее трогает. Вкус к поэтическому и ораторскому совершенству касается здесь в большей мере прекрасного, в Англии — возвышенного. Тонкие шутки, комедия, веселая сатира, любовный флирт, легкий и плавный стиль — все это оригинально во Франции. В Англии, напротив, — глубокие мысли, трагедия, эпические поэмы и вообще массивное золото остроумия, которое под французским молотком обращается в тонкие листки
169
большой поверхности. В Германии остроумие все еще сильно просвечивает через фольгу[12]. Прежде оно было кричащим; однако, благодаря рассудительности нации и следуя примерам, оно, правда, стало более привлекательным и благородным, но первое [из этих свойств] — с меньшей наивностью, а второе — с менее смелым размахом, чем у только что упомянутых народов. Склонность голландской нации к щепетильному порядку и нарядности, которые требуют много забот и ставят в затруднительное положение, мало говорит в пользу их расположения к естественным и свободным порывам гения, красота которого только искажалась бы боязнью избежать ошибок. Ничто так не противоречит всем искусствам и наукам, как вкус к причудливому: этот вкус извращает природу — прообраз всего прекрасного и благородного. Поэтому-то в Испании мало заметна расположенность к изящным искусствам и наукам.
Душевный склад того или иного народа лучше всего можно распознать через то, что в нем есть морального; поэтому мы еще и с этой точки зрения рассмотрим различие в чувстве возвышенного и прекрасного у разных народов*. Испанец серьезен, скрытен и правдив[13]. Мало найдется в мире более честных купцов, чем испанские. У испанца гордая душа, и он больше склонен совершать величественные, чем прекрасные, поступки. Так как в присущем ему сочетании [чувств] мало можно найти доброй и мягкой благожелательности, то он часто суров и даже, пожалуй, жесток. Аутодафе поддерживались в Испании не столько суеверием, сколько склонностью нации к причудливому. Испанцев волнует величественно-устрашающая процессия, в которой сан-бенито, расписанных изображениями дьяволов, предают пламени, зажженному неистовым благогове-
170
нием[14]. Нельзя сказать, чтобы испанец был более высокомерен или более влюбчив, чем представитель любого другого народа, но он высокомерен и влюбчив причудливо — странным и необыкновенным образом. Оставить плуг и с длинной шпагой, в плаще гулять по пашне до тех пор, пока не проедет мимо путешествующий чужестранец, или на бое быков, где красавиц страны можно хоть раз увидеть не под вуалью, особым поклоном приветствовать свою повелительницу, а затем в честь ее ринуться в опасную борьбу с диким животным— все это необычные и странные действия, далекие от всего естественного.
Итальянец как бы сочетает в себе чувства испанца и француза; у него чувства прекрасного больше, чем у первого, а чувства возвышенного больше, чем у второго. Этим, мне кажется, можно объяснить остальные черты его нравственного характера. У француза преобладает чувство нравственно прекрасного. Он учтив, вежлив и любезен. Он очень быстро становится фамильярным, склонен к шутке и непринужден в обращении; выражение мужчина или дама хорошего тона понятно только тому, кто усвоил себе чувство французской учтивости. Даже возвышенные чувства, которых у него немало, подчинены у него чувству прекрасного и свою силу приобретают, лишь согласуясь с ним. Француз очень охотно острит и ради остроумной выдумки без колебания пожертвует долей правды. Напротив, там, где нельзя быть остроумным*, он проявляет столько же глубокой проницательности, как и представитель любого другого народа, например в математике и в других отвлеченных или глубоких науках, а также в искусстве. Остроты имеют для француза не мимолетную ценность, как у других
171
народов; он старается ввести их в употребление и даже сохранить в книгах как важнейшее событие. Он мирный гражданин и за притеснения мстит генеральным откупщикам податей сатирой или парламентскими протестами. Но после того как эти протесты в соответствии со своей целью придадут отцам народа прекрасный патриотический вид, они ни на что более не годны, как только на то, чтобы быть увенчанными почетной ссылкой и воспетыми в остроумных песнях во славу их. К заслугам и национальным дарованиям этого народа больше всего причастна женщина*. Дело не в том, что женщину здесь любят и уважают больше, чем где-либо в другом месте, а в том, что она дает лучшее побуждение к тому, чтобы проявить в надлежащем свете самые излюбленные способности к остроумию, учтивости и хорошим манерам. Впрочем, кто тщеславен, тот, к какому бы полу он ни принадлежал, всегда любит только самого себя; другие для него только игрушки. У французов отнюдь нет недостатка в благородных качествах, только вдохнуть в них жизнь может лишь восприятие прекрасного. Поэтому прекрасный пол был бы здесь способен в большей мере вызывать и поощрять благороднейшие поступки мужского пола, чем где-либо в мире, если бы заботились о том, чтобы хоть сколько-
172
нибудь споспешествовать этому направлению национального духа. Жаль, что лилии не прядут[15].
Недостатком, с которым ближе всего граничит этот национальный характер, является банальность или, мягко выражаясь, легкомыслие. С важными вещами обращаются как с забавой, а мелочи становятся предметом самого серьезного занятия. И в старости француз все еще поет веселые песенки и насколько может галантно обращается с женщиной. Делая эти замечания, я могу сослаться на великие авторитеты, принадлежащие к этому же народу, и, чтобы оградить себя от всякой внушающей опасение недоброжелательности, спрячусь за спины таких людей, как Монтескье и д’Аламбер.
Англичанин в начале знакомства холоден и к чужестранцу равнодушен. Он не особенно склонен оказывать мелкие услуги, но, коль скоро он стал вам другом, он готов оказать большие одолжения. Он мало заботится о том, чтобы в обществе казаться остроумным и блеснуть там прекрасными манерами, но зато он рассудителен и степенен. Он плохой подражатель и мало беспокоится о том, как судят другие, следуя исключительно своему собственному вкусу. У него нет той учтивости к женщине, что у французов, но он оказывает ей гораздо больше уважения — быть может, даже слишком, — поскольку в супружестве он обычно признает за своей женой ничем не ограниченный авторитет. Он постоянен порой до упрямства, смел и решителен часто до безрассудства и верен своим принципам, доходя обычно до дерзости. Он легко становится чудаком не из тщеславия, а потому, что ему дела нет до других, и не легко насилует свой вкус из угодливости или подражания; его поэтому редко любят так, как француза, но, когда его узнают ближе, его обычно больше уважают.
Немец сочетает в себе чувства англичанина и француза, но ближе всего он, по-видимому, стоит к первому; большее сходство со вторым искусственно и возникает из подражания. У немца удачно сочетаются чувство возвышенного и чувство прекрасного. Если в первом чувстве он не может сравниться с англичанином, во втором — с французом, то, сочетая эти чувства, он
173
превосходит их обоих. Он более любезен в обращении, чем первый, и хотя не вносит в общество столько же приятной живости и остроумия, как француз, однако проявляет больше скромности и рассудительности. Как во всякого рода чувствах, так и в любви он довольно методичен. Сочетая прекрасное с благородным, он воспринимает и то и другое достаточно равнодушно, чтобы принимать в соображение благопристойность, блеск и обращать на себя внимание. Поэтому для него имеют большое значение семья, титул и ранг как в гражданских делах, так и в любви. Его гораздо больше, чем англичанина и француза, беспокоит то, как судят о нем люди. Если в его характере и есть что-то, что хотелось бы существенно изменить, то это именно названная слабость, из-за которой он не осмеливается быть оригинальным, хотя и имеет для этого все данные. То обстоятельство, что он слишком прислушивается к мнению других, лишает [его] нравственные качества всякой устойчивости, делая их непостоянными и неестественными.
Голландец по своему характеру склонен к порядку и трудолюбив. Поскольку он хлопочет только о полезном, в нем мало заметна склонность к тому, что для более тонкого ума прекрасно или возвышенно. Великий человек — это для него то же, что богатый человек; под другом он подразумевает того, с кем он ведет переписку, а посещение знакомых, не приносящее ему никакой пользы, кажется ему весьма скучным[16]. Он представляет собой контраст и французу, и англичанину, и его можно было бы назвать весьма флегматизированным немцем.
Если попытаемся эти мысли применить к какому-нибудь случаю, например к чувству чести, то обнаружатся следующие национальные различия. Честь для француза — это тщеславие, для испанца — высокомерие, для англичанина — гордость, для немца — надменность, а для голландца — чванливость. Эти выражения на первый взгляд кажутся синонимами, однако в соответствии с богатством языка они указывают на весьма заметные различия. Тщеславие ищет одобрения, оно непостоянно и изменчиво, его внешнее проявле-
174
ние — вежливость. Высокомерный человек воображает, будто обладает большими достоинствами, и не слишком хлопочет об одобрении других, его поведение чопорно и заносчиво. Гордость есть в сущности только бо́льшая степень сознания своего собственного достоинства и часто может быть совершенно справедливой (почему она иногда и называется благородной гордостью; но никогда никому не могу я приписать благородное высокомерие, так как всегда высокомерие свидетельствует о неправильном и преувеличенном мнении о себе). Обхождение гордого человека с другими равнодушно и холодно. Надменный человек есть гордый человек, который в то же время тщеславен*. А то одобрение, которое он старается найти у других, состоит в оказании ему почестей. Поэтому он охотно щеголяет титулами, родословной и внешней роскошью. Немец особенно заражен этой слабостью. Слова милостивый, весьма благосклонный, высокородный, благородный и тому подобные высокопарные выражения делают его речь напыщенной и тяжеловесной и сильно мешают той прекрасной простоте, которую другие народы могут придать своему стилю. Поведение надменного человека в обществе сводится к церемониям. Чванливый человек есть человек высокомерный, выказывающий в своем поведении явные признаки презрения к другим. В своем обращении он груб. Это жалкое качество дальше всего от тонкого вкуса, так как оно явно глупо; ведь совершенно ясно, что относиться [к другим] с явным презрением и тем самым вызывать у всех ненависть и язвительные насмешки — это не средство для удовлетворения чувства чести.
В любви немец и англичанин не очень прихотливы, у них есть некоторая тонкость в восприятии, но скорее всего их вкус здоровый и грубоватый в том, что касается любви, итальянец мечтателен, испанец склонен к причудливому, француз сластолюбив.
175
Религия в нашей части света не дело своенравного вкуса, а имеет более достойное происхождение. Поэтому только чрезмерности и то, что в ней собственно человеческого, могут служить признаком различных национальных свойств. Эти чрезмерности я подвожу под следующие основные понятия: легковерие, суеверие, фанатизм, индифферентность. Легковерна в большинстве случаев невежественная часть каждой нации, хотя она и не обладает сколько-нибудь заметным тонким чувством. Убеждения ее складываются на основе слухов и мнимых авторитетов; никакое более или менее тонкое чувство не является здесь побудительной причиной. Примером в этом отношении могут служить целые народы на севере. Легковерный человек, склонный к причудливому, становится суеверным. Такая склонность сама по себе может быть основанием для легковерия*. Из двух человек, один из которых заражен этим чувством, а другой отличается хладнокровием и умеренностью, первый, если он даже умнее, все же ввиду преобладающей в нем склонности готов верить в нечто неестественное скорее, чем другой, которого от этой чрезмерности удерживает не его благоразумие, а его обыденное и флегматическое чувство. Человек суеверный охотно ставит между собой и высшими предметами своего преклонения некоторых могущественных и необыкновенных людей — так сказать, исполинов святости, — которым повинуется природа и заклинающий глас которых запирает и открывает железные врата преисподней, — тех, кто, головой касаясь неба, ногами своими все еще стоит на низменной земле. Наставлениям здравого смысла придется в Испании преодолеть поэтому большие препятствия. Дело не в
176
том, что они должны изгнать там невежество, а в том, что им противостоит здесь странная склонность: испанцу все естественное кажется низменным и он полагает, что вызвать в нем возвышенное чувство может только нечто необыкновенное. Фанатизм представляет собой, так сказать, благоговейное безрассудство; его порождает какая-то гордость и слишком большое доверие к самому себе, дабы стать ближе к небесным существам и в поразительном полете вознестись над обычным и установленным порядком. Фанатик разглагольствует только о непосредственном вдохновении и созерцательной жизни, между тем как суеверный человек дает обеты перед образами великих святых-чудотворцев и уповает на воображаемое и неподражаемое превосходство других лиц над его собственной природой. Даже чрезмерности несут на себе, как мы заметили выше, признаки национального чувства, и в этом смысле фанатизм*, по крайней мере встречавшийся в былые времена чаще всего в Германии и Англии, представляет собой как бы неестественный нарост на благородном чувстве, присущем характеру этих народов. а вообще говоря, он далеко не столь вреден, как склонность к суеверию, хотя вначале он и неукротим; возбуждение фанатика постепенно охладевает и по самой своей природе должно в конце концов достигнуть надлежащей умеренности. Суеверие, напротив, у людей со спокойным и пассивным характером незаметно укореняется все глубже, совершенно лишая их всякой надежды на избавление от этой вредной иллюзии. Наконец, тщеславный и легкомысленный человек никогда не имеет сильного чувства возвышенного, и религия не трогает его, по большей части она для него только дело моды, которой он следует со всей старательностью, оставаясь равнодушным. Таков практический [религиозный] индифферентизм, к которому особенно склонен,
177
по-видимому, национальный дух французов; от подобного индифферентизма до святотатственного зубоскальства один только шаг, и по сути своей индифферентизм ненамного лучше полного отречения [от религии].
Если мы бросим беглый взгляд и на другие части света, то увидим, что самый благородный человек на Востоке — это араб, хотя присущее ему чувство приобретает черты причудливого. Он гостеприимен, великодушен и правдив, но его беседы и рассказы и вообще его чувства всегда смешаны с чем-то необычным. Его разгоряченное воображение рисует ему вещи в неестественном и искаженном свете, и даже распространение его религии было великим приключением. Если арабы представляют собой как бы испанцев Востока, то персы — это французы Азии. Они хорошие поэты, вежливы и обладают довольно тонким вкусом. Они не слишком строгие последователи ислама и соответственно своему нраву, склонному к веселью, позволяют себе довольно свободное истолкование Корана. Японцев можно было бы рассматривать как своего рода англичан этой части света, но только в смысле их твердости, переходящей в самое крайнее упрямство, их храбрости и презрения к смерти. Впрочем, у них явно мало признаков утонченного чувства. У индийцев преобладает склонность к гротескному, доходящему до эксцентричности. Их религия состоит из гротесков. Идолы чудовищной формы, бесценный зуб могучей обезьяны Ганумана, противоестественные самоистязания факиров (языческих нищенствующих монахов) и т. п. — все это в их вкусе. То, что женщина добровольно приносит себя в жертву на том же самом костре, который пожирает труп ее мужа, — это отвратительная нелепость. Каких только нелепых гримас не содержат в себе витиеватые и заученные комплименты китайцев; даже их картины гротескны и представляют странные и неестественные образы, подобных которым нет нигде в мире. Китайцы уважают свои церемонии за их весьма древнее происхождение*, и ни один народ в мире не имеет их столько, сколько этот.
178
Африканские негры от природы не обладают таким чувством, которое выходило бы за пределы нелепого14. Господин Юм15 предлагает всем привести хотя бы один пример, когда бы негр проявил какие-либо таланты, и утверждает, что из сотен тысяч черных, вывезенных из их страны в другое место, хотя очень многие из них были отпущены на свободу, не было ни одного, который бы в искусстве, или в науке, или в другом похвальном качестве дал что-нибудь великое, хотя среди белых постоянно встречаются выходцы из самых низов, снискавшие уважение в обществе своими превосходными дарованиями. До такой степени значительно различие между этими двумя расами, что и в душевных качествах оно, по всей видимости, столь же велико, как в цвете кожи. Широко распространенная среди негров религия фетишизма есть, видимо, такое идолопоклонство, которое настолько погрязает в нелепом, насколько это вообще возможно для человеческой природы. Птичье перо, коровий рог, раковина или любой другой простой предмет, как только он освящен несколькими словами, становится объектом почитания и к нему обращаются с заклинаниями. Чернокожие весьма тщеславны, но на негритянский лад, и столь болтливы, что их приходится разгонять ударами палок.
Среди всех дикарей нет ни одного народа, который отличался бы таким возвышенным характером, как дикари Северной Америки. У них сильно развито чувство чести. Во имя чести они готовы за сотни миль пускаться на опасные приключения и всячески стараются предотвратить даже малейшее покушение на нее [и в том случае], когда их не менее жестокий враг, захватив их [в плен], хочет бесчеловечными пытками вырвать у них хоть один малодушный стон. Впрочем, дикари Канады правдивы и честны. Их дружба проникнута такой же отвагой и восторженностью, как та, о которой повествовали с самых древних, сказочных времен. Они чрезвычайно горды, хорошо знают цену свободе и, даже когда
179
[другие] занимаются их воспитанием, не терпят ничего, что дало бы им почувствовать унижающую зависимость. Весьма вероятно, что Ликург именно таким дикарям и давал свои законы, и если бы среди одной из шести наций[17] нашелся подобный законодатель, то мы были бы свидетелями возникновения спартанской республики в Новом Свете. Ведь и путешествие аргонавтов мало чем отличается от военных походов этих индейцев, и Язон ничем не превосходит Аттакакуллакуллу, кроме чести носить греческое имя. У всех этих дикарей мало чувства прекрасного в моральном смысле этого слова, и им совершенно неизвестна такая добродетель, как способность великодушно прощать оскорбление, что́ благородно и прекрасно; более того, подобное прощение они презирают как жалкую трусость. Храбрость — величайшее достоинство дикаря, а месть для него — высшее наслаждение. У остальных коренных жителей этой части света мало признаков такого характера, который располагал бы к более тонким восприятиям, и крайнее бесчувствие составляет признак этих человеческих рас.
Если мы рассмотрим отношения между полами во всех этих частях света, то найдем, что только европеец открыл тайну того, как при сильном влечении украсить чувственное возбуждение таким множеством цветов и переплести его с такой дозой морального, что этим приятность его не только намного увеличивается, но и делается весьма благопристойной. Житель Востока в этом отношении обладает совершенно извращенным вкусом. Не имея представления о нравственно прекрасном, которое можно сочетать с этим влечением, он лишает себя ценности даже чувственных наслаждений, и его гарем — источник постоянного беспокойства для него. При этом он наталкивается на всякого рода любовные гримасы, среди которых воображаемая им драгоценность — главное, чем он прежде всего хочет завладеть, и все значение ее состоит в том, что ее разбивают. В отношении этой драгоценности в нашей части света испытывают немало сомнений; житель же Востока, чтобы приобрести ее, пользуется весьма несправедливыми и нередко отвратительными средствами. Поэтому
180
женщина всегда находится там в заточении — все равно, девушка ли она или имеет грубого, негодного и недоверчивого мужа. Разве можно в странах, населенных черной расой, ожидать чего-то лучшего, чем то, что там встречается на каждом шагу, а именно что все женщины находятся там в глубочайшем рабстве? Трусливый человек всегда бывает строгим господином над более слабыми, подобно тому как у нас всегда бывает на кухне тираном тот, кто вне своего дома едва решается попасться кому-нибудь на глаза. Правда, патер Лаба16 сообщает, что один негритянский плотник, которого он упрекнул в высокомерном обращении со своими женами, ответил ему: «Вы, белые, настоящие дураки: сначала вы даете своим женам слишком много воли, а потом жалуетесь, что они кружат вам голову». В этих словах заключается как будто нечто такое, к чему, быть может, следовало бы прислушаться, однако этот малый, одним словом, был черен с ног до головы — явное доказательство того, что сказанное им было глупо. Ни у каких дикарей женщины не пользуются таким действительно большим уважением, как у дикарей Канады. В этом они, пожалуй, превосходят даже нашу образованную часть света. Не то чтобы женщинам выражали там смиренное почтение, — это были бы только комплименты. Нет, женщины там действительно повелевают. Они собираются и совещаются о важнейших делах нации, о войне и мире. Затем они посылают своих доверенных в совет мужчин, и обычно именно их голос является решающим. Но это свое преимущество они покупают дорогой ценой: они несут на себе всю тяжесть домашних дел и участвуют во всех мужских работах[18].
Если в заключение бросить еще взгляд на историю, то мы увидим, что вкус людей подобно Протею постоянно принимает все новые формы. Древние греки и римляне, несомненно, обладали подлинным чувством прекрасного и возвышенного, о чем свидетельствуют их поэзия, скульптура, архитектура, законодательство и даже нравы. Правление римских императоров превратило эту столь же благородную, сколь и прекрасную простоту в пышность, а затем и в
181
ложный блеск, ясное представление о чем дают нам и теперь памятники их красноречия, поэзия и даже история их нравов. Постепенно вместе с полным упадком государства угас и этот остаток утонченного вкуса. Варвары же, укрепив свою власть, ввели собственный извращенный вкус, называемый готическим и сводившийся к гримасам. Эти гримасы проявлялись не только в архитектуре, но и в науках и в других областях. Извращенное чувство, раз подвергшись действию ложного искусства, принимало затем любую неестественную форму — только не древнюю простоту природы — и приводило либо к преувеличениям, либо к нелепостям. Высший взлет человеческого гения к возвышенному состоял в это время в причудливом. Стали появляться духовные и светские искатели приключений и нередко также отталкивающая и чудовищная их помесь. Монахи с требником в одной руке и боевым знаменем в другой, за которыми следовали целые толпы обманутых жертв, чтобы кости их могли быть зарыты в других странах и в более священной земле, воины, торжественными обетами освященные к совершению насилий и злодеяний, и за всем этим — диковинная по рода героических сумасбродов, называвших себя рыцарями и искавших приключения, турниры, поединки и романтические подвиги. Религия вместе с науками и нравами была извращена в это время жалкими гримасами. Следует заметить, что вкус обычно вырождается не только в одной области: он обнаруживает явные признаки порчи и во всем другом, что касается более тонкого чувства. Монашеские обеты создали из множества полезных людей многочисленные общества усердных бездельников, чьи бесплодные умствования сделали их способными к измышлению тысяч схоластических гримас, которые оттуда широко распространялись. Наконец, после того как человеческий гений через некоторого рода возрождение снова благополучно восстал почти из руин, мы в наши дни видим уже расцвет истинного вкуса к прекрасному и благородному как в искусствах и науках, так и в сфере нравственного. Нам остается лишь пожелать, чтобы так легко вводящий в заблуждение ложный блеск не отда-
182
лил нас незаметно от благородной простоты, в особенности же чтобы не открытый еще секрет воспитания был избавлен от старого заблуждения и благодаря этому своевременно было возвышено нравственное чувство в сердце каждого молодого гражданина мира до деятельного ощущения, дабы тем самым вся тонкость [чувства] не сводштсь только к мимолетному и пустому удовольствию и дабы мы могли судить о том, что происходит вокруг нас, более или менее тонко.
ПРИЛОЖЕНИЕ
К «НАБЛЮДЕНИЯМ НАД ЧУВСТВОМ ПРЕКРАСНОГО И ВОЗВЫШЕННОГО»
(ИЗ ПОСМЕРТНО
ИЗДАННЫХ РУКОПИСЕЙ 1764 г.)
![]()
Искусство казаться глупым у мужчины и искусство казаться умной у женщины. — Человек может оказывать на другого двоякого рода выгодное впечатление, а именно внушать ему уважение или любовь; первое — через возвышенное, вторая — через прекрасное. Женщина сочетает и то и другое. Это сложное ощущение составляет величайшее впечатление, которое только можно произвести на человеческую душу.
Кокетка переступает границы женственного, грубый педант — границы мужественного. В недоступной с виду женщине слишком много мужского, а в щеголе слишком много женского.
Смешно, когда мужчина хочет завоевать сердце женщины умом и большими заслугами.
Сочувствие естественному несчастью других не необходимо, но
необходимо сочувствовать несправедливостям, которым подверглись другие люди.
Различие в характере проявляется в чувствах. Параллель между чувством и
способностью. Нежный — тупой — тонкий вкус. Чувство (прекрасного и
возвышенного), о котором я говорю, таково, что мне не надо искать повода, чтобы
его испытывать. Утонченное чувство есть такое чувство, в котором идеальное (не
химерическое) содержит высшую степень приятности. — Отвага — бесстрашный жест
187
Катона2; самоотверженность. Мщение за себя возвышенно. Некоторые пороки возвышенны; убийство из-за угла трусливо и подло. Некоторых людей внезапно охватывает неудержимое стремление к порокам. — Сильный человек добр. Неистовый Ионафан3.
Удивительное и редкостное. — Теперешнее устройство жизни таково, что женщина может жить и без мужчин, что портит всех.
Любовь и уважение. — Половая любовь всегда предполагает сладострастие ощущения или воспоминания. Эта сладострастная любовь бывает или грубой, или тонкой. У великого человека уважение всегда предшествует нежной любви. Женщина не легко выдает себя, поэтому и не напивается допьяна. Она хитра, потому что слаба.
В браке имеется единство без единения. Нежную любовь следует, конечно, отличать от супружеской.
О моральном возрождении. То, что удовлетворяет истинной или воображаемой потребности, полезно (mihi bonum). Желания, необходимые человеку в силу его природы, суть желания естественные. Человек, не имеющий никаких других желаний и не в большей степени, чем желания естественной необходимости, называется человеком природы, а его способность быть довольным немногим есть умеренность природы. Та масса знаний и других совершенств, которая необходима для удовлетворения природы, и есть простота природы. Человек, в котором можно найти простоту и естественное довольство немногим, есть человек природы. Тот, кто желает большего, чем необходимо от природы, склонен к излишествам.
Причина, почему представление о смерти не оказывает того действия, которое оно могло бы иметь, состоит в том, что нам, как существам по природе деятельным, вообще не полагается думать об этом.
Веселость задорна, лукава и разрушительна, душевная же уравновешенность благожелательна и охотно оказывает услуги.
Одна из причин того, почему распутство незамужних женщин заслуживает большего осуждения, состоит в том, что мужчины, если они до женитьбы
188
предавались распутству, этим не подготовляют себя к неверности в браке. Дело в том, что похотливости, правда, стало у них больше, но их силы уменьшились. У женщины, напротив, силы полностью сохраняются, и если похотливость ее усиливается, то ее ничто не может удержать от распутства. Поэтому о развратных женщинах можно заранее сказать, что они будут неверными женами, но этого нельзя сказать о подобного же рода мужчинах.
Вся цель наук есть или eruditio (память), или speculatio (разум). И то и другое должно быть обращено на то, чтобы сделать человека рассудительнее (умнее, мудрее) в том его состоянии, которое вообще соответствует человеческой природе, и, следовательно, сделать его более умеренным. Моральный вкус приводит к тому, что науку ценят мало, если она не исправляет.
Нежная взаимная любовь обладает способностью развивать другие нравственные свойства, сладострастная же любовь — способностью подавлять такие свойства.
Душа (не речь), преисполненная чувства, есть величайшее совершенство. В речи, в поэзии, в общественной жизни такая душа бывает не всегда, но она — конечная цель; ее нет даже в брачной жизни.
У молодых людей, правда, много чувства, но мало вкуса. Стиль, полный восторженности или вдохновения, портит вкус. Извращенный вкус к роману и галантному озорству. Здоровый — изнеженный — избалованный вкус.
Женщина обладает тонким вкусом в выборе того, что может воздействовать на чувства мужчины, мужчина же обладает грубым вкусом. Поэтому он больше всего нравится тогда, когда меньше всего об этом думает. Женщина, напротив, обладает здоровым вкусом в том, что касается ее собственных чувств.
Честь мужчины состоит в том, что он себя уважает, честь женщины — в суждении других о ней. Мужчина женится по собственному решению, женщина выходит замуж, не противясь решению родителей. Женщина противопоставляет несправедливости слезы, мужчина — гнев.
189
Ричардсон приводит иногда суждение Сенеки о женщине: девушка высказывает какое-нибудь суждение и добавляет: так говорит мой брат; будь она замужем, она сказала бы: так говорит мне мой муж.
Мужчина становится нежным к женщине, когда женщины становятся мужественными. — Привычка льстить женщине оскорбляет ее.
Изнеженность больше, чем распутство, искореняет добродетель. — То, что достойно уважения в хозяйке дома. Тщеславие женщин — причина того, что они счастливы только в блеске вне дома. Мужество женщины состоит в терпеливом перенесении зла ради своей чести или ради любви; мужество мужчины — в упорном и ревностном стремлении уничтожить зло. — Омфала заставляла Геркулеса прясть.
Так как нас расслабляет огромное множество пошлых потребностей, то одно лишь естественное моральное побуждение не может дать нам достаточно сил; поэтому к нему должно быть прибавлено нечто фантастическое.
Вот почему стоик говорит: «Мой друг болен; какое мне до этого дело?» Нет человека, который не чувствовал бы на себе тяжелого ярма мнения, и никто, однако, не сбрасывает этого ярма.
Химерическое в дружбе; химерическое в том или другом состоянии нашем и в причудах старости. Аристотель.
Сервантес поступил бы лучше, если бы, вместо того чтобы выставлять фантастическую и романтическую страсть в смешном виде, направил бы ее в лучшую сторону.
Романы делают благородных женщин склонными к причудам, а обыкновенных — глупыми, благородных мужчин — также чудаками, а обыкновенных — лентяями.
Книга Руссо служит к тому, чтобы старых людей сделать лучшими.
Согласно естественной простоте женщина не может сделать много хорошего без посредства мужчины. Занимая более высокое положение и обладая богатством, она может делать добро непосредственно.
190
Моральные сентенции; о чувствах, которые не проявляются в действиях.
Душевное огорчение из-за неспособности помочь или из-за необходимости жертв, когда помогают, равно как из-за собственной трусости, — это огорчение, заставляющее нас верить, что другие много страдают, хотя бы и заслуженно, и есть сострадание. Впрочем, это еще не сильное средство против эгоизма.
Все указанные побуждения у естественного человека незначительны.
Естественные возвышения представляют собой падения по отношению к собственному положению, например возвышение до положения ремесленника.
У женщины столь же сильные страсти, как и у мужчины, но она при этом рассудительнее, а именно в том, что касается приличий; мужчина более безрассуден. У китайцев и индийцев столь же сильные страсти, как и у европейцев, но они более сдержанны.
Восходящее солнце так же великолепно, как и заходящее, но зрелище первого скорее производит впечатление прекрасного, тогда как зрелище последнего — впечатление трагического и возвышенного.
Поступки женщины в супружеской жизни гораздо больше относятся к естественному счастью, чем поступки мужчины, по крайней мере в нашем цивилизованном состоянии.
Так как в условиях цивилизации у людей множество неестественных желаний, то случайно возникает также и побуждение к добродетели, и так как в наслаждении и знании проявляется столь много чрезмерного, то возникает наука. В естественном состоянии можно быть добрым без добродетели и разумным без науки.
Было ли бы человеку лучше в простом естественном состоянии, — это теперь решить трудно: во-первых, потому, что он утратил чувство простого удовольствия, во-вторых, потому, что он обычно полагает, будто та испорченность, которую он видит в цивилизованном состоянии, имеется и в состоянии естественной простоты. Счастье без тонкого вкуса покоится на простоте и умеренности склонностей; счастье в сочетании с тонким вкусом —= на душе, преисполненной чувством;
191
покой. — Вот почему нужно уметь быть счастливым и без общества, ибо тогда нас не обременяют никакие потребности. Покой после работы приятнее, и человек вообще не должен гоняться за удовольствиями.
Логический эгоизм; умение стать на свою точку зрения.
Обычные обязанности не нуждаются в качестве стимула в надежде на загробную жизнь; но бо́льшая самоотверженность и самоотречение, несомненно, обладают внутренней красотой. Наше чувство удовольствия по поводу этого само по себе никогда не может быть столь сильным, чтобы перевесить досаду из-за неустроенности жизни, если только ему на помощь не придет представление о будущем длительном состоянии такой моральной красоты и счастья, которые будут увеличиваться тем, что человек будет чувствовать себя еще более способным действовать подобным образом.
Все удовольствия и страдания бывают или физическими, или духовными (idealisch).
Женщина оскорбляется грубостью или сильно огорчается в тех случаях, когда помочь может не [чувство] ответственности, а только угрозы. Она пользуется [тогда] своим трогательным оружием — слезами, грустным негодованием и жалобами; тем не менее она скорее перетерпит зло, чем уступит несправедливости. Мужчина возмущается тем, что можно быть столь дерзким, чтобы его оскорбить; он отвечает насилием на насилие, устрашает и заставляет обидчика почувствовать последствия несправедливости. Не нужно, чтобы мужчина возмущался по поводу зол, проистекающих из заблуждения, так как он может их презирать.
Метод Руссо — синтетический, и исходит он из естественного человека; мой метод — аналитический, и исхожу я из человека цивилизованного. Сердце человека может быть каким угодно, но здесь весь вопрос в том, способствует ли развитию действительной греховности и склонности к ней естественное состояние или в большей степени состояние цивилизованного мира. Моральное зло может быть в такой мере смягчено, что в поступках обнаруживается только отсутствие большей степени [нравственной] чистоты,
192
но никогда не проявляется действительный порок (тот, кто не свят, в силу этого еще не порочен); напротив, порок может мало-помалу развиться до такой степени, что начнет внушать отвращение. Человек естественной простоты имеет мало искушений стать порочным. Только избыток благ порождает сильный соблазн, и уважение к моральному чувству и голосу рассудка вряд ли может' удержать, когда уже сильно пристрастились к излишествам.
Благочестие есть средство дополнения моральной ценности святостью. В отношении одного человека к другому об этом нет речи. Естественным путем мы не можем быть святыми, этим мы обязаны наследственному греху; но мы, несомненно, можем быть морально добрыми. — Можно или ограничить свою чрезмерную склонность, или, сохраняя ее, найти средство противодействовать ей. К числу таких средств относятся науки и презрение к жизни.
Священное писание больше действует на совершенствование сверхъестественных сил, хорошее моральное воспитание действует больше тогда, когда все должно происходить согласно порядку природы. Я признаю, что при помощи порядка природы мы не можем создать никакой святости, которая оправдывала бы [наши поступки]; но мы все же можем создать моральную ценность coram foro humanо [открыто для человеческого рода], и она может даже содействовать святости.
Как нельзя сказать, что природа привила нам непосредственную
склонность к скаредности, так нельзя сказать, что она дала нам непосредственное
стремление к чести. Обе [эти склонности] развиваются, и обе они полезны при
всеобщей роскоши. Но отсюда можно сделать только тот вывод, что, подобно тому
как при тяжелой работе природа создает мозоли, точно так же она в нарушениях
своих создает противодействующие средства.
Различие сословий людей служит причиной того, что подобно
тому как для того, чтобы представить себе скудный корм рабочей лошади, никто не
ставит себя на ее место, так и для того, чтобы понять нищету, не ставят себя в
положение нищего.
193
Нынешние моралисты допускают существование многих зол и
хотят учить их преодолению; они предполагают также и много искушений и
предписывают стимулы для их преодоления. Метод Руссо учит нас подобное зло не
считать злом, а этй искушения — искушениями.
Угроза вечного наказания не может быть непосредственным
основанием для морально добрых поступков, но, несомненно, может быть сильным
противовесом соблазну зла, дабы не получилось перевеса над непосредственным
ощущением морального. Не существует никакой непосредственной склонности к морально
дурным поступкам, но, несомненно, существует непосредственная склонность к
добрым поступкам.
Следует строго различать человека с хорошими задатками от
человека благовоспитанного. Первому нет надобности обуздывать извращенные
склонности, ибо склонности у него хороши по природе. Когда он думает о
воздаянии, прибегая для этого к представлениям о высшем существе, он говорит:
быть может, это наступит здесь, быть может, на том свете, нужно быть хорошим и
спокойно ожидать остального. Второй 1) только цивилизован и 2) благовоспитан.
Эта естественная нравственность должна быть также и пробным
камнем всякой религии. Ведь если неизвестно, могут ли люди, исповедующие другую
религию, стать праведными, а также в состоянии ли страдания в этом мире дать
блаженство в загробном мире, то я, конечно, не должен их преследовать. Но этого
последнего не было бы, если бы естественное чувство не было достаточным для
исполнения всякого долга в этой жизни.
Каждый трус — лжец, но не наоборот. То, что делает слабым,
порождает ложь.
Следует отличать стыд от стыдливости. Стыд есть раскрытие
тайны вследствие естественного движения крови; стыдливость есть средство скрыть
тайну из тщеславия, а также при половом влечении.
Несравненно более опасно находиться в войне со свободными и
корыстолюбивыми людьми, чем с поданными монарха. — Целые нации могут служить приме-
194
ром человека вообще. Никогда нельзя
найти великих добродетелей, с которыми не были бы в то же время связаны сильные
отклонения, как это наблюдается у англичан.
Всякое благоговение, поскольку оно естественно, имеет только ту пользу, что оно есть следствие доброй нравственности. В эту последнюю включается также и естественное благоговение перед книгой. Поэтому духовные наставники правильно говорят, что благоговение не имеет никакой цены, ежели оно не вызвано духом божьим; в этом случае оно есть созерцание; в других случаях оно весьма располагает к самообману. Те, кто учение о добродетели превращают в учение о благочестии, превращают часть в целое, ибо благочестие есть только вид добродетели. — Далеко не одно и то же преодолеть свои склонности или же их искоренить, т. е. сделать так, чтобы их у нас больше не было. Следует также отличать это от предотвращения склонностей, т. е. от действий, предотвращающих их приобретение. Первое нужно старым людям, последнее — молодым.
Требуется очень много искусства, чтобы предохранить детей от лжи. Действительно, так как им предстоит очень многое сделать и они слишком слабы, чтобы отвечать отказом и сносить наказание, то у них гораздо больше побуждений ко лжи, чем у взрослых, в особенности потому, что в отличие от взрослых они сами ничего не могут себе добыть, а все зависит от того, как они представляют себе что-то соответственно той склонности, которую они замечают у других. Их нужно поэтому наказывать только за то, что́ они никак не могут отрицать, и ничего не позволять им на основе соображений, выставляемых ими в качестве предлога.
Отнюдь не следует, если хочешь воспитать моральные качества, приводить мотивы, которые не делают поступок морально добрым, а именно наказания, награды и т. п. Поэтому и ложь следует изображать как нечто непосредственно отвратительное, т. е. такой, какова она на самом деле, не подчиняя ее никакому другому правилу морали, например долгу по отношению к другим. Нет обязанностей по отношению к самому себе, но есть абсолютные обязанности, имеющие значение
195
сами по себе, — поступать хорошо. Нелепо также, что в нашей нравственности мы редко зависим от самих себя.
В медицине говорят, что врач есть слуга природы; но то же относится и к морали. Устраняйте только внешнее зло, а природа уже примет наилучшее направление. Если бы врач сказал, что природа сама по себе испорченна, то каким же средством он думал бы ее исправить? То же относится и к моралисту.
Человек не безучастен к счастью или несчастью других только тогда, когда он сам чувствует себя довольным. Сделайте поэтому так, чтобы он был доволен немногим, и вы создадите добрых людей; иначе все будет напрасным. Во всеобщей любви к людям есть что-то возвышенное и благородное, но она химера. До тех пор пока человек сам так сильно зависит от вещей, он будет безучастен к счастью других.
Человек естественной простоты очень рано обретает чувство справедливости, но очень поздно или вообще не обретает понятия справедливости. Упомянутое чувство должно развиваться гораздо раньше, чем понятие. Если раньше научить человека развивать по правилам это понятие, то у него никогда не будет чувства справедливости. После того как склонности уже развиты, трудно представлять себе хорошее или дурное при других обстоятельствах. Так как меня, если я не имею какого-либо постоянного наслаждения в данное время, заедает скука, то я могу себе представить швейцарца, пасущего в горах своих коров; а этот швейцарец не сможет себе представить, как это человек, который сыт, может желать чего-то еще. Трудно понять, как в таком низком состоянии само это состояние не причиняет страдания. С другой стороны, если одни люди ослеплены самомнением, то другие не могут себе представить, как это может быть у них такое ослепление. Знатный человек воображает, что пренебрежение, вызванное отказом от блеска, не может угнетать обывателя, и не понимает, что этот обыватель привык считать некоторые развлечения своей потребностью.
Государь, даровавший дворянство, хотел дать нечто такое, что некоторым лицам могло бы заменить
196
избыток других благ. Пусть они это лакомство дворянского бремени берегут так же, как другие тщеславные люди — обладание деньгами!
Разве может быть что-либо более нелепым, как то, что детям, едва вступающим в этот мир, тотчас же начинают говорить о другом мире?
Подобно тому как плод, когда он достаточно созрел, отделяется от дерева и падает на землю, дабы его семена могли пустить в ней корни, точно так же и человек, достигший совершеннолетия, отделяется от своих родителей, поселяется в другом месте и становится корнем нового поколения. Для того чтобы женщина зависела от мужчины, он сам не должен ни от кого зависеть.
Следует поставить вопрос: к каким успехам могут привести человека внутренние моральные мотивы? Быть может, они приведут его к тому, что он в состоянии свободы будет добрым, не подвергаясь большому искушению. Однако если несправедливость других или сила самомнения окажет на него давление, то эта внутренняя моральность окажется недостаточно сильной. Он должен иметь религию и поощрять себя воздаянием в загробной жизни; человеческая природа не способна к непосредственной моральной чистоте. Однако если на ее чистоту оказывается воздействие сверхъестественным образом, то расчет на будущие воздаяния уже не будет служить побудительной причиной.
Различие между ложной и здоровой моралью состоит в том, что первая ищет лишь средств против зла, а вторая заботится о том, чтобы не было самих причин этого зла.
Среди всякого рода прикрас существуют прикрасы моральные. Возвышенное в сословии состоит в том, что сословие объемлет много достоинств; прекрасное означает здесь пристойное. Причина, почему с достоинством в дворянстве дело обычно обстоит плохо. — Возвышенный образ мыслей, не обращающий внимания на мелочи и в недостатках замечающий доброе.
Противоестественно, когда человеку приходится проводить свою жизнь в том, чтобы учить ребенка жить. Такие воспитатели, как Жан-Жак [Руссо], являются
197
поэтому ненастоящими воспитателями. В состоянии естественной простоты ребенку оказывается только немного услуг; как только он накопит немного сил, он сам начинает совершать некоторые полезные поступки взрослых, что бывает у крестьян или ремесленников, и постепенно учится всему остальному. Между тем вполне естественно, что человек использует свою жизнь и для того, чтобы многих научить жить и чтобы в таком случае жертвование своей собственной жизнью не представляло собой ничего удивительного. Школы поэтому необходимы; но для того, чтобы они были возможны, необходимо воспитать Эмилей4. Было бы желательно, чтобы Руссо показал, как в этих условиях могли бы возникнуть школы. Проповедники в деревне могли бы начать осуществлять это со своими собственными детьми и с детьми своих соседей.
Вкус не связан с нашими потребностями. Мужчина должен быть уже благовоспитанным, если он хочет выбрать себе жену по вкусу.
Я должен читать Руссо до тех пор, пока меня уже не будет отвлекать красота его слога, и только тогда я начну читать его с пониманием. То, что великие люди только издалека создают впечатление блеска и что государь всегда многое теряет в глазах своего камердинера, объясняется тем, что ни один человек не велик.
Если бы я в настоящее время захотел поставить себя в сильную, хотя и неполную, зависимость от людей, то для этого я должен был бы иметь возможность быть бедным, не чувствуя этого, и мало уважаемым, не обращая на это внимания. Но если бы я был богат, то в мои удовольствия включил бы главным образом независимость от вещей и людей. Я не стал бы тогда обременять себя слугами, садами, лошадьми и т. д., утрата которых меня бы постоянно тревожила. Я не стал бы приобретать никаких драгоценностей, так как я могу их потерять, и т. д. Я не стал бы устраивать свою жизнь по прихоти других, дабы эта прихоть не причиняла мне настоящего ущерба, например не ограничивала бы мое общение с людьми и не стесняла меня.
Чтобы научиться отличать чуждое природе и случайное [для нее] от того, что для нее естественно, нужно
198
понимать, как проявляются искусство и изысканность в цивилизованном государстве и почему их нет в некоторых странах (где, например, отсутствуют домашние животные). Если говорят о счастье дикаря, то это не для того, чтобы вернуться в леса, а лишь для того, чтобы знать, что́ пришлось потерять в одном отношении, приобретая в другом; чтобы, наслаждаясь богатством общественной жизни, не слишком предаваться неестественным и приносящим несчастье склонностям, присущим такой жизни, и чтобы, оставаясь цивилизованным человеком, быть верным природе. Упомянутое рассуждение служит нам руководящей нитью, ибо природа никогда не создает человека гражданином и его склонности и стремления имеют своей целью лишь простое состояние жизни. — Удел большинства других существ, надо полагать, состоит главным образом в том, чтобы жить и сохранять свой вид. Если то же самое я предположу и относительно человека, то я не должен презирать обыкновенного дикаря.
Как же из роскоши становится в конце концов необходимой гражданская религия, а также религиозное принуждение (по крайней мере при каждой новой перемене)? — Одна только естественная религия совсем не годится для государства, тем более скептицизм.
Гнев есть весьма благонравное чувство слабого человека. Стремление подавлять его вызывает непримиримую ненависть. Не всегда ненавидят того, на кого гневаются. Благонравность людей гневающихся. Под притворным благонравием скрывается гнев; оно создает фальшивых друзей.
Я никогда не смогу убедить другого иначе как с помощью его собственных мыслей. Я должен, следовательно, предположить, что у него здравый и правильный ум, иначе было бы напрасно надеяться, что его можно убедить моими доводами. Точно так же я могу другого человека морально растрогать только через его же собственные чувства; я должен, следовательно, предположить, что он в какой-то мере добросердечен, иначе он никогда не будет чувствовать отвращение, когда я опишу ему порок, а когда я стану восхвалять добродетель, он никогда не ощутит в себе стремления
199
к ней. Но так как возможно, что в нем есть некоторые морально правильные чувства или что он может предполагать, что его мироощущение согласно с ощущениями всего человеческого рода и что злое в нем всецело злое, то я должен признать за ним долю добра в этом, а двусмысленное сходство невинности с преступлением изобразить как само по себе обманчивое.
Высший мотив действия состоит в том, что оно благо. Отсюда должно следовать, во-первых, что так как бог в своем могуществе и великом познании признает самого себя благим, то он все, что благодаря этому возможно, признает благим; и, во-вторых, что он находит удовлетворение во всем, что для него хорошо, всего же больше находит он его в том, на что обращена его высшая благость. Первое хорошо как следствие, второе — как основание.
Так как месть предполагает, что люди, ненавидящие друг друга, остаются вблизи друг от друга (в противном случае, т. е. если люди могли бы по желанию отдаляться друг от друга, отпало бы и основание для мести), то ясно, что месть не заложена в природе [человека]: ведь природа не предполагает, чтобы люди были заперты где-то вместе. Однако гнев — свойство весьма необходимое и подобающее мужчине, если оно только не страсть (которую следует отличать от аффекта), — несомненно, заложен в природе.
Нельзя себе представить приятность того, что не было нами испробовано; так, караиб имеет отвращение к соли, к которой он не привык.
Агесилай и персидский сатрап презирали друг друга; первый говорил: я знаю персидское сладострастие, а о моем тебе ничего не известно.
Христианин, говорят, не должен иметь пристрастие к бренным вещам. Под этим подразумевается также, что следует заблаговременно предохранять всех от такого пристрастия. Но сначала содействовать подобным склонностям, а затем ожидать сверхъестественной помощи в управлении ими — значит искушать бога.
Один великий монарх на севере5 цивилизовал, как говорится, свой народ. Если бы на то была божья воля, этот монарх ввел бы в своем народе добрые нравы. Но
200
все, что он сделал, принесло только политическую пользу и служило моральной порче.
Я никого не могу сделать лучшим иначе как через остаток того добра, которое в нем имеется; я никого не могу сделать умнее иначе как через имеющийся в нем остаток ума.
Из чувства равенства возникает идея справедливости и у угнетенных, и у угнетателей. Первое есть долг по отношению к другим, вторая — осознаваемый долг других по отношению ко мне. Для того чтобы эти другие располагали некоторым мерилом, мы можем мысленно ставить себя на место других, а чтобы для этого не было недостатка в стимулах, мы движимы сочувствием к несчастью и беде других в такой же мере, как и к нашим собственным. Этот долг признается как нечто такое, отсутствие чего заставило бы меня рассматривать другого как моего врага и сделало бы его для меня ненавистным. Ничто не возмущает нас больше, чем несправедливость; все другие виды зла, которые нам приходится терпеть, ничто по сравнению с ней. Долг касается только необходимого самосохранения, поскольку он согласуется с сохранением вида; все остальное есть выражение благорасположения и благоволения. Поэтому я буду ненавидеть каждого, кто, увидя меня барахтающимся в яме, равнодушно пройдет мимо.
Благосклонность познается только через неравенство. В самом деле, под благосклонностью я понимаю готовность оказывать добро даже в том случае, когда общая естественная симпатия не служила бы для этого достаточным основанием. И вовсе не так просто и естественно отказаться от таких удобств, какие я предоставляю другому, [только] на том основании, что один человек имеет такое же значение, как и другой. Поэтому если я готов к этому, то я должен в отношении неудобств судить себя строже, чем другого; я должен считать большим злом то, от чего я избавляю другого, и малым злом то, что я испытываю сам. Один человек презирал бы другого, если бы этот другой проявлял к нему такого рода благосклонность.
Первый вид неравенства — это неравенство мужчины и ребенка, мужчины и женщины. Мужчина, так как
201
он сильный, а они слабые, некоторым образом считает себя виноватым, если не пожертвует чем-нибудь в их пользу.
Приличие есть мнимо-благородное; блеск есть мнимо-ложное; разукрашенное есть мнимо-прекрасное.
Всякая неправильная оценка того, что не относится к цели природы, нарушает также и прекрасную гармонию природы. Оттого что искусствам и наукам мы приписываем такое важное значение, мы относимся с презрением к тем, кто далек от них, и это приводит к несправедливости, которой мы не совершили бы, если бы чаще рассматривали их как равных нам.
Если нечто не соответствует ни продолжительности жизни, ни ее периодам, ни большинству людей, если, наконец, оно подвержено случайности и лишь с трудом может приносить пользу, то оно не принадлежит к счастью и совершенству человеческого рода. Сколько столетий прошло, прежде чем появилась подлинная наука, и сколько в мире народов, которые никогда не будут ее иметь! Не следует говорить, что мы самой природой призваны к науке, поскольку природа дала нам способность к ней: ведь стремление [к науке] может быть только неприродным.
Ученые думают, что все существуют ради них. Дворяне думают так же. — Если совершить путешествие через тихую (öde) Францию, то некоторое утешение можно получить от знакомства с академией наук или с обществом хорошего тона; если благополучно избавиться от зрелища всякого рода нищенства в Папской области, то в Риме можно до одурения наслаждаться великолепием церквей и памятников древности.
Человек может мудрить сколько угодно, и все же он не может заставить природу следовать иным законам. Он или сам должен работать, или другие должны работать на него; и эта работа отнимает у других как раз столько счастья, насколько он захочет увеличить свою долю счастья, сделав ее выше средней.
Благополучию можно содействовать, если, давая развиваться нашим желаниям, стремиться их удовлетворять. Порядочности можно содействовать, если, давая развиваться склонностям к суетности и роскоши,
202
искать моральные стимулы, чтобы противостоять этим склонностям. Но обе задачи имеют еще и другое решение, а именно совсем не давать этим склонностям возникнуть. Наконец, можно и благонравному поведению содействовать, если оставлять в стороне всякую непосредственную моральную ценность и исходить из одних лишь повелений вознаграждающего и наказующего владыки.
Вред, приносимый наукой людям, состоит главным образом в том, что огромное большинство тех, кто хочет себя в ней проявить, достигает не усовершенствования рассудка, а только его извращения, не говоря уже о том, что для большинства наука служит лишь орудием для удовлетворения тщеславия. Польза, которую приносит наука, заключается или в блистательности (например, математика), или в предотвращении зол, которые сама же она и причинила, или же в определенного рода благонравии как второстепенном следствии ее.
Понятия гражданской справедливости и естественной справедливости, а также возникающее отсюда чувство долга почти диаметрально противоположны друг другу. Если бы я получил наследство от богача, приобретшего свое состояние путем вымогательства у своих крестьян, и это состояние вернул бы тем же беднякам, то в гражданском смысле я совершил бы весьма великодушный поступок, но в смысле естественной [справедливости] я исполнил бы только самый обыкновенный долг.
При всеобщей роскоши жалуются на правление божественное и правление королей. Но не думают о следующем: 1) что касается правления королей, то ведь то же честолюбие и та же неумеренность, которые властвуют над гражданами, и на троне не могут принять иной вид, чем у них; 2) что такие граждане и не могут быть иначе управляемы. Подданный хочет, чтобы властитель преодолел свою склонность к тщеславию ради содействия благу своей страны, но не думает о том, что это требование с тем же правом может быть предъявлено к ниже стоящим. Прежде всего будьте мудры, справедливы и умеренны; тогда эти добродетели скоро достигнут и трона и сделают добрым также и государя. Посмотрите на слабых государей, которые в такие
203
времена обнаруживают доброту и великодушие; разве могут они проявлять их иначе, чем с великой несправедливостью по отношению к другим? Ведь эти последние усматривают великодушие только в распределении награбленного, отнятого у других. Предоставляемая государем свобода думать и говорить так, как я это делаю теперь, пожалуй, не менее ценна, чем многие льготы, способствующие большему изобилию; ведь благодаря этой свободе все упомянутое зло может быть устранено.
Чрезвычайно важно для человека знать, как надлежащим образом занять свое место в мире, и правильно понять, каким надо быть, чтобы быть человеком. Но если он признает лишь пустую любовь или удовольствия, которые, правда, лестны для него, но для которых он не создан, — удовольствия, противоречащие установлениям, указанным ему природой, если он признает нравственные свойства, имеющие [лишь] внешний блеск, то он будет нарушать прекрасный порядок природы и только уготовит гибель себе и другим: он покидает свое место, раз его уже не удовлетворяет быть тем, к чему он предназначен. Поскольку он выходит из человеческой сферы, он ничто, и созданный этим пробел распространяет его гибель на соседние с ним члены [целого].
Немалый вред, причиняемый потоком книг, ежегодно наводняющих нашу часть света, состоит, между прочим, в том, что действительно полезные книги, всплывающие время от времени на поверхность широкого океана книжной учености, остаются незамеченными и должны разделить участь прочих отбросов — быстро погибнуть. — Склонность много читать, чтобы сказать, что прочли то-то и то-то; привычка не слишком долго задерживаться на одной книге.
Разного рода зло, вытекающее из возрастающей неумеренности людей, в значительной мере возмещается. Потеря свободы и единоличная власть повелителя представляют собой большое несчастье, но это приводит к упорядоченной системе; более того, при такой власти действительно больше порядка, хотя и меньше счастья, чем в свободном государстве. Изнеженность
204
нравов праздных людей, а также тщеславие порождают науки. Науки придают всей жизни новую красу, удерживают от многих зол, а когда они достигают известной высоты, устраняют зло, которое они сами причинили.
Первое впечатление от сочинений Ж.-Ж. Руссо, получаемое читателем, который читает не из тщеславия и не ради времяпрепровождения: поражает необыкновенная проницательность ума, благородный порыв гения и чувствительная душа, что, быть может, никогда ни один писатель, к какому бы веку или народу он ни принадлежал, не обладал всем этим в таком сочетании. Впечатление, которое отсюда непосредственно возникает: удивление по поводу своеобразных и парадоксальных мнений, до такой степени расходящихся со всем общепринятым, что невольно приходит на ум мысль о том, не хотел ли автор, обладая необыкновенными талантами и волшебной силой красноречия, только доказывать [что-нибудь ради доказательства] и оригинальничать, захватывая и поражая новизной [своих мыслей], далеко превосходя по остроумию всех своих соперников.
Нужно учить молодежь относиться с уважением к обыкновенному рассудку как с помощью моральных, так и с помощью логических оснований.
Сам я по своей склонности исследователь. Я испытываю огромную жажду познания, неутолимое беспокойное стремление двигаться вперед или удовлетворение от каждого достигнутого успеха. Было время, когда я думал, что все это может сделать честь человечеству, и я презирал чернь, ничего не знающую. Руссо исправил меня. Указанное ослепляющее превосходство исчезает; я учусь уважать людей и чувствовал бы себя горазно[19] менее полезным, чем обыкновенный рабочий, если бы не думал, что данное рассуждение может придать ценность всем остальным, устанавливая права человечества.
Совершенно нелепо было бы говорить: вы должны любить других людей. Следовало бы скорее сказать: у вас есть все основания любить своего ближнего, и это справедливо даже в отношении ваших врагов.
205
Добродетель сильна; следовательно, все, что нас ослабляет и под влиянием наслаждений делает нас изнеженными или зависимыми от заблуждения, противно добродетели. Все, что отягчает порок и становится на пути добродетели, коренится не в природе.
Всеобщее тщеславие служит причиной того, что только про тех говорят, что они умеют жить, кто никогда жить не умеет (для самого себя).
Если существует наука, действительно нужная человеку, то это та, которой я учу — а именно подобающим образом занять указанное человеку место в мире— и из которой можно научиться тому, каким надо быть, чтобы быть человеком. Предположим, что человек нашел бы вокруг себя вводящие его в заблуждение соблазны, которые незаметно отвлекли бы его от его прямого назначения; тогда это поучение наше снова возвратило бы его к истинному состоянию человека и, каким бы незначительным и неполноценным он себя ни чувствовал, он все же для указанного ему поста окажется достаточно хорошим, ибо он есть как раз то, чем он должен быть.
Рассудительным людям легко избежать ошибки, заключающейся в высказывании: это у нас имеет всеобщее значение, а следовательно, оно и вообще таково. Следующие суждения, однако, кажутся лишь правдоподобными. Природа дала нам возможность наслаждаться; как же нам ею воспользоваться? Мы обладаем способностью к наукам, поэтому стремиться к ним есть зов природы. Мы чувствуем в себе голос природы, который говорит нам: это благородно и справедливо, поэтому поступать так — наш долг.
Все проходит мимо нас в каком-то потоке, а изменчивый вкус и различные состояния людей делают игру [жизни] ненадежной и обманчивой. Где мне найти в природе опорные пункты, которые человек никогда не может сдвинуть и в которых я могу указать вехи, чтобы он знал, какого берега ему держаться?
Отсюда видно, что всякая величина может быть только относительной и что вообще не может быть никакой абсолютной величины. Я не настолько тщеславен, чтобы желать быть серафимом; моя гордость толь-
206
ко в том, чтобы быть человеком в возможно большей степени. Ничем не занятый гражданин не в состоянии составить себе представление о том, чего, собственно, может не хватать придворному, который, будучи отправлен в свое имение, может жить там как ему заблагорассудится и все же сильно сокрушается.
Жизнь людей, предающихся только наслаждению, без рассудка и без нравственности не имеет, по нашему мнению, никакой ценности.
Признаком грубого вкуса в настоящее время служит стремление носить как можно больше украшений; самому тонкому вкусу теперь свойственна простота. В цивилизованном состоянии люди становятся умными очень поздно, так что можно было бы вместе с Теофрастом6 сказать: жаль, что перестаешь жить как раз тогда, когда только начинается расцвет жизни.
У людей и у животных некоторая средняя величина имеет наибольшую силу.
Моральный вкус в отношении полового влечения заключается в том, что каждый хочет казаться здесь или очень тонким, или чистым. — Истина не есть главное совершенство общественной жизни: прекрасная видимость ведет здесь, как в живописи, гораздо дальше. О вкусе в браке.
Достоверность в нравственных суждениях при помощи сравнения с нравственным чувством столь же велика, как и достоверность при сравнении с логическим ощущением. Обман е отношении нравственного суждения происходит так же, как и в отношении логического суждения, но этот последний обман является еще более частым.
В отношении метафизических основных начал эстетики следует обращать внимание на различие неморального чувства; в отношении основных начал мета физики нравственного — на различие морального чувства людей в зависимости от пола, возраста, воспитания и правления, а также рас и климатов.
Моральный вкус склонен к подражанию; моральные принципы выше этого. Там, где есть придворная жизнь и большие сословные различия между людьми, все сообразуется с их вкусом; в республиках дело обстоит
207
иначе, поэтому вкус общества там тоньше, здесь же грубее. Можно быть весьма добродетельным и иметь очень мало вкуса. Там, где общественная жизнь должна развиваться, должен развиться и вкус, равным образом и приятность жизни должна быть легкой, моральные же принципы — строгими. У женщин этот вкус является наиболее легким. Моральный вкус легко сочетается с видимостью принципов. Швейцарцы, голландцы, англичане, французы, имперские города.
Вкус к одной только добродетели несколько груб; если же он свободен, то должен испробовать ее смешанной с безрассудством.
Имеются основания не слишком изощрять свое чувство, во-первых, чтобы не делать его слишком доступным для страдания, во-вторых, чтобы наши заботы были более искренними и полезными. Умеренность и простота не требуют большой тонкости чувств и делают человека счастливым. Прекрасное любят, благородное уважают; безобразное вызывает отвращение, неблагородное — презрение. Мелкие люди высокомерны и вспыльчивы, великиё сдержанны.
Естественный человек умерен не из соображений о здоровье в будущем (ибо он ничего не предусматривает), а благодаря хорошему самочувствию в настоящем. Причина, почему излишества в сладострастии так сильно ощущаются, состоит в том, что они касаются основ сохранения и размножения вида; а так как это единственное, на что женщины пригодны, то это и составляет их главное совершенство; поэтому-то и их собственное благополучие зависит от мужчины. Возможность приносить пользу способностью к деторождению у женщины ограничена, а у мужчины ничем не стеснена. — Роскошь служит причиной того, что между одной женщиной и другой делают большое различие. Вожделение насыщается не с помощью любовных отношений, а с помощью брака. — Половое влечение есть или потребность влюбленного, или его похоть. В состоянии естественной простоты господствует первая и, следовательно, нет еще никакого тонкого вкуса. В цивилизованном состоянии похотливость влюбленного стано-
208
вится или сладострастием, или удовлетворением идеализированного вкуса. Первое приводит к сладострастной неумеренности. Во всех этих случаях надо обращать внимание на два момента. Женский пол или соединен с мужским в свободном общении, или лишен такового. Там, где имеет место последнее, нет морального вкуса, а есть в лучшем случае естественная простота (отдача женщин взаймы у спартанцев) или сладострастная мечта — своего рода алчность влюбленного — многим наслаждаться и многим владеть, ничем не наслаждаясь как следует (царь Соломон). В состоянии естественной простоты господствует обоюдная потребность; здесь же на одной стороне потребность, на другой — [ее] отсутствие. Там была верность без искушения, здесь — страж целомудрия, которое само по себе невозможно. В свободном общении обоих полов, каковое представляет собой новое изобретение, растет не только похотливость, но и моральный вкус.
Признак общительности — никогда не предпочитать себя другому. Всегда предпочитать другого себе есть слабость. Идея равенства регулирует все. — В обществе и на пиршествах простота и равенство облегчают общение и делают его приятным.
Властвуй над своими иллюзиями (Wahn), и будешь мужчиной; чтобы твоя жена ставила тебя выше всех людей, не будь сам рабом мнений других. Чтобы твоя жена могла уважать тебя, она не должна видеть в тебе раболепства перед мнениями других. Будь рачителен; пусть в твоем общении с людьми преобладают не затраты, а вкус и уют, не гонись за излишне большим числом гостей и блюд.
Благо иллюзий состоит в том, что домогаются исключительно мнений, на самые же вещи смотрят или равнодушно, или даже враждебно. Первая иллюзия — это честь, вторая — скупость. Скупости нравится только мнение, что много благ жизни можно было бы иметь за деньги, без всякого, однако, серьезного желания их когда-либо иметь.
Тот, кого не убеждает очевидно достоверное, глуп; тот, кого ни к чему не побуждает очевидность его обязанностей, нечестивец.
209
Что честолюбие возникло из стремления к равенству, можно видеть из следующего: стал бы дикарь искать другого дикаря, чтобы показать ему свое превосходство над ним? Если он может обойтись без него, то он будет наслаждаться своей свободой. Только если ему приходится снова с ним встречаться, он будет стремиться его превзойти; следовательно, честолюбие есть нечто опосредствованное. Оно так же опосредствованно, как и сребролюбие скупца: и то и другое возникает одинаковым образом.
Аркадская пастушеская жизнь и излюбленная у нас придворная жизнь — обе одинаково пошлы и неестественны, хотя и привлекательны. Ведь истинное удовольствие никогда не может иметь место там, где его превращают в занятие. Отдых от занятий, не частый, а короткий и не связанный с какими-либо приготовлениями, — вот что единственно прочно и соответствует истинному вкусу. Женщина, которая ничего не желает, кроме времяпрепровождения, сама становится себе в тягость и теряет интерес к мужчинам, не умеющим удовлетворить эту склонность.
Супружеская любовь потому и ставится так высоко, что свидетельствует об отказе от множества других преимуществ.
Возникает вопрос, должен ли я, для того чтобы привести в движение свои аффекты или аффекты других людей, искать точку опоры вне этого мира или в его пределах. На это я отвечаю: я нахожу ее в естественном состоянии, т. е. в свободе. — Все удовольствия жизни очень привлекательны, поскольку мы за ними гонимся. Обладание делает нас холодными, дух, чарующий нас, тогда испаряется. Так, любящий наживу купец испытывает тысячу наслаждений, пока добывает деньги. а когда после этого он думает, как их использовать, его мучают тысячи забот. Молодой влюбленный чрезвычайно счастлив своими надеждами, но день, когда его счастье достигает высшей точки, становится началом заката этого счастья.
Спокойная уверенность в себе в сочетании с уважением [к другим] и благонравием вызывает доверие и расположение; напротив, дерзость, не склонная, по-ви-
210
димому, уважать других, вызывает ненависть и недоброжелательство. В диспутах спокойное состояние духа в сочетании с благожелательством и снисходительностью к спорящим есть признак силы, благодаря чему рассудок уверен в своей победе; точно так же как Рим продавал то самое пахотное поле, на котором стоял Ганнибал. Мало людей, способных спокойно на глазах толпы переносить ее насмешки и презрение, хотя бы и знали, что эта толпа состоит из невежд и глупцов. Толпа всегда внушает почтение, более того, слушателей охватывает холодная дрожь по поводу промахов того, кто выставлен напоказ толпе, хотя каждый в отдельности, если бы он был наедине с оратором, вряд ли нашел бы средство унизить его. Но в отсутствие толпы солидный человек легко может отнестись с полным равнодушием к ее суждению.
Мужчину может сделать весьма привлекательным для прекрасного пола сильная страсть, женщину же делает привлекательной спокойная нежность. Нехорошо, если женщина навязывается мужчине или опережает его объяснение в любви. Ведь тот, кто один только имеет власть, необходимо должен быть зависим от той, которая ничем, кроме своих прелестей, не обладает, а она должна сознавать цену своих прелестей; иначе между ними не было бы равенства, а было бы только рабство.
Смех разбирает нас сильнее всего тогда, когда нужно сохранять серьезность[20]. Смеются всего сильнее над тем, кто имеет серьезный вид. Сильный смех утомляет и подобно печали разрешается слезами. Смех, вызываемый щекотанием, в то же время весьма мучителен. На того, над кем я смеюсь, я уже не могу сердиться даже в том случае, если он причиняет мне вред. Воспоминание о чем-то смешном очень радует нас и не так легко сглаживается, как другие приятные рассказы. Причина смеха заключается, по-видимому, в сотрясении внезапно ущемленных нервов, распространяющемся по всей нервной системе. Когда я слышу нечто имеющее видимость умного и целесообразного отношения [к чему-нибудь], но само себя полностью упраздняющее или опускающееся до мелочности, то нерв, согнутый в
211
какую-нибудь одну сторону, стремится при этом как бы прийти в прежнее положение и начинает вибрировать; например, побиться об заклад я бы, пожалуй, и не захотел, но клятвенно заверять я готов всегда.
Естественного человека, не исповедующего никакой религии, следует, безусловно, предпочитать человеку цивилизованному, исповедующему только естественную религию, так как нравственность последнего должна была бы достигнуть высокой степени, если бы ей следовало создать противовес его испорченности. Однако цивилизованный человек без всякой религии гораздо более опасен.
В естественном состоянии у человека никак не может возникнуть правильное понятие о боге, ложное же понятие, которое люди себе создают, вредно. Следовательно, теория естественной религии только там может быть истинной, где есть наука; стало быть, она не может объединять всех людей. Сверхъестественная теология тем не менее может быть связана с естественной религией. Те, кто принимает христианскую теологию, имеют лишь естественную религию, поскольку моральность носит естественный характер. Учение христианской религии и силы для его осуществления сверхъестественны. Как мало приходится обыкновенным христианам останавливаться на естественных причинах.
Познание бога или умозрительно и, как таковое, недостоверно и подвержено опасным заблуждениям, или морально — через веру, и это познание не мыслит в боге никаких других свойств, кроме тех, которые преследуют моральную цель. Эта вера и естественна, и сверхъестественна. — Провидение за то особенно достойно восхваления, что оно прекрасно согласуется с теперешним состоянием людей, а именно с тем, что нелепые желания их не соответствуют предначертанию, что люди за свои безумства страдают и что с человеком, переступившим за грань порядка природы, ничто уже не может гармонировать. Посмотрите на потребности животных; растений; с этими потребностями провидение находится в согласии, Было бы крайне нелепо, если бы божественное управление должно было изменять порядок вещей в соответствии с изменением чело-
212
веческих иллюзий. Точно так же совершенно естественно, что, поскольку человек отклоняется от [порядка природы], ему в соответствии с его выродившимися склонностями все должно казаться извращенным.
Из этого заблуждения возникает особый вид теологии в качестве химеры излишества (ибо последнее всегда изнеженно и суеверно) и какая-то хитрая рассудительность, для того чтобы посредством подчинения вовлекать в свои дела и планы высшее существо.
Ньютон впервые увидел порядок и правильность связанными с великой простотой там, где до него находили беспорядок и плохо сочетаемое многообразие, и с тех пор кометы обращаются по геометрически правильным орбитам.
Руссо впервые открыл в многообразии обычных человеческих образов глубоко скрытую природу человека и тот скрытый закон, согласно которому, по его наблюдениям, провидение находит свое обоснование. До того сохраняли еще свою силу возражения Алфонзуса и Манеса7. После Ньютона и Руссо можно считать бытие бога доказанным, и с этого времени положение Попа истинно8.
Дикарь держится ниже уровня человеческой природы, человек, преданный излишествам, выходит за ее пределы, человек с показной моралью поднимается над природой. Мужская сила выражается не в том, чтобы заставлять себя выносить несправедливости других, когда есть возможность их устранить, а в том, чтобы переносить тяжелый гнет необходимости, а также претерпевать все уроки жизни (Lerntibungen) как жертву ради свободы или ради того, что мне вообще дорого. Терпеть наглость — добродетель монахов.
Чванство глупо, потому что тот, кто ставит других настолько высоко, что думает, будто их мнение о нем может придать ему большой вес, в то же время настолько их презирает, что по сравнению с собой считает их ничтожествами.
С характером прекрасного хорошо согласуется искусство казаться. В самом деле, так как для прекрасного имеет значение це полезность, а мнение о нем и
213
так как сама вещь, как бы прекрасна она ни была, вызывает отвращение, как только перестает казаться новой, то не может быть не прекрасным искусство придавать приятную видимость вещам, в отношении которых простота природы всегда одинакова. Женский пол в значительной мере обладает этим искусством, что и составляет все наше счастье. Благодаря этому обманутый супруг счастлив, влюбленный или собеседник видит ангельские добродетели [там, где их нет], мечтает о большем и воображает, будто торжествует над сильным врагом.
Искренность украшает себя благородством, она нравится даже тогда, когда она неуклюжа, но мягкосердечна, как у женщины. — Холерика в его присутствии уважают, за глаза же порицают, и у него совсем нет друзей. Меланхолик справедлив и негодует против несправедливости, друзей у него немного, но это хорошие друзья; у сангвиника их, напротив, много, и они легкомысленны.
Если признать, что мужчина и женщина составляют одно моральное целое, им не следует приписывать одинаковые свойства, а женщине нужно приписывать такие свойства, которых нет у мужчины. Женщины обладают ощущением прекрасного не в такой мере, как мужчины, но у них больше тщеславия.
Все неумеренные увеселения имеют лихорадочный характер, и за радостной восторженностью следует смертельная усталость и тупое чувство. Сердце изнашивается, и чувство становится грубым.
Основание для potestas legislatoris div[ini] [силы божественного законодателя] не в его благости: ведь тогда мотивом была бы благодарность, следовательно, не строгий долг. Скорее это основание предполагает неравенство и служит причиной того, что один человек по отношению к другому теряет какую-то степень свободы. Это может случиться лишь тогда, когда он жертвует своей волей ради воли другого. Если он поступает так всегда, то он превращает себя в раба. Человек обладает spontaneitas [самопроизвольностью]. Если он подчинен воле другого человека (хотя он сам в состоянии выбирать), то он достоин презрения; но
214
если он подчинен воле бога, то он находится в согласии с природой (ist er bei der Natur). Не следует действовать по отношению к человеку из повиновения, когда то же самое можно сделать из внутреннего побуждения.
Тело принадлежит мне; ведь оно составляет часть моего Я
и приводится в движение моей волей. Весь органический или неорганический мир,
не имеющий своей воли, принадлежит мне, поскольку я его могу подчинить себе и
заставить двигаться по своему желанию. Но Солнце мне не принадлежит. То же
можно сказать и в отношении всякого другого человека, следовательно, никакая
собственность не есть proprietas, или исключительная собственность. Но
поскольку я хочу нечто подчинить исключительно
себе, постольку я по крайней мере не буду противополагать чужую волю моей или
ее интересы моим. Я буду, следовательно, совершать действия, выражающие нечто
мне принадлежащее, например буду рубить дерево, что-то строить из него и т. д.
Другой человек говорит мне, что это принадлежит ему, так как благодаря действиям
его воли оно будто бы принадлежит его существу.
Во всем, что относится к
ощущению прекрасного или возвышенного, мы поступаем всего лучше, если
руководствуемся образцами древних: в скульптуре, архитектуре, поэзии и
красноречии, в древних нравах и древнем государственном устройстве. Древние
были ближе к природе; нас от природы отделяет много мелочного, всякого рода
излишества и рабская испорченность. Наше столетие есть век прекрасных мелочей,
безделушек или возвышенных химер.
Сангвиник устремляется туда,
куда его не просят; холерик не идет туда, куда его приглашают без соблюдения
правил приличия; меланхолик заботится о том, чтобы его вообще не приглашали. В
обществе меланхолик тих и наблюдателен; сангвиник говорит все, что ему
вздумается; холерик делает замечания и дает разъяснения. В домашней жизни меланхолик
скуп, сангвиник — плохой хозяин, холерик корыстолюбив, но склонен к роскоши.
Щедрость меланхолика — великодушие, щедрость холерика — хвастовство, щедрость
215
сангвиника
— легкомыслие. Меланхолик ревнив, холерик властолюбив, сангвиник распутен.
Единение (Einigkeit) возможно там, где один может представлять
собой целое без другого, например в отношениях между двумя друзьями, когда ни
один не подчинен другому. Единение может быть также в сфере обмена или в быту.
Но при единстве (Einheit) дело идет о
том, чтобы только два лица естественным образом составляли вместе одно целое
как в отношении насущных потребностей, так и в отношении удовольствий. Это
имеет место в отношениях между мужчиной и женщиной; однако единство связано
здесь с равенством. Мужчина не может испытывать удовольствия от жизни без
женщины, а женщина не может удовлетворять свои потребности помимо мужчины. Это
определяет также и различие характеров. Мужчина по своей склонности будет
удовлетворять свои потребности только по собственному усмотрению, а свои
удовольствия — также и по усмотрению женщины, а ее он сделает своей
потребностью. Женщина будет искать удовольствия по собственному вкусу,
удовлетворение потребностей же она предоставит мужчине.
Есть различие между тем, кто
мало в чем-нибудь нуждается потому, что ему мало чего недостает, и тем, кто мало
в чем-нибудь нуждается потому, что может обойтись без многого. Сократ. Испытывать
удовольствие от того, что не составляет потребности, т. е. от того, без чего
можно обойтись, приятно; если же приятное рассматривается как потребность, то
это уже алчность. Состояние человека, способного довольствоваться малым, есть
умеренность; напротив, состояние того человека, который даже и то, без чего
можно легко обойтись, считает потребностью, есть излишество. Человек может быть
доволен или потому, что он испытывает много приятного, или потому, что не дает
развиться в себе множеству склонностей и таким образом ограничивается
удовлетворением немногих потребностей. Состояние того человека, который потому
доволен, что ему незнакомы некоторые удовольствия, есть состояние простоты и
простодушия; состояние же того, кто их знает, но добровольно без них обходится,
боясь про-
216
истекающего
из них беспокойства, есть состояние мудрой умеренности. Первое состояние не
требует никакого самопринуждения и лишения, второе же требует их; первое легко
испытывать, второе достигается в борьбе с соблазнами, и его труднее сохранить.
[Этим объясняется и] состояние человека, не испытывающего неудовольствия, так
как более значительные возможности удовольствия ему незнакомы, и он их поэтому
не желает.
Причина всех моральных кар
заключается в следующем. Все дурные поступки, если бы они воспринимались
моральным чувством с той степенью отвращения, которой они заслуживают, не
совершались бы вовсе. Если же они совершаются, то это доказывает, что
физическая привлекательность сделала их приятными и поступок казался хорошим.
Бессмысленно, однако, и отвратительно, когда нравственно дурное в целом бывает
благом и когда вообще физически дурное в результате возмещает отсутствие
отвращения [ко злу], которого не было в поступке.
Если бы нашелся человек,
который испытывал бы ко мне ненависть, то меня это беспокоило бы не потому, что
я его боялся бы, а потому, что для меня было бы неприятно иметь в себе нечто
такое, что могло бы послужить основанием для ненависти. В самом деле, я был бы
склонен предположить, что другой человек не без причины испытывал [ко мне]
отвращение. Я поэтому стал бы искать встречи с ним, позаботился бы о том, чтобы
он лучше узнал меня, и если я заметил бы, что у него возникла ко мне некоторая
благосклонность, то этим я удовлетворился бы, не стремясь извлечь из этого
какую-либо выгоду. Если же я видел бы, что пошлые и грубые предрассудки,
как-то: зависть или ревнивое тщеславие, заслуживающее еще большего презрения, —
делают совершенно невозможным [для меня] избегнуть всякой ненависти [ко мне],
то я бы сказал себе, что лучше быть предметом ненависти, чем презрения. Это
изречение исходит из совершенно иных побуждений, чем другое, диктуемое
эгоизмом: пусть лучше мне завидуют, чем жалеют меня. Ненависть ко мне моих
сограждан не уничтожает в них понятия о равенстве, но
217
презрение
делает меня в глазах других ничтожным и всегда имеет своим следствием очень
досадное отношение неравенства. Но в таком случае гораздо более опасно быть
презираемым, чем ненавидимым.
Человеку присущи свои
склонности, и благодаря своей свободе он обладает природной волей, дабы
следовать ей в своих поступках и направлять ее. Нет ничего ужаснее, когда
действия одного человека должны подчиняться воле другого. Поэтому никакое отвращение
не может быть более естественным, чем отвращение человека к рабству. Поэтому-то
и ребенок плачет и раздражается, когда ему приходится делать то, чего хотят
другие, если они не постарались сделать это для него приятным. Он хочет
поскорее сделаться мужчиной, чтобы распоряжаться по своей воле.
О свободе
Человек зависит от многих
внешних вещей, в каком бы состоянии он ни находился. В своих насущных
потребностях он всегда зависит от одних, а в своей жадности — от других вещей,
и, будучи управителем природы, а не ее господином, он должен сообразовываться с
ее принуждением, ибо для него ясно, что не всегда можно сообразовать вещи со
своими желаниями. Но гораздо более жестоким и неестественным, чем это бремя необходимости,
является подчинение одного человека воле другого. Для того, кто привык к свободе,
нет большего несчастья, чем быть отданным во власть такого же существа, как он,
которое может принудить его отказаться от своей воли и делать то, что он хочет.
Нужна долгая привычка, чтобы сделать более терпимой страшную мысль о подчиненности
другому, ибо каждый должен на самом себе испытать, что хотя и есть много бед,
которые не всегда бываешь готов отстранить, если это связано с опасностью для
жизни, однако, когда речь идет о выборе между рабством и жизнью, каждый без
колебаний предпочтет опасность для жизни. Причина этого совершенно ясна и
законна. Всякое другое зло, совершаемое природой, все же подчинено определенным
законам, которые мы познаем, что-
218
бы
затем самим решать, насколько мы можем им уступать или подчиняться. Жар палящего
солнца, суровые ветры, движения вод все еще дают человеку возможность придумать
что-нибудь, что могло бы защитить его от них или по крайней мере обезвредить их
действие. Но воля каждого человека есть лишь продукт его собственных
стремлений, склонностей и согласуется только с его собственным истинным или
воображаемым благополучием. Однако, если я раньше был свободен, ничто не может
ввергнуть меня в горе и отчаяние сильнее, чем мысль о том, что впредь мое
положение будет зависеть не от моей воли, а от воли другого. Сегодня жестокий
мороз; я могу выйти или остаться дома — как мне заблагорассудится; но воля
другого человека определяет не то, что в данном случае мне наиболее приятно, а
то, что наиболее приятно ему. Я хочу спать, а он меня будит. Я хочу отдыхать
или играть, а он заставляет меня работать. Бушующий ветер заставляет меня забраться
в укрытие, но здесь или где-то в другом месте он оставляет меня в конце концов
в покое. Но мой господин отыскивает меня, и так как он, причина моего
несчастья, обладает разумом, то он мучает меня гораздо более искусно, чем все
стихии. И если даже предположить, что [сейчас] он благожелателен, то кто
поручится за то, что он не станет иным? Движения материи все же подчиняются
определенному правилу, но настроение человека не подчиняется никаким правилам.
В подчинении другому есть не
только нечто крайне опасное, но и нечто отвратительное и противоречивое,
указывающее в то же время на его неправомерность. Животное не вполне
совершенное существо, ибо оно еще не обладает сознанием, и, будет или не будет
другое существо противодействовать его стремлениям и склонностям, оно, конечно,
будет ощущать свою беду, но эта беда для него в каждый данный момент исчезает,
и само оно ничего не знает о своем существовании. Но нелепо и неправильно
думать, что человек не нуждается, так сказать, ни в какой душе и не имеет
никакой собственной воли и что другая душа должна управлять движением моих
членов. Точно так же и при нашем общественном устройстве мы презираем каждого,
кто
219
сильно
зависит от другого. Казалось бы, свобода должна возвышать меня над животным, а
на деле она ставит меня даже ниже его, ибо меня легче подчинить. Такой человек
сам по себе представляет собой, можно сказать, домашнюю утварь для другого.
Ведь я в такой же мере мог бы высоко чтить сапог моего господина, как и чистить
его. Человек, зависящий от другого, уже не человек; он это звание
утратил, он не что иное, как принадлежность другого человека.
Подчиненность и свобода
обычно бывают в известной мере перемешаны, и одна зависит от другой. Но даже
сравнительно малая степень зависимости есть слишком большое зло и, естественно,
должна нас устрашать. Подобное чувство очень естественно, но его можно и
значительно ослабить. Способность противодействовать другим бедам может стать
настолько незначительной, что рабство начинает казаться меньшим злом, чем жизненные
неудобства. И тем не менее не подлежит сомнению, что рабство есть наивысшее зло
в человеческой природе.
Человек относится с
сочувствием к горю и отчаянию другого не вообще, а поскольку причина их естественная,
а не воображаемая. Поэтому ремесленник не испытывает никакого сочувствия к
обанкротившемуся купцу, опустившемуся до положения простого маляра или слуги,
так как он не видит, чтобы тот лишился чего-либо другого, кроме возможности
удовлетворять воображаемые потребности. Купец нисколько не сочувствует впавшему
в немилость придворному, которому приходится жить в своем имении, утратив былой
блеск. Но если и купец, и придворный считаются благодетелями человека, то несчастья
[их] рассматриваются каждым уже не сообразно с собственным восприятием, а
сообразно с восприятием другого. Однако купец сочувствует другому вообще-то
честному купцу при его падении, хотя бы он и не мог извлечь из этого выгоду, так
как у него те же воображаемые потребности, что и у того купца. Мы сочувствуем
горю кроткой женщины по поводу воображаемого несчастья, так как в подобных
случаях мы женщину не презираем, а мужчину за его
220
слабость
презираем. Каждый человек сочувствует беде, идущей вразрез с подлинной потребностью.
Отсюда следует, что добросердечие человека, порожденное изобилием, будет
проявляться в очень широком сочувствии, тогда как человек естественной простоты
будет проявлять его лишь очень ограниченно. Сочувствие к своим детям
безгранично. Когда сил не прибавляется, то, чем шире сочувствие, тем оно
умереннее; чем больше растут при этом воображаемые потребности, тем больше
препятствий для осуществления еще оставшейся возможности делать добро. Вот
почему благотворительность, вызванная изобилием, превращается в пустую иллюзию.
Нет более приятной мысли, чем
мысль о ничегонеделании, и нет более приятного занятия, чем занятие, имеющее в
виду удовольствие. а удовольствие и есть тот объект, который имеешь перед
глазами, когда хочешь наслаждаться покоем. Но все это только химера. Кто не
работает, тот изнывает от скуки и, хотя бывает одурманен и утомлен развлечениями,
никогда, однако, не бывает бодрым и удовлетворенным.
У христианской религии два
способа совершенствования нравственности. Во-первых, начать с открытия
тайны, поскольку от божественного сверхъестественного воздействия ожидают
исцеления сердца. Во-вторых, начать с совершенствования нравственности
согласно порядку природы и уже после максимальных усилий, приложенных для
этого, ожидать сверхъестественной помощи в соответствии с истолкованием в
откровении божественных предначертаний. В самом деле, если начать с откровения,
то невозможно ожидать совершенствования нравственности от такого рода
наставления как от результата, определяемого порядком природы.
Хотя религия, конечно, может
принести пользу, непосредственно относящуюся к будущему блаженству, однако
самая естественная и основная ее польза — так направлять наши нравы, чтобы мы
были способны выполнить наше назначение в этом мире. Но если эта польза должна
быть получена здесь, то мораль следует культивировать больше, чем религию.
221
В настоящее время не следует
запрещать никакие книги, — это единственный способ привести их к
самоуничтожению. Мы пришли теперь к той точке, откуда начинается обратное
движение. Реки, если им дать свободно разливаться, сами войдут в берега. Плотина,
которой мы преграждаем их течение, служит лишь тому, чтобы сделать производимые
ими разрушения беспрестанными. В самом деле, авторы бесполезных сочинений имеют
в качестве оправдания несправедливость других.
Строгость наказания следует
оценивать практически, а именно оно должно быть достаточно большим, чтобы
воспрепятствовать совершению [преступных] действий, и тогда большее наказание недопустимо;
но морально не всегда возможно такое наказание, какое необходимо физически.
Однако размер наказания определяется с моральной точки зрения. О человеке,
убившем другого человека, чтобы забрать у него деньги, судят так: поскольку
жизнь другого он ценил ниже, чем его деньги, то и его жизнь следует ценить
ниже, чем жизнь всех других людей.
Для всех глупостей характерно
то, что образы, которые они вызывают, парят в воздухе, ни на что не опираясь и
не обладая никакой устойчивостью.
Ошибка, если учесть все в
совокупности, никогда не бывает полезнее истины; но незнание часто бывает
таким. — Распространенное мнение, что в прежние времена жилось лучше,
объясняется тем, что настоящее зло чувствуют непосредственно и что предполагают,
будто без него все было бы хорошо.
Правильное познание
мироздания, по Ньютону, есть; быть может, прекраснейший продукт чрезмерного
любопытства человеческого разума. Между тем Юм замечает, что философу в этом
забавном размышлении легко может помешать молоденькая девушка, берущая воду из
колодца, и что правители из-за малых размеров Земли сравнительно с Вселенной не
бывают склонны отнестись с презрением к своим завоеваниям. Причина этого в том,
что теряться за пределами того круга, который нам здесь определен небом, хотя и
прекрасно, но неестественно. Так же обстоит дело и
222
с
возвышенным суждением о небесном обиталище души.
Философия есть дело не первой необходимости, а приятного
времяпрепровождения. Удивительно поэтому, что ее хотят ограничить строгими
законами. — Математик и философ отличаются друг от друга тем, что первый
требует данных [для познания] от других, второй же сам исследует их; поэтому
первый может вести свои доказательства, исходя из любой религии откровения. —
Споры в философии имеют ту пользу, что они содействуют свободе рассудка и
вызывают недоверие к такой теории, которая должна бы быть построена из обломков
другой теории. В оспаривании можно найти столько счастья!
Способность признать нечто
присущим другому совершенством вовсе еще не имеет своим следствием того, что мы
сами испытываем от этого удовольствие. Но если у нас появляется чувство радости
по поводу этого, то мы и сами будем желать этого и тратить на это наши силы.
Вот почему возникает вопрос, непосредственно ли мы чувствуем удовольствие, видя
благополучие других, или непосредственная радость заключается, собственно, в
возможности применения наших сил для содействия этому благополучию. Возможно и
то и другое, но что имеет место в действительности? Опыт учит нас, что в состоянии
естественной простоты человек безразлично относится к счастью других; но если
он ему сам содействовал, то оно нравится ему уже неизмеримо больше. Чужие
несчастья обычно также оставляют нас равнодушными, но если я сам виновник их,
то они угнетают гораздо сильнее, чем если бы это сделал кто-либо другой. а что
касается инстинктов сострадания и благорасположения, то мы имеем основание
думать, что только сильное стремление облегчать беды для других, проистекающее
из самооценки души, вызывает эти чувства.
Мне кажется, что различие
между Эпикуром и Зеноном состоит в том, что первый стремился показать победу
добродетельной души в состоянии покоя, после преодоления ею всех моральных
препятствий, второй же — в борьбе и через упражнения. У Антисфена
223
такой
высокой идеи не было; он хотел, чтобы презирали суетный блеск и ложное счастье
и предпочитали быть простыми, а не великими людьми.
Рабство есть или рабство
насилия, или рабство ослепления. Последнее основывается на зависимости или от
вещей (стремление к роскоши), или от пустой мечты (Wahn) других людей (тщеславие). Это последнее более
нелепо и жестоко, чем первое, потому что вещи гораздо больше находятся в моей
власти, чем мнения других людей, и этот род рабства достоин большего презрения.
У нас есть чувства, полезные
нам самим, и чувства, полезные всем. Первые появляются раньше вторых,
возникающих прежде всего при влечении к другому полу. Человек имеет
потребности. Но он в то же время и властвует над ними. Человек, находящийся в
естественном состоянии, более способен к общеполезным и деятельным чувствам; у
того же, кто живет в роскоши, потребности скорее воображаемые; он себялюбив.
Люди более чутки к бедам других, в особенности к страданиям от несправедливости,
чем к их удачам. Сочувствие истинно там, где оно соответствует общеполезным
целям, в противном случае оно химерично. Оно является общим в неопределенном
смысле, поскольку обращено на одного из тех, кому я могу помочь, или в
определенном смысле — как помощь всякому страждущему. Такое чувство химерично.
Добросердечие возникает, когда развито моральное, а не деятельное чувство, и
представляет собой моральную мечту. Мораль, стремящаяся бескорыстно помочь
всем, химерична, так же как и мораль, чуткая к воображаемым потребностям.
Мораль, утверждающая только себялюбие, груба.
Officia beneplaciti
[обязанности благожелательности] никогда не приводят к тому, чтобы люди отказались
от собственных потребностей; но этого могут достигнуть officia debiti [обязанности долга], так как они —
моральные потребности.
1764
![]()
Простота и неприхотливость
природы требуют от человека и приводят к образованию у него только обыденных
понятий и несколько грубоватой честности. Искусственное стеснение и чрезмерная
роскошь гражданского устройства порождают остряков и умников, а порой также
глупцов и обманщиков и создают видимость мудрости и благонравия, при которой
можно обойтись и без рассудка, и без честности, было бы только достаточно
плотным красивое покрывало, которое благопристойность расстилает над тайными
недугами ума или сердца. По мере того как развивается искусство, всеобщим
паролем становятся, наконец, разум и добродетель, однако так, что рвение, с
которым говорят о том и другом, может хорошо воспитанных и учтивых людей
освободить от бремени обладания ими. Несмотря на всеобщее уважение, которым
пользуются оба эти прославляемые качества, между ними имеется заметное
различие: каждый гораздо больше желает обладать достоинствами ума, чем хорошими
качествами воли, и при сравнении глупости с плутовством никто ни одного
мгновения не будет колебаться и выскажется в пользу второго. Этот выбор,
несомненно, хорошо придуман, ведь если вообще все дело в искусстве, то нельзя
обойтись без тонкой хитрости, но отлично можно обойтись без честности, которая
при таких обстоятельствах только помеха. Я живу среди мудрых и благовоспитанных
граждан,
227
т. е.
среди тех, кто умеет казаться таковыми, и я льщу себя надеждой, что ко мне
будут настолько справедливы, чтобы признать и за мной столько подобного рода
тонкости, что если бы я даже располагал надежнейшими и самыми радикальными
лекарствами от болезней головы и сердца, то я все же еще призадумался бы,
следует ли делать предметом общественного интереса этот старомодный хлам. Ведь
мне хорошо известно, что излюбленное модное лечение рассудка и сердца уже
добилось успеха и что в особенности врачеватели рассудка, называющие себя
логиками, очень хорошо удовлетворяют всеобщей потребности, с тех пор как они
сделали важное открытие, что человеческая голова есть, собственно говоря,
барабан, который потому только и звучит, что он пуст. Поэтому для себя я не
вижу ничего лучшего, как подражать методу врачевателей, полагающих, будто они
очень помогли своему пациенту, если дали название его болезни, и предлагаю
здесь небольшой поименный список недугов головы, начиная с ее бессилия при слабоумии
и до ее конвульсий при сумасшествии. Но чтобы познать эти скверные
болезни в их эволюции, я нахожу нужным предварительно разъяснить их более
слабые степени, начиная от бестолковости до глупости, ибо в обиходной
жизни эти качества более распространены и все же ведут к выше названным
[недугам].
Тупой голове не хватает остроты, глупой — ума. Способность
быстро что-то схватывать и припоминать, а также легко и как следует выражать
это в очень значительной мере зависит от остроты ума; поэтому и неглупый человек
может быть весьма тупым, если он усваивает что-то с трудом, хотя потом, обладая
большей зрелостью суждения, он понимает это. Если кому-то трудно выразить свои
мысли, то это говорит не о его умственных способностях, а лишь о том, что
острота ума недостаточно помогает облекать мысль в различные выражения, которые
всего точнее ей соответствуют. Знаменитый иезуит Клавий1
был исключен из школы как неспособный (ведь по составленным Орбилями2 правилам испытания умственных способностей мальчик
считается ни к чему не годным, если он не может сочи-
228
нять
стихи или школьные сочинения по определенному образцу). Впоследствии он случайно
стал заниматься математикой; тогда дело приняло другой оборот, и его прежние
учителя оказались по сравнению с ним глупцами. Практическое суждение о вещах, в
котором нуждаются земледелец, художник или мореплаватель, весьма отлично от
суждения об уловках, к коим люди прибегают в общении друг с другом. Этот
последний вид суждения есть не столько ум, сколько хитрость, а вызывающее
симпатию отсутствие этой столь прославляемой способности называется простотой.
Если причина этой простоты кроется в слабой способности суждения вообще, то
такого человека называют простаком, простофилей и т. п. Так как
интриги и козни в гражданском обществе постепенно становятся обычными правилами
поведения и чрезвычайно запутывают человеческие поступки, то не удивительно,
если человек, вообще-то умный и честный, или слишком презирает все эти
хитрости, чтобы заниматься ими, или не может допустить, чтобы его честное и
доброе сердце имело о человеческой природе столь ненавистное представление.
Такой человек должен везде попадать впросак среди обманщиков и давать им повод
смеяться над ним, так что в конце концов выражение хороший человек будет
означать уже не иносказательно, а в буквальном смысле простофилю, и иногда и...
ведь на языке мошенников умный только тот, кто всех других считает не лучше
себя, т. е. обманщиками.
Склонности человеческой
природы — если они достигают высокой степени, то называются страстями — представляют
собой движущие силы воли; ум же присоединяется лишь для того, чтобы исходя из поставленной
цели, [с одной стороны], оценить, каков будет в целом результат от
удовлетворения всех склонностей, [а с другой] — отыскать все средства для
осуществления этой цели. Если же какая-нибудь страсть особенно сильна, то
умственные способности оказывают ей лишь малое противодействие. Ведь человек, увлеченный
страстью, хотя и очень хорошо понимает все доводы против его склонности, не
чувствует себя в состоянии придать им действенную силу. Если эта склонность
229
сама
по себе хороша, если этот человек вообще-то разумен и лишь преобладающая наклонность
мешает ему предвидеть дурные последствия* то такое состояние скованного разума
есть безрассудство (Torheit). Безрассудный
человек может выказывать много ума даже в суждении о своих безрассудных
поступках; более того, он вообще должен обладать довольно большим умом и добрым
сердцем, чтобы иметь право на это более мягкое название присущих ему
крайностей. Безрассудный человек может во всяком случае быть превосходным
советчиком для других, хотя его совет никак не влияет на него самого. Его может
образумить или понесенный им урон, или возраст, но часто это лишь вытесняет одно
безрассудство, чтобы уступить место другому. Любовная страсть или огромное честолюбие
издавна превращали многих разумных людей в безрассудных. Молодая девушка
заставляет грозного Алкида тянуть нитку на прялке, а праздные граждане Афин
своей нелепой похвалой посылают
Когда преобладающая страсть
уже сама по себе достойна ненависти и вместе с тем достаточно пошла, чтобы
считать удовлетворением ее то, что прямо противоположно ее естественной цели,
то такое состояние
230
извращенного
ума есть глупость. Безрассудный человек прекрасно понимает истинную цель
своей страсти, хотя и остается во власт^и этой страсти, способной сковать его
ум. Глупца же страсть делает столь бестолковым, что он лишь тогда думает, что
обладает предметом своего желания, когда на самом деле лишается его. Пирр очень
хорошо знал, что храбрость и сила вызывают всеобщее удивление; он совершенно
правильно добивался осуществления своих честолюбивых замыслов и был как раз
тем, кем его считал Кинеад, а именно безрассудным человеком. Но когда Нерон
становится всеобщим посмешищем, читая с подмостков жалкие стихи, чтобы получить
назначенную поэтам награду, и под конец своей жизни восклицает: «Quantus аrtifex morior!» [«Какой великий артист погибает!»], то
в этом вселявшем страх и осмеянном властителе Рима я вижу только глупца. Я
полагаю, что всякая глупость коренится, собственно говоря, в двух страстях —
высокомерии и жадности. Обе эти склонности не считаются со справедливостью и
потому ненавистны, обе по самой своей природе нелепы, и преследуемая ими цель
сама себя разрушает. Высокомерный человек открыто притязает на превосходство
над другими, высказывая свое пренебрежение к ним. Он думает, что его уважают, а
между тем его высмеивают; ведь совершенно ясно, что. презрение к другим людям
возбуждает в них их собственное тщеславие против человека с такими
притязаниями. Жадный считает, что ему очень много нужно и что он никоим образом
не должен лишиться хоть одного из своих благ; в действительности же он лишается
всех их, ибо из-за скупости он налагает на них запрет. Ослепление высокомерием
создает отчасти вздорных, отчасти напыщенных глупцов, смотря по
тому, возобладает ли в пустой голове пошлое легкомыслие или же чопорная бестолковость.
Скряжничество издавна служит сюжетом смешных историй, но они вряд ли забавнее,
чем оно бывает в действительности. Безрассудный человёк не мудр, глупец не умен.
Насмешка, которой подвергается безрассудный человек, забавна и снисходительна;
глупец же заслуживает самого жестокого бича сатиры, хотя он и не чувствует его.
Всегда есть надежда, что безрас-
231
судный
человек когда-нибудь образумится, но намереваться из глупца сделать умного —
это все равно что хотеть черпать воду решетом. Причина этого в том, что у
первого преобладает подлинная и естественная склонность, лишь сковывающая его
разум, тогда как над вторым властвует вздорное воображение, опрокидывающее принципы
разума. Я предоставляю другим решить вопрос, действительно ли есть основание беспокоиться
по поводу странного предсказания Гольберга4, а
именно что ежедневный прирост числа глупцов может вызвать тревогу и заставить
опасаться, как бы им не пришло в голову основать пятую монархию5. Но если допустить даже, что они действительно имеют
такое намерение, то им все же не следовало бы слишком усердствовать, так как
любой из них мог бы по праву шепнуть другому на ухо то же, что известный придворный
шут соседнего государя, проезжая верхом в своем шутовском наряде через польский
город, громко прокричал бежавшим за ним студентам: «Вы, господа, будьте
прилежнее, учитесь чему-нибудь; ведь если нас будет слишком много, то на всех
нас не хватит хлеба».
Я перехожу от недугов головы,
вызывающих презрение и служащих предметом насмешек, к тем, на которые обычно
смотрят с состраданием, — от тех, которые не подрывают свободного общения с
гражданами, к тем, о которых несет заботу правительственное попечение и в
отношении которых оно принимает известные меры. Эти болезни я делю на болезни
бессилия и болезни извращенности. Первым можно дать общее название слабоумия,
вторым — название умопомешательства. Слабоумный страдает значительным ослаблением
памяти, разума и обычно даже чувственных восприятий. Этот недуг в большинстве
случаев неизлечим: ведь если трудно в расстроенном мозгу устранить дикий беспорядок,
то почти невозможно вдохнуть новую жизнь в его омертвевшие органы. Проявления
этой болезни, не позволяющей несчастному когда-либо выйти из состояния детства,
слишком хорошо известны, чтобы необходимо было долго на них останавливаться.
232
Число основных видов
расстройства ума можно приравнять к числу душевных способностей, им порождаемых.
Я думаю, что все их можно разделить на три группы: во-первых, извращение
приобретенных опытом понятий при помешательстве (Verrückung), во-вторых, расстройство способности
суждения прежде всего в отношении опыта при сумасшествии (Wahnsinn) и, в-третьих, расстройство разума в
отношении более общих суждений при безумии (Wahnwitz). Все остальные явления больного мозга можно,
как мне кажется, рассматривать или как различные степени упомянутых случаев,
или как печальное сочетание этих недугов, или, наконец, как тесное переплетение
их с сильными страстями и, таким образом, следует причислять их к только что
упомянутым классам.
Что касается первого недуга,
т. е. помешательства, то явления его я объясняю следующим образом. Душа каждого
человека, даже в самом здоровом состоянии, занята тем, чтобы рисовать себе
всевозможные образы отсутствующих вещей, или же тем, чтобы в представлении о
вещах, имеющихся налицо, неполное сходство их доводить до полного совпадения
посредством той или иной химерической черты, которую вносит в ощущение
способность к вымыслу. Нет никакого основания думать, что в состоянии
бодрствования наш дух следует при этом иным законам, чем во сне; скорее
необходимо предположить, что в первом случае только яркие чувственные
впечатления затмевают и делают неразличимыми более слабые химерические образы,
тогда как во сне, когда доступ всех внешних впечатлений к душе закрыт, эти
образы приобретают всю свою силу. Поэтому нет ничего удивительного, что сны,
покуда они длятся, принимаются за подлинные восприятия действительных вещей. В
самом деле, будучи теперь в душе наиболее сильными представлениями, они в этом
состоянии и есть как раз то, что ощущения в состоянии бодрствования. Допустим,
что некоторые химеры — все равно по какой причине — так повредили тот или иной
орган мозга, что производимое на него впечатление сделалось столь же глубоким и
в то же время столь же правильным, каким его может сделать только чувствен-
233
ное
восприятие; тогда эта игра. воображения даже в состоянии бодрствования при
ясном и здравом уме все же будет приниматься занечто испытанное в действительности.
В самом деле, было бы напрасно противопоставлять ощущению или равному с ним по
силе представлению разумные основания, так как чувства гораздо больше убеждают
в наличии действительных вещей, чем умозаключения. По крайней мере того, кого
эта химера ослепляет, никогда нельзя никаким мудрствованием заставить
усомниться в действительности его мнимого ощущения. Случается и так, что лица,
которые вообще-то обнаруживают достаточно здравого смысла, продолжают, однако,
упорно настаивать на том, будто они хорошо разглядели невесть какие привидения
и чудища. Тем не менее они обладают достаточной остротой ума, чтобы свои
воображаемые наблюдения связать с некоторыми тонкими умозаключениями. Это
свойство ненормального человека, из-за которого он без особенно заметного
проявления какой-либо сильной болезни привык в состоянии бодрствования
представлять себе как явно ощутимые некоторые вещи, в действительности не
наличествующие, называется помешательством. Помешанный, следовательно,
есть сновидец в состоянии бодрствования. Если обычный обман его чувства есть
химера лишь отчасти, а большей частью действительное ощущение, то человек, в
более сильной степени расположенный к такой извращенности, будет фантазером.
Когда после пробуждения от сна мы лежим в вялой и изнеженной расслабленности,
наше воображение превращает затейливые фигуры на постельном пологе или пятна на
ближайшей стене в человеческие образы, приобретающие кажущуюся правильность.
Нам довольно приятно развлекаться такими образами, но этот оптический обман мы
можем рассеять в любой момент. В таких случаях мы грезим лишь отчасти и
эти химеры находятся в нашей власти. Но если нечто подобное происходит в более
сильной степени, причем внимание бодрствующего уже не в состоянии отделить
иллюзию в расстроенном воображении, то такое извращение заставляет нас
предположить, что мы имеем дело с фантазером. Этот самообман в ощущениях, впрочем,
234
весьма
распространен, и, пока он не достиг больших размеров, к нему не применяют этого
названия. Но если сюда примешивается страсть, то эта же душевная слабость может
превратиться в действительный бред. И вообще при обычном ослеплении люди видят
не то, что есть, а то, что рисует перед ними склонность: естественник-коллекционер
видит в флорентинском камне города́, набожный человек — в пятнистом
мраморе повествование о страстях господних, некая дама в известном рассказе
увидела на Луне в подзорную трубу тени двух влюбленных, а ее духовник — две
колокольни. Страх превращает лучи северного сияния в копья и мечи, а
придорожный столб в сумерках — в огромное привидение.
Склонность к галлюцинациям
никогда не бывает столь обычной, как при ипохондрии. Химеры, порождаемые этой
болезнью, — это, собственно говоря, не обман внешних чувств, а ощущения
собственного состояния ипохондрика — состояния его тела или его души, и это
ощущение в большинстве случаев есть пустая причуда. В ипохондрике сидит
какой-то недуг, который, где бы ни находилось его главное место, блуждает, вероятно,
по его нервной ткани в разных частях его тела. Но этот недуг стягивает своего
рода меланхолический туман преимущественно вокруг местонахождения души,
вследствие чего больному мерещится, будто у него почти все болезни, о которых
он только слышит. Поэтому он охотнее всего говорит о своем нездоровье, жадно
набрасывается на медицинские книги и повсюду находит симптомы своей болезни; в
обществе же на него незаметно находит хорошее настроение, и тогда он много
смеется, с аппетитом ест и, как правило, имеет вид вполне здорового человека.
Что касается присущей ему больной фантазии, то образы в его мозгу часто
приобретают тягостные для него силу и длительность. Если какой-нибудь смешной
образ, возникший в его уме (хотя он и сам признает его лишь за плод фантазии),
если эта причуда вызывает у него в присутствии других неприличный смех, причину
которого он не указывает; или если разные мрачные представления возбуждают в
нем сильное стремление сделать что-то дурное — стрем-
235
ление,
осуществления которого он сам опасается и которое никогда не переходит в действие,
то состояние его во многом сходно с состоянием помешанного, хотя большой беды в
этом еще нет. Болезнь эта не имеет глубоких корней и, поскольку она касается
расіюложения духа, проходит или сама собой, или благодаря принятым лекарствам.
Одно и то же представление действует на чувство в совершенно различной степени
в зависимости от расположения духа. Поэтому бывает такое бредовое состояние,
которое приписывают тому или иному человеку только потому, что степень чувства,
возбуждаемого определенными предметами, считается по сравнению с нормальным
состоянием здорового ума чрезмерной. В этом смысле у меланхолика бывают
бредовые мысли о жизненных невзгодах. Любовь богата фантазерской
восторженностью, и тонкое искусство государств древности состояло в том, чтобы
энтузиазм своих граждан обратить на пользу общества. Кто воодушевляется
моральным чувством как некоторым принципом в большей мере, чем это могут себе
представить другие люди с их вялым и часто неблагородным чувством, тот этим
людям представляется фантазером. Я представляю себе Аристида среди ростовщиков,
Эпиктета среди придворных и Жан-Жака Руссо среди докторов Сорбонны. Мне кажется,
я слышу язвительный смех и восклицания сотен голосов: «Какие фантазеры!»
Этот двусмысленный вид фантазерства в самих по себе добрых, моральных чувствованиях
есть восторженность, и без него никогда не было совершено в мире ничего
великого. Совсем иначе обстоит дело с фанатиком. Этот, собственно
говоря, помешан на своем, как ему кажется, непосредственном вдохновении и на
близком общении с небесными силами. Человеческая природа не знает более
опасного наваждения. Если оно только начинается, если увлеченный им человек
обладает талантами и толпа уже готова искренне принять эту закваску, то даже
государству приходится терпеть проявления экстаза. Фанатизм доводит восторженного
до крайности: Магомета он привел на престол, а Иоанна Лейденского — на эшафот.
В известной мере к извращенности ума, если она касается приобретенных
236
опытом
понятий, я могу отнести также и расстройство памяти. Ведь оно вводит страдающего
им человека в заблуждение некоторым химерическим представлением о каком-то
предшествующем состоянии, никогда в действительности не существовавшем. Кто говорит
о поместьях, которыми он будто бы обладал, или о королевствах, которыми он
правил, и, однако, не очень-то сам обманывается в своем настоящем состоянии, у
того ненормальная память. Старый ворчун, твердо верящий в то, что в годы его
молодости мир был более благоустроен и люди были лучше, чем теперь,
представляет собой фантазера в области памяти.
В приведенных нами случаях
расстроенного ума способность рассудка остается, собственно говоря,
незатронутой, по крайней мере не обязательно должна быть поражена, поскольку
недостаток заключается только в понятиях, тогда как сами суждения, если извращенное
ощущение принять за истинное, могут быть совершенно правильными и даже
чрезвычайно разумными. Расстройство рассудка, напротив, состоит в том, что исходя
из несомненно правильного опыта высказывают совершенно неверные суждения;
первая степень этой болезни — сумасшествие, которое уже в первых
основанных на опыте суждениях действует вопреки общим правилам рассудка. Сумасшедший
видит предметы или вспоминает о них так же правильно, как и любой здоровый человек,
но поведение других людей он обычно истолковывает, исходя из какого-то нелепого
представления о себе, и в соответствии с этим думает, что он в состоянии
прочесть в глазах других невесть какие подозрительные намерения, которые им
никогда и в голову не приходили. Послушать его, так можно подумать, что весь
город только им одним и занят. Рыночные торговцы, занятые своим делом и случайно
взглянувшие на него, строят, видите ли, против него козни, ночной сторож будит
его назло, — словом, он всюду видит заговор против себя. Сумасшедший меланхолик,
которому мерещится что-то печальное и оскорбительное, мрачен. Но бывает также
разного рода забавное сумасшествие. Например, человека, поглощенного любовной
страстью, обольщают или терзают
237
разные
странные представления, близкие к сумасшествию. Высокомерный человек в известной
мере сумасшедший: из того, что окружающие смотрят на него с насмешкой, вытаращив
глаза, он заключает, будто они восхищены им. Вторая степень расстройства ума в
отношении высшей силы познания состоит, собственно говоря, в том, что разум,
приведенный в ненормальное состояние, нелепо запутывается в мнимо-тонких суждениях
об общих понятиях; эту вторую степень можно назвать безумием. При более
сильной степени этого расстройства воспаленный мозг наполнен всякого рода
претенциозными, сверхтонкими воззрениями: придуманная длина моря, истолкование
пророчеств или невесть еще какая мешанина из нелепых выдумок. Если несчастный
пренебрегает при этом суждениями, основанными на опыте, то его называют сумасбродным
(aberwitzig). В том случае если он исходит из многих правильных
суждений, основанных на опыте, но восприятие его до такой степени одурманено
новизной и многочисленностью следствий, подсказываемых ему умом, что он уже не
обращает внимания на правильность их сочетания, то нередко мы имеем дело с ярко
выраженными признаками безумия, которое может уживаться с большими талантами,
поскольку неповоротливый ум уже не в силах поспевать за взбудораженным
остроумием. То состояние расстроенного ума, которое делает его невосприимчивым
к внешним ощущениям, есть безумство (Unsinnigkeit), и если оно во власти гнева, то это неистовство
(Raserei). Отчаяние есть временное безумство потерявшего
всякую надежду человека. Бурная вспыльчивость умственно расстроенного человека
называется вообще бешенством (Tobsucht).
Бешеный, поскольку он безрассуден, безумен (toll).
В естественном состоянии
человек может быть подвержен лишь немногим видам сумасбродства и вряд ли
некоторым глупостям. Его потребности держат его всегда столь близко к жизни и
дают его здравому уму столь легкое занятие, что он почти и не замечает, что для
действий ему нужен ум. Его грубым и обыденным желаниям косность сообщает умеренность,
оставляющую той небольшой способности суждения, в которой
238
он нуждается,
еще достаточно сил, чтобы господствовать над ними сообразно с наибольшей для
себя пользой. Да и где взять ему материал для глупости, когда он безразличен к
тому, как о нем судят другие, и не может быть ни тщеславным, ни чванливым? Не имея
никакого представления о ценности неупотребляемых им благ, он предохранен от
нелепости скряжничества, и так как в его голову никогда не проникало никаких остроумных
затей (Witz), то он также хорошо защищен и от всякого
сумасбродства (Aberwitz). Равным образом душевное
расстройство может лишь редко встречаться в этом состоянии простоты. Если бы
мозг дикаря и подвергся какому-нибудь потрясению, то я не знаю, откуда могли бы
возникнуть [в его уме] бредни, чтобы вытеснить обыденные ощущения, которые одни
только непрестанно его и занимают. Какое сумасшествие может овладеть им, если у
него никогда нет причин для того, чтобы слишком далеко зайти в своем суждении?
Что же касается проявлений безумия, то они, безусловно, вне предела его способностей.
Если его постигает болезнь головы, то он становится или слабоумным, или
обезумевшим, но и это случается с ним крайне редко, потому что большей частью
он здоров, ведь он свободен и способен передвигаться. В общественном (bürgerliche) устройстве коренятся, собственно говоря, ферменты
всех этих недугов, если и не вызывающие их, то все же служащие для их
поддержания и усиления. Ум, если он достаточен для удовлетворения необходимых
потребностей и простых удовольствий жизни, есть здравый ум; если же он
требуется для изысканной роскоши — будь то в наслаждении жизнью или в науках, —
он утонченный ум. Здравый ум гражданина был бы уже для человека,
находящегося в естественном состоянии, очень утонченным умом, и понятия,
которые в некоторых сословиях предполагают утонченный ум, уже не годятся для
тех, кто — по крайней мере по своим воззрениям — ближе стоит к простоте
природы; если же эти понятия переходят к ним, они обычно делают из них глупцов.
Аббат Террасон6 делит людей с душевным
расстройством на таких, которые из ложных представлений делают правильные
выводы, и на таких,
239
которые
из правильных представлений заключают неправильно. Такое деление вполне
совпадает с приведенными выше положениями. У лиц первого рода, у фантазеров или
помешанных, собственно говоря, поврежден не ум, а лишьспособность, порождающая
в душе понятия, которымиспособностьсуждения пользуется затем для их сравнения.
Этим больным можно с успехом противопоставить разумные суждения если и не для
того, чтобы устранить их недуг, то по крайней мере чтобы его смягчить. Но так
как у лиц второго рода, сумасшедших и безумных, поражен самый ум, то вступать с
ними в отвлеченные рассуждения было бы не только глупо (ведь они не были бы
сумасшедшими, если бы могли понять разумные доводы), но и в высшей степени
вредно, потому что их извращенному уму этим давали бы только новый материал для
измышления нелепостей. Противоречие не исправляет их, а лишь раздражает, почему
и в обращении с ними совершенно необходимо быть хладнокровным и
благожелательным, как если бы вообще не замечали, что их уму чего-то не
хватает.
Недуги познавательной
способности я назвал болезнями головы, подобно тому как повреждение воли
называют болезнью сердца. Я обращал внимание лишь на проявление этих
болезней в душе, не намереваясь обнаруживать их корни, которые, собственно говоря,
находятся в теле, скорее всего в пищеварительных органах, а не в мозгу, как это
с достаточной убедительностью показано в 150, 151 и 152 номерах пользующегося
успехом широко известного еженедельника «Der аrzt». И я даже никак не могу
убедить себя в том, будто душевное расстройство должно, как это обычно думают,
возникать из высокомерия, из любви, из чрезмерно напряженного размышления и
невесть еще какого другого злоупотребления душевными силами. Такое суждение,
делающее из несчастья больного основание для насмешливых упреков [по его
адресу], крайне жестоко и порождено общераспространенной ошибкой, согласно
которой причину имеют обыкновение смешивать с действием. Стоит обратить хотя бы
немного внимания на случаи [этих болезней], чтобы установить, что сначала
240
всегда страдает тело, что, когда
зародыш болезни развивается еще незаметно, наблюдается какая-то двойственная
извращенность, которая, однако, не дает еще основания предположить душевное
расстройство и обнаруживается лишь в любовных причудах, в чопорности или в
бесполезном глубокомысленном мудрствовании. С течением времени болезнь внезапно
обнаруживается и заставляет искать ее причину в предыдущем состоянии души.
Однако следовало бы скорее сказать, что человек сделался высокомерным потому,
что он в некоторой мере уже стал ненормальным, чем сказать, что человек потому
стал несколько ненормальным, что был столь высокомерен. Эти прискорбные недуги,
если только они не наследственны, дают еще надежду на их успешное излечение, и
прежде всего к врачу надлежит в таком случае обращаться за помощью. Однако из
уважения к философу, который мог бы предписать диету для души, я и его не хотел
бы совсем устранить от этого дела, но лишь при одном условии: чтобы он не
требовал за это, как и за большинство других своих работ, никакого
вознаграждения. В знак признательности и врач не отказал бы в своем содействии
философу в тех случаях, когда последний сделал бы значительную, но всегда
тщетную попытку излечить глупость. Так, например, в случае бешенства ученого
крикуна врач рассмотрел бы вопрос, не могла ли здесь в известной мере
помочь усиленная доза слабительного. В самом деле, если, по наблюдению Свифта7, плохое стихотворение есть лишь очищение мозга,
посредством которого вредные жидкости удаляются из него для облегчения больного
поэта, то почему бы тогда и убогому, полному умствований [философскому]
сочинению не быть чем-то в этом роде? В этом случае было бы, однако, полезно
указать природе другой путь очищения, чтобы болезнь была раз и навсегда устранена,
причем совершенно незаметно, не причиняя этим какого-либо беспокойства
обществу.
ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ ЯСНОСТИ ПРИНЦИПОВ ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЕОЛОГИИ И МОРАЛИ
1764
Verum
аnimo satis haec
vestigia parva sagaci
Sunt, per quae possis cognoscere caetera tute.
[Но и следов, что я здесь слегка лишь наметил, довольно,
Дабы ты чутким умом доследовал все остальное.
(Лукреций. О природе вещей, 1, 402—403. Пер. Ф. А. Петровского)]
![]()
ВВЕДЕНИЕ
Предложенный вопрос таков,
что от правильного его разрешения будет зависеть и та форма, которую должна
будет приобрести высшая философия. Если будет твердо установлен метод,
руководствуясь которым можно достичь наивысшей достоверности в этом роде
познания, и будет надлежащим образом понята природа этого убеждения, то вместо
вечного непостоянства мнений и школьных сект одно незыблемое правило метода
обучения будет объединять все мыслящие умы для одинаковых трудов, подобно тому
как метод Ньютона в естествознании превратил произвол физических гипотез в
надежный способ исследования, опирающийся на опыт и геометрию. Но каким же методом
исследования должно будет руководствоваться это наше сочинение, п котором метафизике
должна быть указана истинная степень ее достоверности, а равно и тот путь, по
которому можно прийти к этой достоверности? Если бы то, что здесь излагается,
было в свою очередь метафизикой, то и решение оказалось бы в такой же мере
ненадежным, в какой до сих пор была ненадежной сама эта наука, рассчитывающая
при помощи этого метода приобрести некоторую устойчивость и крепость; но тогда
и все наше начинание было бы бесполезным. Содержанием всего моего сочинения я
сделаю поэтому твердые истины, основанные на опыте, и непосредственно
полученные из них выводы. Я не буду полагаться ни на учения философов,
недостоверность которых и послужила причиной
245
постановки настоящего вопроса, ни на дефиниции, так
часто вводящие нас в заблуждение. Метод, которым я пользуюсь, будет прост и
осмотрителен. Некоторые утверждения, которые могли бы еще показаться сомнительными,
по своему характеру таковы, что я пользуюсь ими только для разъяснения, а не
для доказательства.
РАССУЖДЕНИЕ ПЕРВОЕ
ОБЩЕЕ СРАВНЕНИЕ ТОГО СПОСОБА, КАКИМ
ДОСТОВЕРНОСТЬ ПОЗНАНИЯ ДОСТИГАЕТСЯ В МАТЕМАТИКЕ, С ТЕМ СПОСОБОМ, КАКИМ ОНА
ДОСТИГАЕТСЯ В ФИЛОСОФИИ
§ 1
Математика ко
всем своим дефинициям приходит синтетически,
а философия — аналитически
К любому общему понятию можно
прийти двумя путями: или посредством произвольного соединения понятий,
или через обособление [их] от того познания, которое стало ясным благодаря
расчленению. Математика составляет свои дефиниции всегда только по первому
способу. Так, например, произвольно воображают себе четыре прямые линии,
очерчивающие плоскость таким образом, что стороны, противостоящие друг другу,
не параллельны, и называют такую фигуру трапецией. Понятие, которое я
здесь объясняю, не дано до дефиниции, а только возникает через нее. Конус может
вообще означать что угодно, но в математике он возникает из произвольного
представления о прямоугольном треугольнике, вращающемся вокруг одной из своих
сторон. Определение здесь, как и во всех других [сходных] случаях, возникает
явно посредством синтеза.
Совершенно иначе обстоит дело
с дефинициями в философии. Здесь понятие о вещи уже дано, однако в неясном или
еще недостаточно определенном виде, Я должен расчленить это понятие, сравнить
все обособленные признаки с данным понятием во всевозможных случаях и эту
абстрактную мысль сделать развитой и определенной. Каждый имеет, например,
понятие
246
о времени;
это понятие и нужно определить. Я должен рассмотреть эту идею во всевозможных
отношениях, чтобы через расчленение найти ее признаки, соединить между собой
различные абстрагированные признаки, [дабы решить], образуют ли они законченное
понятие, и сравнить их между собой, [дабы видеть], не заключает ли в себе один
из признаков часть какого-нибудь другого. Если бы я попытался синтетически
прийти здесь к дефиниции времени, то какой счастливый случай должен был бы
иметь место, чтобы это понятие оказалось как раз тем понятием, которое
полностью выражало бы данную нам идею!
Однако, скажут нам, ведь и
философы определяют иногда [свои понятия] синтетически, а математики —
аналитически; например, когда философ произвольно мыслит себе субстанцию со
способностью разума и такую субстанцию называет духом. На это я отвечу: подобного
рода определения смысла, который имеет слово, никогда не представляют собой
философских дефиниций; если же они должны называться объяснениями, То они
только грамматические объяснения. Ведь никакой философии не требуется для того,
чтобы сказать, какое название я хотел бы дать произвольному понятию. Лейбниц
мыслил себе простую субстанцию, которая обладает только смутными
представлениями, и назвал ее дремлющей монадой. В данном случае он не разъяснил
эту монаду, а измыслил ее; ибо понятие этой монады не было ему дано, а им же
создано. Напротив, математики, с чем я согласен, [действительно] иногда
объясняли [свои понятия] аналитически, но всякий раз эти объяснения были
ошибочными. Так, Вольф1 рассматривал сходство
в геометрии с философской точки зрения, чтобы под общее понятие [о сходстве]
подвести и сходство, с которым имеет дело геометрия. Но он мог бы и не
затруднять себя этим; ведь если я мыслю себе фигуры, в которых углы, образуемые
линиями периметра, соответственно равны, а составляющие их стороны находятся
друг к другу в одной и той же пропорции, то это всегда можно рассматривать как
дефиницию сходства фигур, и то же справедливо и относительно всех других
случаев сходства в про-
247
странстве. Геометру вообще не нужна общая дефиниция
сходства. Для математики счастье, что если иногда, неправильно понимая свою
задачу, геометр и занимается такого рода аналитическими определениями, то в
действительности из них ничего у него не выводится или же его ближайшие выводы
в сущности составляют математическую дефиницию; иначе эта наука оказалась бы во
власти того же самого несчастного разногласия, что и философия.
Математик имеет дело с
понятиями, которые нередко допускают также и философское определение, например
понятие пространства вообще. Однако такое понятие он принимает как данное в
соответствии со своим ясным и обычным представлением о нем. Иногда, в
особенности в прикладной математике, ему дают философские определения из других
наук, например определение жидкости. Однако в таком случае подобного рода дефиниция
возникает не в математике: в ней она находит только свое применение. Дело философии
— расчленять понятия, данные в смутном виде, делать их развитыми и определенными;
дело же математики — связывать и сравнивать уже данные понятия о величинах,
обладающие ясностью и достоверностью, дабы увидеть, какие выводы можно из них
сделать.
§ 2
Математика рассматривает в своих решениях,
доказательствах и выводах всеобщее при помощи знаков in concreto,
философия — посредством знаков in аbstracto
Так как мы рассматриваем
здесь наши положения лишь как выводы, основывающиеся непосредственно на опыте,
То по поводу того, что здесь сказано, я сошлюсь прежде всего на
арифметику — на общую арифметику, трактующую о неопределенных величинах, и на
арифметику чисел, в которых отношение величины к единице определенно. И в той и
в другой арифметике сначала на место самих вещей ставятся их знаки с особыми
обозначениями их увеличения и уменьшения, их отношений и т. д., а затем уже с
этими знаками согласно легким
248
и
определенным правилам производят перемещение, сложение, вычитание и разного
рода изменения, так что сами обозначаемые вещи остаются при этом совершенно вне
сферы мысли, до тех пор пока в конце концов не расшифровывается значение
символического вывода. Во-вторых, в геометрии, чтобы узнать, например,
свойства всех кругов, чертят один круг, в котором вместо всевозможных
пересекающихся внутри него линий проводят всего только две. По этим двум линиям
доказывают все отношения и рассматривают в них in concreto всеобщее правило отношений линий, пересекающихся между собой
во всех кругах.
Если сравнить с этим метод
философии, то он совершенно иной. Знаки философского рассмотрения — это всегда
слова; сочетание же слов не обозначает частичных понятий, из которых состоит
вся обозначаемая словом идея в целом, так же как и соединения их не могут
выразить отношения между философскими понятиями. Вот почему в этом виде
познания всегда приходится при каждом рассуждении иметь перед глазами самый
предмет и по необходимости представлять себе всеобщее in аbstracto, не имея возможности серьезно облегчить себе
задачу тем, чтобы вместо общих понятий самих вещей рассматривать единичные
знаки [их]. Если геометр, например, хочет показать, что пространство делимо до
бесконечности, то для этого он берет прямую линию, перпендикулярную двум параллелям,
и из какой-нибудь точки одной из этих параллельных линий проводит другие линии,
пересекающие упомянутый перпендикуляр*.
С помощью этого символа он с величайшей достоверностью узнает, что деление
должно продолжаться до бесконечности. Если же философ хочет показать, что
каждое тело состоит из простых субстанций, то он прежде всего постарается
убедиться в том, что всякое тело вообще есть некоторое целое, состоящее из
субстанций; что сложение субстанций есть случайное состояние, без которого они
тем не менее могут существовать; что поэтому всякое сложение в каком-либо теле
может быть мысленно упразднено, но так,
249
что
субстанции, из которых оно состоит, существуют, и так как то, что останется от
сложного, если упразднить всякое вообще сложение, есть нечто простое, то тело
должно состоять из простых субстанций. Здесь ни фигуры, яи видимые знаки не
могут выразить мысли или отношения между ними, как нельзя [здесь] заменить
абстрактное рассмотрение производимой по правилам перестановкой знаков так,
чтобы представление о самих вещах было при этом способе рассмотрения заменено
более ясным и легким представлением о знаках; всеобщее необходимо рассматривать
здесь in аbstracto.
§ 3
В математике имеется лишь немного неразложимых понятий
и недоказуемых положений, в философии, напротив, их бесконечное множество
Понятия величины вообще,
единицы, множества, пространства и т. д. неразложимы по крайней мере в
математике, их расчленение и определение вовсе не относятся к этой науке.
Конечно, я знаю, что некоторые геометры не умеют провести границы между науками
и иногда не прочь пофилософствовать в учении о величинах — почему они и стремятся
к объяснению подобного рода понятий, — хотя в таких случаях дефиниция не имеет
никаких математических следствий. Несомненно, однако, что любое понятие в
области науки неразложимо, т. е. по крайней мере в данной науке не требует
определения, независимо от того, допускает ли оно вообще такое определение или
нет. И я уже сказал, что таких понятий в математике имеется лишь немного. Но я
пойду еще дальше и скажу, что таковых в ней, строго говоря, вообще не может
быть именно в том смысле, что объяснение этих понятий посредством их
расчленения не относится к математическому познанию даже при предположении, что
такое определение вообще-то возможно. Дело в том, что математика никогда не
объясняет какого-либо данного понятия посредством расчленения, а всегда
объясняет объект,
250
произвольно
соединяя [признаки], благодаря чему только и становится возможной сама мысль об
этом объекте.
Если с этим сравнить
философию, то какое различие бросится нам в глаза! Во всех ее дисциплинах, в
особенности в метафизике, всякое расчленение [понятий] не только возможно, но и
необходимо; ведь и отчетливость познания, и возможность достоверных выводов
зависят [здесь] именно от этого расчленения. Но уже с самого начала становится
очевидным, что в этом расчленении неизбежно приходят к далее уже неразложимым понятиям,
которые таковы или сами по себе, или для нас, и что подобных понятий чрезвычайно
много, поскольку невозможно, чтобы столь многообразные познания всеобщего характера
складывались только из немногих основных понятий. Поэтому многие из этих понятий
вряд ли могут быть вообще расчленены, как, например, понятие представления,
сосуществования или последовательности; другие — только отчасти,
такие, как понятия пространства, времени, разного рода чувств
человеческой души, чувства возвышенного, прекрасного, отвратительного
и т. д., без точного знания и расчленения которых побуждения нашей природы не
могут быть достаточно известны и относительно которых внимательный наблюдатель,
конечно, заметит, что и [произведенного до сих пор] расчленения их еще далеко
не достаточно. Я хорошо знаю, что определения удовольствия и неудовольствия,
влечения и отвращения, как и бесчисленных других [чувств], подобных этим,
никогда не удавалось достигнуть достаточно проведенным расчленением, и меня нисколько
не удивляет их неразложимость. Ведь в основе понятий столь различного рода
должны лежать также и весьма различные первоначальные понятия. Допущенная некоторыми
ошибка, состоящая в том, что все подобного рода познания рассматривались как
сводимые в совокупности к немногим простым понятиям, подобна той, в которую
впадали древние исследователи природы, утверждавшие, что вся материя природы
состоит из так называемых четырех элементов, — мысль, опровергнутая более
точным наблюдением;
251
Далее, в математике имеется
лишь немного лежащих в основе недоказуемых положений, которые, если и
допускают еще какое-то доказательство в другом месте, в математике
рассматриваются как непосредственно достоверные: целое равно всем частям, взятым
вместе; между двумя точками возможна только одна прямая линия и т. д. Математики
обычно приводят такого рода принципы в начале своих дисциплин, дабы показать,
что только эти столь очевидные положения принимаются за истинные, а все
остальное подлежит строгому доказательству.
Сравнивая с этим философию, и
особенно метафизику, я очень хотел бы видеть здесь таблицу таких недоказуемых
положений, лежащих в основании этих наук во всех их разделах. Такая таблица,
несомненно, представляла бы собой необъятный перечень; однако в отыскании этих
недоказуемых основных истин и состоит как раз важнейшая задача высшей философии
и открытиям таких истинникогда не будет конца, покуда подобного рода познания
будут расширяться. В самом деле, каким бы ни был объект, признаки, которые ум
прежде всего непосредственно воспринимает в нем, представляют собой данные для
такого же числа недоказуемых положений, составляющих потом основание, из которого
[только и] могут быть выведены дефиниции. Прежде чем приступить к объяснению
того, что такое пространство, я ясно вижу уже, что, так как это понятие мне
дано, я прежде всего должен путем расчленения отыскать те признаки, которые
мыслятся здесь в первую очередь и непосредственно. Сообразно с этим я замечаю,
что в пространстве есть многое находящееся вне друг друга, что это многое не субстанции
(ведь я хочу познать не вещи в пространстве, а само пространство), что
пространство может иметь только три измерения и т. д. Подобные положения можно
разъяснять, рассматривая их in concreto, дабы познать их посредством созерцания, но
их никогда нельзя доказать. В самом деле, откуда взять такое доказательство,
если эти положения представляют собой первые и самые простые мысли, какие
только я могу иметь об объекте, когда начинаю мыслить о нем? В математике дефиниции
—
252
первая
мысль, которую я могу иметь об определяемой вещи, потому что мое понятие об
объекте и возникает только благодаря определению, и потому здесь было бы совершенно
нелепо рассматривать эти дефиниции как подлежащие доказательству. В философии
же, где мне уже дано понятие вещи, которую я должен определить, непосредственно
и первоначально воспринимаемое в нем должно служить недоказуемым основным суждением.
В самом деле, поскольку полного, отчетливого понятия о вещи я еще не имею — я
его только ищу, — то я никак не могу доказать из этого понятия данное мне
понятие о вещи, а, напротив, последнее служит мне для того, чтобы при его
помощи создать отчетливое познание и дефиницию. Следовательно, до всякого
философского определения вещей я уже должен иметь первые основные суждения [о
них], и ошибка здесь может состоять только в том, что то, что я рассматриваю
как первоначальный признак, на самом деле есть только производный признак. В
следующем рассуждении все это будет неопровержимо доказано.
§ 4
Объект
математики легок и прост, объект философии, напротив, труден и сложен
Так как предметом математики
является величина, при рассмотрении которой обращают внимание лишь на то,
сколько раз что-нибудь взято, то совершенно очевидно, что такого рода познание
должно покоиться на немногих и очень ясных основных понятиях общего учения о
величинах (которое, собственно, и составляет общую арифметику). Мы видим здесь
также, как увеличение и уменьшение величин, их разложение на равные факторы в
учении о корнях возникают из простых и немногих основных понятий. Небольшое
число основных понятий о пространстве делает возможным применение этого общего
учения о величинах к геометрии. Чтобы в этом убедиться, достаточно сопоставить,
например, легкость усвоения предмета арифметики, охватывающего собой
чрезвычайное множество [предметов], с гораздо большей трудностью постижения
253
философской
идеи, в которой стремятся познать лишь немногое. Отношение триллиона к
единице совершенно понятно, тогда как объяснить понятие свободы из
[образующих его] единиц, т. е. из ее простых и уже известных понятий, философам
не удалось и до сих пор. Это значит: качества, составляющие подлинный объект
философии, бесконечно разнообразны и различать их очень сложно; равным образом
гораздо труднее путем расчленения разъяснить сложные познания, чем посредством
синтеза связать между собой уже данные простые познания и именно таким образом
прийти к выводам. Я знаю, что есть много людей, которые считают философию
сравнительно с высшей математикой очень легкой. Однако эти люди именуют философией
все, что содержится в книгах с таким названием. Различие [обеих наук]
обнаруживается в [их] результатах. Философские познания большей частью имеют
судьбу мнений и подобны метеорам, яркость которых ничего не говорит об их
продолжительности. Они исчезают, а математика остается. Метафизика, несомненно,
есть самое трудное из всех человеческих познаний, но она никогда еще и не была
написана. Задача, поставленная Академией, свидетельствует о том, что есть
основание осведомиться о пути, на котором еще только предполагают отыскать ее.
РАССУЖДЕНИЕ
ВТОРОЕ
ЕДИНСТВЕННЫЙ МЕТОД ДОСТИГНУТЬ В
МЕТАФИЗИКЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ
Метафизика есть не что иное,
как философия первых оснований нашего познания; поэтому то, что в
предшествующем рассуждении было доказано относительно математического познания
по сравнению его с философией, правильно и для метафизики. Мы видели
значительные и существенные различия в [способе] познавания обеих наук, и в
этом отношении можно вместе с епископом Варбертоном2
сказать, что для философии ничего не было вреднее математики, а именно
подражания ей в методе мышления там, где он никак не может быть применен; ведь
что касается применения математики в тех разделах философии, где мы имеем дело
с позна-
254
нием
величин, то это совершенно другое и польза ее огромна.
В математике я начинаю с
определения моего предмета, например треугольника, круга и т. д.; в метафизике
я никогда не могу начать с этого, и потому совершенно неправильно утверждение,
что и здесь познание вещи начинается с дефиниции; познание вещи, напротив,
здесь почти всегда заканчивают дефиницией. В самом деле, в математике я не имею
никакого понятия о предмете прежде, чем он будет дан мне дефиницией; в метафизике
я имею понятие, которое мне уже дано, хотя и в неясном виде, и мне предстоит
найти на основании его отчетливое, развитое и определенное понятие. Как же я в
таком случае могу начинать с него? Августин3
говорил: я хорошо знаю, что такое время, но, когда меня спрашивают, [что оно
такое], я не знаю. Для разъяснения смутных идей здесь требуется много действий
— сравнение, подчинение и ограничение, и я решаюсь утверждать, что хотя о
времени и было высказано много истинного. и остроумного, тем не менее реального
определения его никогда не было дано; что же касается номинального определения,
то оно мало в чем может нам помочь или даже совсем бесполезно, так как и без
него это слово достаточно понятно, чтобы не путать его с другими. Если бы
существовало столько же правильных дефиниций, сколько под этим наименованием
встречается в разных книгах, с какой уверенностью можно было бы тогда делать
заключения и выводы! Однако опыт учит нас противоположному.
В философии, и в особенности
в метафизике, можно часто очень многое познать о предмете с полной ясностью и
достоверностью, а также делать из этого познания верные выводы, еще не
располагая его дефиницией и даже не ставя себе задачей дать ее. Действительно,
я могу непосредственно и с полной уверенностью знать различные предикаты любой
вещи, хотя и не располагаю знанием достаточного числа их, чтобы быть в состоянии
дать развитое и определенное понятие вещи, т. е. ее дефиницию. Пусть я
даже никогда не мог бы объяснить, что такое желание, я все же с
уверенностью могу сказать, что каждое желание предполагает представление
255
о
желаемом, что это представление есть предвидение будущего, что с ним связано
чувство удовольствия и т. д. Все это каждый человек постоянно усматривает,
непосредственно осознавая свое желание. Из такого рода сопоставляемых замечаний
можно было бы, вероятно, прийти наконец и к дефиниции желания. Однако, поскольку
искомое и без нее может быть выведено из нескольких непосредственно достоверных
признаков той же вещи, постольку нет надобности затевать столь ненадежное дело.
В математике, как известно,
все обстоит совершенно иначе. В математике значение знаков не вызывает
сомнений, потому что легко дать себе отчет в том, какое именно значение имелось
в виду придать этим знакам. В философии вообще, и в метафизике в особенности,
слова имеют свое значение благодаря употреблению их в речи, если только это
значение не было уточнено для них путем логического ограничения. Так как,
однако, для весьма сходных понятий, которые тем не менее скрыто содержат в себе
довольно значительное различие, часто употребляются одни и те же слова, то при
каждом применении понятия, хотя бы обозначение его согласно употреблению его в
речи и казалось достаточно точным, всегда следует обращать особое внимание на
то, в самом ли деле одно и то же понятие связывается здесь с одним и тем же
знаком. Мы говорим: человек отличает золото от латуни, когда он узнает,
например, что один металл обладает не той же плотностью, что и другой. Но
говорят также: корова отличает один корм от другого, когда она поедает
один и оставляет нетронутым другой. Здесь в обоих случаях употребляется слово отличать,
хотя в первом случае оно значит познавать различие, что никогда не может
произойти без суждения, тогда как во втором случае указывается только,
что при различных представлениях производятся также и различные действия,
для чего вовсе нет надобности, чтобы этому предшествовало суждение. У домашних
животных мы действительно видим только то, что они различными ощущениями
побуждаются к различным действиям, а это вполне возможно и без всякой
способности судить о совпадении или различии.
256
Из всего этого совершенно
естественно вытекают правила того метода, следуя которому только и можно
достигнуть максимальной достоверности в метафизике. Правила эти весьма отличны
от тех, которым следовали до сих пор, и, если их применять, они предвещают
такие успехи, каких никогда нельзя было бы ожидать, следуя по другому пути. Первое
и самое важное из этих правил гласит: не следует начинать с определений,
разве только в тех случаях, когда ищут всего лишь толкование слова, например:
необходимое есть то, противоположность чего невозможна. Но и тогда лишь в
редких случаях можно с самого начала с полной уверенностью установить ясное и
определенное понятие. Напротив, в предмете [исследования] необходимо старательно
искать прежде всего непосредственно достоверное, не имея еще его дефиниции.
Отсюда необходимо сделать выводы и стараться главным образом приобрести лишь
истинные и совершенно достоверные суждения об объекте, не щеголяя не найденным
еще определением, которое никогда не следует давать, а допуская его только
тогда, когда оно с полной ясностью вытекает из самых очевидных суждений. Второе
правило гласит: следует особенно выделять непосредственные суждения о
предмете, касающиеся того, что в нем с самого начала можно установить с
достоверностью, и, убедившись в том, что ни одно [из этих суждений] не содержится
в другом, необходимо предпосылать их подобно аксиомам геометрии в качестве
оснований для всех выводов. Отсюда вытекает, что в метафизических исследованиях
нужно всегда особенно выделять то, о чем имеют достоверное знание, даже если
таких знаний немного, хотя не мешает проверить и недостоверные познания, чтобы
посмотреть, не могут ли и они привести к достоверным познаниям, однако так,
чтобы не смешивать их с первоначально достоверными познаниями. Я не привожу
здесь других правил, которыми следует руководствоваться, общих для
рассматриваемого метода и для всякого другого рационального метода, и перехожу
к пояснению его на примерах.
Подлинный метод метафизики в
сущности тождествен с тем, который Ньютон ввел в естествознание и
257
который
там принес столь плодотворные результаты. Надлежит, как предписывается им,
опираясь на достоверные данные опыта и, разумеется, используя геометрию,
отыскать законы, по которым протекают те или иные явления природы. Хотя первого
основания этих законов и нельзя усмотреть в телах, все же вполне достоверно,
что эти тела действуют по указанному закону и что сложные явления природы
объяснены, если ясно показано, как они подчиняются этим хорошо доказанным
законам. Точно так же обстоит дело и в метафизике: старайтесь отыскать,
опираясь на достоверный внутренний опыт, т. е. на непосредственно очевидное
сознание, те признаки, которые, несомненно, содержатся в понятии того или иного
общего свойства; и, хотя вы и не познаете всей сути предмета, вы все же будете
в состоянии с уверенностью пользоваться им, дабы на этом основании сделать
побольше выводов о нем.
Пример
применения
единственно достоверного метода в метафизике к познанию природы тел
Ради краткости я сошлюсь на
доказательство, изложенное в немногих словах в конце второго параграфа первого
рассуждения, чтобы прежде всего принять здесь в качестве основного положение о
том, что каждое тело должно состоять из простых субстанций. Даже не выясняя,
что такое тело, я все же достоверно знаю, что оно состоит из частей, которые
существовали бы и в том случае, если бы они не были соединены между собой; и
если понятие субстанции есть отвлеченное понятие, то оно, вне всякого сомнения,
отвлечено от материальных вещей мира. Однако нет надобности даже в том, чтобы
называть эти вещи субстанциями; достаточно уже того, что отсюда с величайшей
достоверностью можно сделать заключение, что тело состоит из простых частей; и
это легко подвергнуть анализу, но здесь такой анализ занял бы слишком много
времени. При помощи несомненных геометрических доказательств я могу установить,
что пространство не со-
258
стоит
из простых частей; доводы [в пользу этого утверждения] достаточно известны. Соответственно
этому существует определенное количество простых частей каждого тела и такое же
количество сложных частей занимаемого им пространства. Отсюда следует, что
каждая простая часть (элемент) тела должна занимать некоторое пространство. Если
я спрошу теперь: что значит занимать пространство, то, даже и не выясняя
вопроса о сущности пространства, я понимаю, что если в пространство может
проникнуть любая вещь, поскольку в нем нет ничего, что оказывало бы этому
противодействие, то хотя и можно будет, если угодно, сказать, что в этом
пространстве есть нечто, но никогда нельзя будет сказать, что это пространство
чем-то наполнено. а отсюда я познаю, что пространство тогда наполнено чем-то,
когда есть нечто оказывающее противодействие движущемуся телу при его
стремлении проникнуть в это пространство. а это противодействие есть непроницаемость.
Следовательно, тела наполняют пространство посредством непроницаемости.
Непроницаемость есть, однако, некоторая сила, ведь она оказывает
противодействие, т. е. некоторое действие, противоположное какой-то внешней
силе. Сила, присущая телу, должна быть присуща и его простым частям. Поэтому
элементы каждого тела наполняют пространство посредством силы непроницаемости.
Но я спрашиваю, далее, не потому ли первые элементы [тела] протяженны, что
каждый из них наполняет в теле некоторое пространство? Здесь я могу уже
привести определение, которое обладает непосредственной достоверностью, а
именно: протяженно то, что, будучи положено само по себе (absolute), наполняет некоторое пространство точно так
же, как и каждое отдельное тело, хотя бы я и представил себе, что, кроме него,
вообще ничего нет, наполняет некоторое пространство. Но если я стану
рассматривать безусловно простой элемент, то при полагании только этого одного
элемента (без связи его с другими) окажется невозможным, чтобы в нем многое
находилось вне друг друга и чтобы он сам по себе занимал некоторое
пространство. Такой элемент не может поэтому быть протяженным. Так
259
как,
однако, приложенная ко многим внешним вещам сила непроницаемости есть причина
того, что данный элемент занимает некоторое пространство, то для меня ясно, что
отсюда вытекает множественность его внешних действий — но не множественность в
отношении его внутренних частей — и, следовательно, этот элемент не протяжен
потому, что в теле (in nexu cum аliis [в связи
с другими]) он занимает некоторое пространство.
Я хочу еще немного
остановиться на этом, чтобы с очевидностью показать, до какой степени поверхностны
доказательства метафизиков, когда они, исходя из однажды положенного ими в
основание определения, по привычке уверенно делают выводы, теряющие всякое
значение, как только оказывается ложной дефиниция. Известно, что большинство последователей
Ньютона идут дальше самого Ньютона и утверждают, что тела, находясь и на расстоянии,
притягивают друг друга непосредственно (или, как они говорят, через пустое
пространство). Я оставляю открытым вопрос о правильности этого положения,
которое само по себе, несомненно, имеет достаточно оснований. Однако я
утверждаю, что метафизика по меньшей мере не опровергла его. Прежде всего тела находятся
на расстоянии друг от друга, если они не соприкасаются. Таков совершенно
точный смысл этого слова. Если я теперь спрошу, что же такое соприкосновение,
то мне станет ясным, что, даже и не ставя вопроса о дефиниции, я всегда по
противодействию непроницаемости другого тела могу судить, что я соприкасаюсь с
ним. Ведь я нахожу, что первоначально это понятие возникает из осязания,
подобно тому как, опираясь на суждение, основанное на зрительном восприятии, я
могу лишь предполагать, что одна материя касается другой, но только при
замеченном противодействии непроницаемости узнаю это с достоверностью. Таким
образом, если я скажу: некоторое тело действует на другое тело, находящееся на
расстоянии от него, непосредственно, то это значит: оно действует на него
непосредственно, но только не силой непроницаемости. И собственно, непонятно,
почему это невозможно, разве только будет доказано, что
260
непроницаемость
есть единственная сила, присущий телу, или что она по крайней мере не может
действовать непосредственно вместе с какой-либо другой силой, не переставая в
то же время делать это в качестве силы непроницаемости. Но так как это никогда
не было доказано и, по-видимому, едва ли когда-либо будет доказано, то для метафизики
по меньшей мере нет никакого основания возражать против непосредственного
притяжения на расстоянии. Между тем послушаем доводы метафизиков. Прежде всего
появляется дефиниция: непосредственное соприсутствие двух тел есть
соприкосновение. Отсюда следует: если два тела непосредственно действуют друг
на друга, то они соприкасаются друг с другом. Вещи, которые соприкасаются, не
находятся на расстоянии друг от друга. Следовательно, два тела никогда не
действуют друг на друга непосредственно, если они находятся на расстоянии друг
от друга, и т. д. Данная дефиниция, однако, казуистична. Не всякая
непосредственная наличность [тел] есть [их] соприкосновение, а только наличность
посредством непроницаемости; все же остальное построено на песке. Я продолжаю свое
рассуждение. Из приведенных примеров следует, что и в метафизике, и в других
науках можно многое с достоверностью сказать о предмете, не давая его
дефиниции. В самом деле, в данном случае не было определено, что такое тело или
что такое пространство, и тем не менее мы и о том и другом имеем достоверные положения.
Главное, на что я обращаю здесь внимание, состоит в следующем: в метафизике,
безусловно, надлежит применять аналитический метод, ведь ее задача, несомненно,
в том, чтобы разъяснять путаные знания. Если же сравнить с этим метод
философов, принятый во всех школах, то нельзя не признать его извращенным.
Отвлеченнейшие понятия, к которым рассудок естественным образом приводит в
конце, у них составляют начало, потому что на уме у них — план математиков,
которому они во что бы то ни стало хотят подражать. Между метафизикой и всякой
другой наукой имеется поэтому своеобразное различие. В геометрии и других науках
о величинах начинают с более простого и медленно восходят к выполнению более
261
трудных
заданий. В метафизике начинают с самого трудного — с возможности и существования
вообще, с необходимости и случайности и т. п., т. е. только с таких понятий, которые
требуют большой абстракции и внимания в особенности потому, что их знаки при
применении приобретают множество едва заметных оттенков, что не следует упускать
из виду. Хотят во что бы то ни стало придерживаться синтетического метода.
Поэтому с самого начала дают определения и из них затем с уверенностью делают
выводы. Философы этого склада поздравляют друг друга с тем, что они научились у
геометрии тайне основательного мышления, и совершенно не замечают, что геометры
приобретают понятия путем сложения, тогда как метафизики могут сделать
это исключительно только путем расчленения, что совершенно меняет метод
мышления.
Напротив, как только философы
пойдут по естественному пути здравого смысла, отыскивая прежде всего то, что
они с достоверностью знают об отвлеченном понятии предмета (например, о
пространстве или времени), нисколько не претендуя еще на определения; если они
будут делать выводы, только исходя из этих несомненных данных; если они при
каждом новом применении понятия будут обращать внимание на то, не изменилось ли
и само понятие, хотя бы знак его и оставался тем же, — то они, быть может, не будут
выставлять напоказ такое множество воззрений, но зато те, которые они будут
тогда излагать, будут цениться выше. По поводу этого я хочу привести еще один
пример. Большинство философов, говоря о смутных понятиях, ссылаются на понятия,
возникающие у нас в состоянии глубокого сна. Смутные представления — это
те, которых мы не сознаем. Но наблюдения показывают, что мы и в глубоком сне
имеем представления, и так как мы не сознаем их, то отсюда мы заключаем, что
они были смутными. Здесь сознание имеет двоякое значение. Мы можем не
сознавать того, что имеем известное представление или что мы имели его. Первое
означает смутность представления в том виде, в каком оно имеется в душе; второе
означает только то, что мы не можем его вспомнить. Приведенный пример показывает
лишь,
262
что могут существовать представления, которых мы не
можем вспомнить в состоянии бодрствования, но отсюда вовсе не следует, что и во
сне эти представления не были ясно осознаны, как это очевидно из приведенного
г-ном Соважем4 примера с больными, страдающими
каталепсией, или из обычных действий лунатиков. Между тем слишком легко делают
выводы, не обращая предварительно внимания на то, какое значение приобретает то
или иное понятие в различных обстоятельствах. Поэтому проходят в данном случае
мимо великой, пожалуй, тайны природы, а именно вполне вероятно, что как раз в
самом глубоком сне душа больше всего способна к разумному мышлению; ведь для утверждения
противоположного есть только одно основание, а именно что об этом нельзя
вспомнить в состоянии бодрствования; но подобное основание ничего не
доказывает.
Еще далеко до того времени,
когда в метафизике можно будет применять синтетический метод. Только после того
как анализ поможет нам приобрести ясные и полностью усвоенные понятия, синтез
окажется в состоянии, как это имеет место в математике, подчинить сложные
познания простейшим.
РАССУЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕ
О ПРИРОДЕ ДОСТОВЕРНОСТИ В МЕТАфИЗИКЕ
§ 1
Достоверность
в философии имеет вообще иную природу, чем в математике
Обладают достоверностью,
когда признают, что невозможно, чтобы данное познание было ложным. Степень этой
достоверности, если рассматривать ее объективно, зависит от
достаточности признаков необходимости данной истины; рассматриваемая же субъективно,
эта степень тем больше, чем более наглядно познание этой необходимости. И в том
и в другом отношении математическая достоверность существенно отли-
263
чается
от достоверности философской. Я докажу это самым наглядным образом.
Человеческий ум, как и всякая
другая сила природы, связан определенными законами. Ошибаются не потому, что ум
соединяет понятия, не соблюдая правил, а потому, что и за ним отрицают тот
признак, который не замечают в вещи, и считают, что то не существует,
чего не сознают как относящееся к вещи. Но во-первых, математика
приходит к своим понятиям синтетически и может с уверенностью сказать: то, что
она не имела в виду представить себе в своем предмете через дефиницию, в нем и
не содержится. Ведь понятие того, что определено, возникает только через
определение и имеет лишь то значение, которое ему дает дефиниция. Если сравнить
с этим философию, и в особенности метафизику, то окажется, что ее определения,
когда она решается дать таковые, гораздо менее достоверны. Ведь понятие того,
что подлежит определению, [здесь] дано. И если не замечают того или другого
признака, который тем не менее требуется для достаточного распознания этого
понятия, и считают, что к развитому понятию подобный признак не относится, то получается
неправильная и обманчивая дефиниция. Подобного рода ошибки можно было бы
наглядно пояснить бесчисленными примерами, но я сошлюсь здесь только на
сказанное выше о соприкосновении. Во-вторых, в своих выводах и
доказательствах математика рассматривает свое общее знание при помощи знаков in concreto,
философия же наряду со знаками — все еще in аbstracto. Это
и составляет значительное различие в том способе, каким обе науки достигают
достоверности. В самом деле, так как знаки математики представляют собой
чувственно воспринимаемые средства познания, то здесь можно с той же
уверенностью, какую имеют, когда видят собственными глазами, знать также и то,
что никакое понятие не упущено, что каждбе отдельное сравнение делается в
соответствии с легко применимыми правилами и т. д. При этом здесь гораздо легче
сосредоточить внимание, потому что принимать в соображение здесь следует не
общее представление о вещах, а единичное чувственное познание знаков. Напротив,
264
слова
как знаки философского познания помогают только вспоминать обозначаемые ими
общие понятия. Их значение всегда необходимо иметь непосредственно перед
глазами. Чистый рассудок должен быть постоянно в напряжении. И как незаметно
ускользает от нас тот или другой признак обособленного понятия, когда ничто
чувственно воспринимаемое не может обнаружить нам его отсутствие; но в таком
случае различные вещи принимают за тождественные и возникают ошибочные знания.
Итак, здесь доказано, что те
основания, исходя из которых можно заключить, что в том или ином философском
познании невозможно было ошибиться, взятые сами по себе, никогда не могут
равняться р теми основаниями, с которыми имеет дело математическое познание. Но
помимо этого и наглядности такого познания, если речь идет о его правильности,
в математике больше, чем в философии, так как в первой объект рассматривается в
чувственно воспринимаемых знаках in
concreto, а во второй — всегда только в общих отвлеченных понятиях, ясность
которых далеко не такая, как ясность математических знаков. В геометрии, где
эти знаки, кроме того, имеют еще и сходство с обозначаемыми ими вещами, этой
очевидности еще больше, хотя достоверность и в алгебре столь же несомненна.
§ 2
Метафизике
доступна достоверность, достаточная для убеждения
Достоверность в метафизике —
того же рода, что и достоверность всякого другого философского познания, так
как и последнее может обладать достоверностью лишь постольку, поскольку оно
соответствует тем общим основаниям, которые дает метафизика. Из опыта известно,
что на основании разумных доводов мы можем во многих случаях и за пределами математики
достичь достоверности, вполне достаточной для
265
убеждения.
Метафизика есть философия, примененная лишь к более общим познаниям разума, и
дело никак не может обстоять иначе.
Ошибки возникают не только
потому, что тех или иных вещей не знают, но и потому, что берутся высказывать
суждение, хотя еще не знают всего, что для этого [суждения] требуется.
Громадное большинство ошибок, даже почти все, обязано своим происхождением
указанному недостатку. Вам достоверно известны некоторые предикаты вещи.
Прекрасно. Положите их в основание своих умозаключений, и вы не ошибетесь. Но
вы во что бы то ни стало хотите иметь дефиницию, хотя вы не уверены, что знаете
все, что для этого требуется; а так как вы, несмотря на это, все же решаетесь
дать дефиницию, то вы и впадаете в ошибки. Вполне возможно поэтому избежать
ошибок, если искать достоверных и отчетливых познаний, не намереваясь вместе с
тем с такой легкостью давать дефиниции. Далее, вы можете с уверенностью сделать
заключение о значительной части какого-нибудь результата. Не позволяйте же себе
делать заключения о всем результате, каким бы незначительным ни казалось вам
имеющееся здесь различие. Я допускаю, что доводы, которыми располагают для
доказательства того, что душа не есть материя, верны. Но остерегайтесь
заключать отсюда, что душа не обладает материальной природой. Ведь под этим
каждый понимает не только то, что душа не есть материя, но и то, что она не
есть такая простая субстанция, которая может быть элементом материи. Но это
требует особого доказательства, а именно что эта мыслящая сущность находится в
пространстве не так, как телесный элемент, [т. е.] не благодаря
непроницаемости, и что вместе с другимй [подобными мыслящими сущностями] она не
может образовать нечто протяженное и материальную массу. В самом деле, в пользу
этого не приведено еще ни одного доказательства, которое, если бы его нашли,
раскрыло бы нам непостижимое — каким образом дух присутствует в пространстве.
266
Достоверность первых основных истин в метафизике —
того же рода, что и истины в любом другом познании, основанном на разуме, за
исключением математики
В наши дни г-н Крузий* в своей философии пытался дать
метафизическому познанию совершенно иной вид тем, что отказал закону
противоречия в привилегии быть всеобщим и высшим принципом всего познания, а
также тем, что ввел много других непосредственно достоверных и недоказуемых
принципов и утверждал, что их правильность можно понять из природы нашего
рассудка, руководствуясь правилом: то, что я могу мыслить только как истинное,
истинно5. К подобным принципам относятся: что́
я не могу мыслить существующим, того никогда и не было; каждая вещь должна
существовать где-то и когда-то и т. п. Я покажу в немногих словах подлинный
характер первых основных истин метафизики, а также действительное содержание
метода г-на Крузия, который в только что указанном отношении не так уж
отклоняется от [господствующего] образа мыслей в философии, как это думают.
Отсюда же можно будет заключить вообще о степени возможной достоверности
метафизики.
Все истинные суждения должны
быть или утвердительными, или отрицательными. Так как форма каждого утверждения
состоит в том, что нечто представляют как некоторый признак вещи, т. е. как
нечто одинаковое с признаком этой вещи, то каждое утвердительное суждение
истинно, если предикат тождествен с субъектом. И так как форма всякого
отрицания состоит в том, что нечто представляют как противоречащее
данной вещи,
267
то
отрицательное суждение истинно, если предикат противоречит субъекту. Следовательно,
положение, выражающее сущность всякого утверждения и, стало быть, составляющее
высшую формулу всех утвердительных суждений, гласит: каждому субъекту присущ
предикат, который с ним тождествен. Таков закон тождества. А так как
положение, выражающее сущность всякого отрицания, — ни одному субъекту не
присущ предикат, который ему противоречит, — есть закон противоречия, то
этот закон представляет собой первую формулу всех отрицательных суждений. Оба
вместе они составляют высшие и всеобщие в формальном смысле принципы всего
человеческого разума. И в этом именно отношении большинство ошибалось, признавая
за законом противоречия то место в отношении всех истин, которое он занимает
лишь в отношении отрицательных истин. Но всякое положение, которое мыслится как
непосредственно подчиненное одному из этих высших принципов и иначе мыслиться
не может, недоказуемо, а именно когда или тождество, или противоречие
непосредственно содержится в понятиях и путем расчленения не может или не
должно усматриваться с помощью какого-то промежуточного признака. Все другие
положения доказуемы. Утверждение тело делимо есть доказуемое положение,
так как путем расчленения и, следовательно, опосредствованно можно показать
тождество предиката и субъекта: тело есть нечто сложное, а все, что сложно, делимо;
следовательно, тело делимо. Промежуточным признаком служит здесь быть
сложным. В философии есть много недоказуемых положений, как это и было
указано выше. Все они подчинены, правда, формальным первым принципам, но
подчинены непосредственно; поскольку же они в то же время содержат в себе
основания для других познаний, постольку они первые материальные принципы
человеческого разума. Например, утверждение тело есть нечто сложное
представляет собой недоказуемое положение, поскольку предикат [сложности], как
непосредственный и первичный признак, мыслим только в понятии тела. Такие материальные
принципы составляют, как справедливо говорит Крузий, прочную основу
268
человеческого
разума. Ибо, как мы выше упоминали, они составляют материал для определений и
служат теми данными, из которых с уверенностью можно делать выводы, даже не
располагая никаким определением.
И здесь Крузий прав, когда он
осуждает другие философские школы за то, что они прошли мимо этих материальных
принципов и придерживались только формальных. На основе одних формальных
принципов действительно ничего нельзя доказать, так как [для доказательства]
требуются такие положения, которые содержат в себе средний термин, с помощью
которого можно в умозаключении познать логическое отношение других понятий, а
некоторые из этих положений необходимо должны быть первичными. Некоторым положениям,
однако, никогда нельзя приписать значение материальных высших принципов, если
они не очевидны для всякого человеческого ума. Впрочем, я того мнения, что
некоторые из приводимых Крузием положений вызывают даже серьезные сомнения.
Что же касается высшего
правила всякой достоверности, которое сей знаменитый муж полагает предпослать
всякому, а, следовательно, также и метафизическому познанию, а именно: то,
что́ я не могу мыслить иначе как истинное, истинно и т. д., то
нетрудно видеть, что это положение никогда не может быть основанием истинности
какого бы то ни было познания. В самом деле, если признать, что можно привести
лишь одно-единственное основание истинности, а именно что нельзя нечто не
считать истинным, то этим дают понять, что вообще нельзя уже указать никакого
основания истинности и что познание недоказуемо. Конечно, существует много
недоказуемых знаний, однако чувство убеждения в их истинности есть признание,
но не доказательство того, что они истинны.
Вот почему формальные или
материальные основания достоверности в метафизике — того же рода, что и в
геометрии. В обеих науках формальная сторона суждений постигается по законам
тождества и противоречия. В той и другой имеются недоказуемые положения,
которые составляют основу умозаключений. Раз-
269
личие заключается здесь лишь в том, что в математике
дефиниции — это первичные недоказуемые понятия определяемых вещей; в метафизике
же различные недоказуемые положения должны вместо них указывать первые данные,
обладающие такой же степенью достоверности, и служить либо материалом для
определений, либо основанием для верных выводов. Метафизике и математике
одинаково доступна достоверность, необходимая для убедительности, с той только
разницей, что математическая достоверность легче и более наглядна.
РАССУЖДЕНИЕ
ЧЕТВЕРТОЕ
ОБ ОТЧЕТЛИВОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ,
ДОСТУПНЫХ ПЕРВЫМ ОСНОВАНИЯМ ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЕОЛОГИИ И МОРАЛИ
§ 1
Первым
основаниям естественной теологии доступна величайшая философская очевидность
Легче и отчетливее всего
можно отличить какую-нибудь вещь от всех других, когда она единственно
возможная в своем роде. Предмет естественной религии — единая первопричина; его
определения таковы, что их не легко смешать с определениями других вещей. Но
наибольшая степень убежденности возможна там, где безусловно необходимо, чтобы
данной вещи были присущи именно эти, а не какие-либо другие предикаты. В самом
деле, при случайных определениях большей частью бывает трудно отыскать изменчивые
условия ее предикатов. Поэтому безусловно необходимое существо есть такой объект,
что, как только мы попадаем на истинный след понятия о нем, оно, по всей видимости,
начинает сулить нам еще большую достоверность, чем большинство других философски-х
познаний. Задача моя может состоять здесь лишь в том, чтобы принять в соображение
возможное философское познание бога вообще, так как потребовалось бы слишком
много времени, если бы мы захотели рассмотреть все имеющиеся учения философов
об этом предмете.
270
Основное
понятие, которое имеет здесь перед собой метафизик, — это безусловно необходимое
существование некоего существа. Чтобы прийти к этому понятию, метафизик мог бы
прежде всего поставить вопрос: возможно ли, чтобы совершенно ничего не существовало?
И вот если ему станет ясно, что в таком случае совсем не дано никакого бытия,
что ничего нельзя мыслить и не имеет места никакая возможность, то ему
остается исследовать лишь понятие о том, что лежит в основе всякой возможности.
Эта мысль получит более широкий смысл и приведет к установлению определенного
понятия о безусловно необходимом существе. Однако, и не вдаваясь в подробности
при рассмотрении этого вопроса, можно сказать, что, как только будет познано
бытие единого, самого совершенного и необходимого существа, понятия об
остальных его определениях сделаются гораздо более точными, потому что они
всегда высшие, и самые совершенные, и гораздо более достоверные, потому что
признать можно будет только те из них, которые необходимы. Мне нужно, например,
определить понятие божественного вездесущия. Я легко узнаю, что
существо, от которого зависит все другое, но которое само ни от чего не зависит,
будет, правда, благодаря своему наличию определять для всех других существ мира
их место, но для самого себя оно не будет определять среди них
никакого места; ведь в противном случае оно само принадлежало бы к миру. Бог,
следовательно, не находится, собственно говоря, ни в каком месте, но он
присутствует во всех вещах, во всех местах, где только находятся эти вещи.
Равным образом я вижу, что, поскольку следующие друг за другом вещи в мире
подвластны ему, сам он этим не определяет для себя какого-либо момента в этой
последовательности и что поэтому по отношению к нему нет ничего прошедшего или
будущего. Если, стало быть, я скажу: бог предвидит будущее, то это не значит,
будто бог видит то, что является будущим по отношению к нему; это лишь
значит, что бог видит то, что является будущим для тех или иных вещей в
мире, т. е. то, что следует за некоторым состоянием их. а отсюда явствует, что
по отношению к действию божественного
271
разума
нет разницы между познанием будущего и познанием прошедшего или настоящего, что
все это он познает как действительные вещи Вселенной; и это предвидение можно представить
себе в отношении бога гораздо определеннее и отчетливее, чем в отношении вещи,
принадлежащей к совокупности мира.
Поэтому там, где нет аналогии
с случайным, метафизическое познание о боге может быть весьма достоверным.
Однако суждение о его свободных действиях, о провидении, о путях его
справедливости и благости, поскольку в самих понятиях, которые мы имеем об этих
определениях, есть еще много невыясненного, может иметь в теологии только
приблизительную достоверность или достоверность морального характера.
§ 2
Первым
основаниям морали в их настоящем состоянии еще не доступна требуемая очевидность
Чтобы разъяснить это, я
покажу только, как мало известно нам даже о первичном понятии обязанности и как
далеки мы, следовательно, еще от того, чтобы в практической философии сообщить
[ее] основным понятиям и принципам требуемую ясность и достоверность. До́лжно
делать то-то и то-то, а другого не делать — такова формула, выражающая всякую
обязанность. Но всякое долженствование выражает некоторую необходимость
действия и может иметь двоякое значение. В самом деле, или я должен
делать что-то (в качестве средства), когда я хочу чего-то другого (в
качестве цели), или я должен делать и осуществлять нечто другое
(как цель) непосредственно. Первое можно было бы назвать необходимостью
средств (nécessitas problematica)
второе — необходимостью целей (nécessitas
legalis). Первый вид необходимости вовсе не указывает на какую-либо обязанность,
а содержит в себе только предписание, как разрешить некую проблему: какими средствами
я должен пользоваться,
272
если я хочу достигнуть определенной цели. Тот, кто
предписывает другому, какие действия он должен совершить и от каких
воздержаться, если хочет содействовать своему счастью, мог бы, пожалуй,
подвести под это все наставления морали; но тогда они были бы уже не
обязанностями, а чем-то подобным обязанности провести две пересекающиеся дуги,
если я хочу разделить прямую линию на две равные части, т. е. они были бы не обязанностями,
а всего лишь указаниями, как действовать, чтобы достичь цели. Но так как применение
средств не имеет никакой другой необходимости, кроме той, которая присуща цели,
то все действия, которые мораль предписывает нам для осуществления определенных
целей, случайны и их нельзя назвать обязанностями до тех пор, пока они не подчинены
некоторой самой по себе необходимой цели. Допустим, например, что я должен
способствовать осуществлению всей совокупности совершенства или что я должен
поступать согласно божьей воле; какому бы из этих двух положений ни была подчинена
вся практическая философия, такое положение, если только оно должно быть
правилом и основанием обязанности, должно предписывать поступок как
непосредственно необходимый, а не для осуществления определенной цели. И здесь
мы обнаруживаем, что подобное непосредственное высшее правило всякой
обязанности должно быть безусловно недоказуемым, потому что ни из какого
рассмотрения вещи или понятия, каково бы оно ни было, невозможно ни познать, ни
сделать вывод о том, что до́лжно, если только предпосылкой не служит некоторая
цель, а поступок — средством [для ее достижения]. Но как раз этого-то здесь и
не должно быть, так как в противном случае получилась бы формула не обязанности,
а умения решать проблемы.
Теперь я могу сказать
несколько слов о том, что после долгого размышления над этим предметом я пришел
к убеждению, что правило — делай совершеннейшее из возможного для тебя — есть
первое формальное основание всякой обязанности действовать, равно
как и положение — не делай того, что с твоей стороны было бы препятствием к
возможно большему совершенству, —
273
также
есть формальное основание для обязанности [чего-то] не делать. И точно
так же как из первых формальных принципов наших суждений об истинном ничего не
вытекает, если не дано первых материальных оснований, так и из одних только
этих двух правил добра не следует еще никакой особо определенной обязанности,
если с ними не связаны недоказуемые материальные принципы практического
познания.
Только в наши дни начали
понимать, что способность представлять истинное есть познание,
способность же ощущать добро есть чувство и что обе эти
способности нельзя смешивать. Подобно тому как существуют нерасчленимые понятия
истинного, т. е. того, что имеется в предметах познания, рассматриваемых самих
по себе, точно так же существует и неразложимое чувство добра (оно никогда не
бывает в вещи, как таковой, а всегда имеется лишь по отношению к воспринимающему
существу). Разбирать и разъяснять сложное и запутанное понятие добра — дело
рассудка, который при этом показывает, как это понятие возникает из более
простых ощущений добра. Но если добро есть нечто простое, то суждение это есть
добро совершенно недоказуемо и будет непосредственным действием сознания
чувства удовольствия вместе с представлением о предмете. И так как в нас, без
всякого сомнения, имеется множество простых ощущений добра, то существует также
и много подобного рода неразложимых представлений. Если поэтому тот или иной поступок
непосредственно представляется как добрый, не заключая в себе в скрытом виде
какого-либо другого блага, которое может быть усмотрено в нем путем расчленения
и благодаря которому этот поступок называется совершенным, то необходимость
этого поступка есть недоказуемый материальный принцип обязанности. Например,
люби того, кто тебя любит, есть практическое положение, которое, правда,
подчинено высшему формальному и утвердительному правилу обязанности, но
подчинено ему непосредственно. В самом деле, так как путем расчленения понятия
нельзя уже показать, почему во взаимной любви заключается особое совер-
274
шенство,
то это правило не может быть доказано практически, т. е. посредством сведения
его к необходимости некоторого другого совершенного действия, а непосредственно
подводится под общее правило добрых поступков. Возможно, что приведенный мной пример
не показывает существа дела с достаточной ясностью и убедительностью, однако
рамки такого сочинения, как наше, которые я, быть может, уже перешагнул, не позволяют
мне достичь желательной полноты. Есть что-то непосредственно отталкивающее в
поступках, противоречащих воле того, от кого проистекает и наше существование,
и всякое благо. Отвратительность эта ясна, если даже не обращать внимания на
ущерб, который может в качестве следствия сопутствовать такому образу действия.
Вот почему положение делай то, что согласно воле бога, становится
материальным принципом морали и хотя формально и подчинено упомянутой высшей и
общей формуле, но подчинено ей непосредственно. И в практической философии, как
и в теоретической, не следует слишком легко принимать за недоказуемое то, что в
действительности доказуемо. Вместе с тем нельзя обойтись без этих принципов, в
качестве постулатов содержащих в себе основания для остальных практических
положений. Хатчесон6 и другие, пользующиеся
термином морального чувства, положили здесь начало прекрасным высказываниям.
Отсюда видно, что хотя и
возможно достигнуть высшей степени философской очевидности первых оснований
нравственности, но прежде всего должны быть точнее определены высшие основные
понятия обязанности, и в этом отношении недостатки практической философии еще
более значительны, чем недостатки умозрительной философии, поскольку еще должно
быть выяснено, только ли познавательная способность или же чувство (первое,
внутреннее основание способности желания) имеет решающее значение для первых
принципов нравственности.
Приписка
Таковы мысли, которые я отдаю
на суд Королевской академии наук. Я смею надеяться, что высказанные
275
мной соображения будут иметь некоторое значение для
необходимого разъяснения предмета. Что касается тщательности, аккуратности и изящества
изложения, то я скорее был готов кое-что упустить в этом отношении, чем из-за
этого лишить себя возможности представить это сочинение в надлежащий срок для
рассмотрения, тем более что в случае благоприятной оценки этот недостаток можно
легко исправить.
УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСПИСАНИИ ЛЕКЦИЙ НА ЗИМНЕЕ ПОЛУГОДИЕ
1765/66 г.
![]()
Наставлять юношество трудно,
потому что в смысл в уразумения приходится, не считаясь с возрастом, забегать
вперед и, не дожидаясь зрелости рассудка, сообщать такие знания, которые в
естественном порядке могли бы быть усвоены лишь более искушенным и изощренным
умом. Отсюда возникают вечные предрассудки в школах, более упорные и часто
более нелепые, чем обычно встречающиеся, и скороспелая болтливость юных мыслителей,
отличающаяся большей слепотой, чем всякое другое самомнение, и более неисцелимая,
чем невежество. Тем не менее совершенно избежать этой трудности нельзя, так как
в век чрезвычайно изысканного общественного устройства утонченные воззрения
принадлежат к средствам преуспеяния и становятся потребностями, которые по
своей природе относятся, собственно говоря, только к украшению жизни и, можно
сказать, к тому прекрасному в ней, без чего можно обойтись. Впрочем, публичное
обучение можно и в этой его части в значительной мере сообразовать с природой,
если и не вполне согласовать с ней. В самом деле, естественный прогресс
человеческого познания состоит в том, что сначала развивается рассудок — на
основе опыта он доходит до ясных суждений и через их посредство до понятий, —
затем эти понятия познаются разумом в соотношении с их основаниями и
следствиями и, наконец, систе-
279
матизируются
наукой. Поэтому и наставление [юношества] должно идти по тому же самому пути.
От преподавателя, стало быть, следует ожидать, чтобы он своего слушателя сделал
сначала человеком рассудительным, затем разумным и, наконец, ученым.
Такой метод имеет то преимущество, что если бы ученик даже никогда не достиг
последней ступени, как это обычно и бывает, то он все же извлек бы пользу из
такого обучения если не для школы, то по крайней мере для жизни: он приобрел бы
больше опыта и стал бы более здравомыслящим.
Если же перевертывают этот
метод, то ученик подхватывает что-то от разума, прежде чем у него развит
рассудок, и пользуется чужими мыслями в науке, до которой он еще не дорос[21], причем его душевные способности столь же бесплодны,
как и раньше, но только стали гораздо более извращенными от воображаемой
мудрости. В этом причина того, почему нередко встречают ученых (вернее, людей с
образованием), которые обнаруживают мало ума, и почему академии выпускают
больше бестолковых людей, чем какие-либо другие круги общества.
Действовать поэтому следует
по такому правилу: прежде всего дать созреть рассудку и ускорять его рост,
упражняясь в основанных на опыте суждениях и обращая его внимание на то, чему
его может научить сопоставление ощущений его органов чувств. От этих суждений
или понятий к более высоким и широким он не должен переходить каким-то смелым
скачком, а должен их достигать естественной и проторенной тропой низших
понятий, которые постепенно ведут его дальше; но все это — в соответствии с
умственной способностью, которую с необходимостью должно было вызвать в нем
предшествующее упражнение, а не с той способностью, которую видит или думает,
что видит, в самом себе его учитель и которую он ошибочно предполагает также и
у своих слушателей. Словом, не мыслям он должен учить, а мыслить;
слушателя нужно не вести за руку, а им руководить, если хотят,
чтобы в будущем он был способен идти самостоятельно.
280
Такого способа обучения
требует сама природа философии. Но так как философия есть, собственно говоря,
занятие для зрелого возраста, то не удивительно, что возникают трудности, когда
занятие ею хотят приспособить к еще не окрепшим способностям юношеского
возраста. Окончивший школу юноша привык учиться. Он думает, что будет учиться
философии, но это невозможно, так как теперь он должен учиться
философствовать. Попытаюсь выразить свою мысль яснее. Все науки, которые
можно изучать в собственном смысле, можно разделить на два вида: исторические
и математические. К первым относятся кроме собственно истории также
описание природы, языковедение, позитивное право и т. д. Так как во всем, что
относится к истории, имеет значение собственный опыт или чужое свидетельство, в
том же, что относится к математике, — очевидность понятий и неопровержимость
доказательства и поскольку то и другое есть действительно нечто данное и,
следовательно, находящееся в запасе и только требующее как бы усвоения, — то
обеим наукам можно учиться, т. е. либо в памяти, либо в уме запечатлевать то,
что может быть нам предложено как некоторая уже готовая дисциплина. Таким
образом, дабы учиться также и философии, нужно прежде всего, чтобы
какая-нибудь философия действительно существовала. Нужно было бы показать
какую-то книгу и иметь право сказать: смотрите, вот здесь мудрость и
достоверное знание; учитесь понимать и усваивать это, а потом стройте на этом
основании, и вы будете философами. И вот до тех пор пока мне не покажут такой
книги по философии, на которую я мог бы сослаться, как ссылаются, например, на
Полибия, чтобы объяснить какое-нибудь историческое событие, или на Евклида для
объяснения какого-то положения геометрии, да будет позволено мне сказать следующее:
не развивать умственные способности вверенного [нам] юношества и не подготовлять
его к более зрелому в будущем самостоятельному пониманию вещей, а вместо
этого вводить его в заблуждение мнимозаконченной философией, придуманной якобы
для его блага другими, — значит злоупотреблять доверием
281
общества.
Так возникает иллюзия науки, принимаемая за чистую монету лишь в определенном
месте и среди определенного круга людей, а вообще-то пользующаяся повсеместно
дурной славой. Характерный метод обучения в философии — это метод дзететический,
как его называли некоторые античные [авторы] от ζητεῖν,
т. е. метод исследования, который лишь у более искушенного опытом разума
становится в разных частях своих догматическим, т. е. решающим.
Точно так же и автора философского сочинения, которое кладут в основу
преподавания, следует рассматривать не как какой-то образец для суждения, а
всего лишь как повод к суждению о нем самом и даже против него, и именно метод самостоятельного
размышления и умозаключения, усвоить который стремится ученик, единственно и
может быть для него полезным. А те определенные воззрения, которые, быть может,
[ученик] при этом приобретает, следует рассматривать как случайные результаты
этого метода, для умножения которых ученику надлежит заложить в себе лишь
плодотворные основы.
Если сравнить с этим методом
столь отличный от него общепринятый способ, то становится понятным многое из
того, что раньше казалось странным. Например, почему нет никакого другого вида
профессиональной учености, где можно было бы встретить столько мастеров
своего дела, как в философии, и почему, с одной стороны, многие из изучивших
историю, юриспруденцию, математику и т. п. сознают, что они недостаточно учены,
чтобы учить этому других, а с другой стороны, лишь редко встретишь человека,
который всерьез не воображал бы, что помимо других своих занятий он отлично мог
бы преподавать, скажем, логику, мораль и тому подобное, если бы он только
захотел заниматься такими пустяками. Причина этого в том, что в тех науках
имеется какое-то общее мерило, тогда как здесь у каждого свое собственное
мерило. Равным образом нетрудно понять, что философии совсем не подобает быть
искусством добывания хлеба насущного, поскольку самой ее природе противно
приспособление к непостоянству спроса и закону моды,
282
и что
только житейские потребности, все еще тяготеющие над философией, могут принудить
ее подлаживаться к тому или иному виду общего одобрения.
Науки, которые я имею в виду
изложить и подробно рассмотреть в начинающемся полугодии в своих приватных
лекциях, следующие:
1. Метафизика. В небольшом и наскоро написанном сочинении* я старался показать, что эта наука,
несмотря на большие усилия ученых, потому еще остается столь несовершенной и
недостоверной, что неправильно судили о характерном для нее методе, поскольку
он не синтетический, как метод математики, а аналитический. Поэтому простое и
самое общее в учении о величинах есть также и наиболее легкое, в главной же
науке — самое трудное; в математике это простое и самое общее согласно своей природе
должно быть первым, а в метафизике — последним. В математике начинают с
дефиниций, в метафизике ими кончают, и так в других разделах [этих наук]. Я
давно работаю по этому плану, и так как каждый шаг на этом пути раскрывал мне
источник ошибок и тот критерий суждений, применяя который единственно только и
можно избежать этих ошибок, если их только вообще возможно избежать, то я надеюсь,
что скоро буду уже в состоянии во всей полноте представить то, что можст мне
служить для обоснования моих лекций по названной науке. А пока рекомендую
автора, а именно А. Г. Баумгартена, который идет по тому же пути и книгу
которого я избрал главным образом за богатство содержания и точность его
метода. Поэтому после краткого введения я начинаю с эмпирической психологии,
которая представляет собой, собственно говоря, основанную на опыте метафизическую
науку о человеке; что касается выражения душа, то в этом разделе нельзя
еще утверждать, что человек ее имеет. Второй раздел, предметом которого должна
быть природа тел вообще, я заимствую из основных частей космологии,
где речь идет о материи. Эти части я дополню, однако,
283
несколькими
выводами, изложенными в письменном виде. Гак как, далее, в первой из этих наук
(к которой по аналогии присовокупляется также эмпирическая зоология, т. е.
изучение животных) рассматривается все живое, доступное восприятию наших
чувств, а во второй — все вообще неживое и так как все вещи в мире можно
отнести к этим двум классам, то непосредственно за тем я перехожу к онтологии,
т. е. к науке об общих свойствах всех вещей, в заключении которой
рассматривается различие между духовными и материальными
субстанциями, а равно и связь или разобщение их и, следовательно, рациональная
психология. Здесь у меня большое преимущество. Я не только ввожу в труднейшее
из всех философских исследований уже подготовленного слушателя, но добиваюсь
наибольшей ясности во всем, поскольку при рассмотрении каждого вопроса я разбираю
абстрактное, исходя из того конкретного, которое дают мне предшествующие дисциплины;
при этом я ничего не предвосхищаю, т. е. не привожу для разъяснения ничего из
того, что встретится лишь в дальнейшем; тем самым избегаю общей и неминуемой
ошибки всякого синтетического изложения. В конце следует рассмотрение причины
всех вещей, т. е. наука о боге и мире. Не могу не упомянуть еще об одном
преимуществе, которое зависит, правда, от случайных причин, но которым тем не
менее пренебрегать нельзя и которое я также намерен извлечь из этого метода.
Всем известно, как ревностно живая, но непостоянная молодежь приступает вначале
к лекциям и как потом аудитории становятся все просторнее. И если предположить,
что то, что не должно происходить, все же вопреки всем напоминаниям произойдет,
то и тогда указанный метод преподавания сохранит присущую ему полезность. Ведь
слушатель, рвение которого само по себе испарилось бы к концу [изложения]
эмпирической психологии (чего, однако, при подобном способе [преподавания] вряд
ли можно ожидать), все же успел бы уже воспринять нечто такое, что доступно ему
по своей легкости, доставляет ему удовольствие своей занимательностью и полезно
ему в жизни, поскольку может быть часто применено. На-
284
оборот,
если бы онтология, одна из трудных наук, отбила у слушателя охоту продолжать
занятия, тогда и то, что он успел бы понять в ней, в дальнейшем оказалось бы
для него совершенно бесполезным.
2. Логика. Собственно говоря, есть два вида этой науки. Логика
первого вида представляет собой критику вместе с предписанием здравого ума,
который, с одной стороны, граничит с грубыми понятиями и невежеством, с другой
же — с наукой и ученостью. Это тот вид логики, который следует в самом начале
академического преподавания предпосылать всякой философии как некоторый
карантин (если мне будет позволено так выразиться), через который должен пройти
каждый учащийся, желающий перейти из области предрассудков и заблуждений в
сферу просвещенного разума и наук. Второй вид логики представляет собой критику
и предписание учености в собственном смысле слова; его необходимо
рассматривать только после тех наук, орудием которых он должен быть, дабы
применявшийся при занятии ими метод становился более правильным и природа
данной дисциплины была постигнута вместе со средствами ее совершенствования.
Так я в конце [изложения] метафизики исследую характерный для нее метод как
орудие этой науки, что было бы неуместным в начале ее [изложения], поскольку
невозможно объяснить правила, пока под рукой нет еще никаких примеров, из которых
можно было бы показать их in concreto. Преподаватель, конечно, должен владеть
подобным орудием до того, как он приступает к изложению науки, дабы самому
руководствоваться им, но объяснять его слушателю он всегда должен лишь в конце.
Критика вместе с предписанием всей философии как целого — эта полная логика —
может, таким образом, занять свое место в преподавании лишь в конце [изложения]
всей философии, так как только уже приобретенные в ней познания и история
человеческих мнений могут сделать возможными размышления о происхождении ее
воззрений и ошибок, только они могут составить точный план, по которому следует
возвести такое здание разума на долгое время и по всем правилам.
285
Я буду излагать логику
первого вида, и притом по учебнику г-на проф. Мейера, потому что он никогда не
упускает из виду границ намеченных здесь целей и в то же время пробуждает
желание наряду с культурой утонченного и изощренного ученостью разума заняться
развитием также и обыденного, правда, но деятельного и здравого ума: первую —
для жизни, посвященной умозрению, а второе — для деятельной и гражданской
жизни. При этом очень большое сходство материала дает в то же время повод в
связи с критикой разума обратить некоторое внимание также и на критику
вкуса, т. е. эстетику, поскольку правила первой всегда служат для
пояснения правил второй и их разграничение представляет собой средство к
лучшему пониманию их обеих.
3. Этика. Моральная философия имеет своеобразную судьбу: она
еще раньше, чем метафизика, приобретает видимость науки и основательности, хотя
ни того, ни другого у нее нет. Причина этого в том, что различие добра и зла в
поступках людей и суждение об их нравственной правомерности может быть легко и
правильно познано человеческим сердцем при помощи того, что́ называется
чувством (Sentiment), минуя окольный путь доказательства. Поскольку
вопрос по большей части ясен уже до приведения доводов разума (в метафизике
дело обстоит иначе), то нет ничего удивительного, что в моральной философии без
особых размышлений излагают в качестве пригодных доводы, имеющие только
видимость убедительности. Поэтому ничто так не распространено, как звание
философа-моралиста, и ничто не бывает так редко, как заслуженно носить это
звание.
Общую практическую
философию и этику я в этом полугодии
буду излагать по Баумгартену. Опыты Шефтсбери, Хатчесона и Юма хотя и
незакончены и страдают известными недостатками, тем не менее всего больше
преуспели в раскрытии первых основ всякой нравственности; в моем изложении они
будут уточнены и дополнены. а поскольку в этике я всегда обсуждаю. исторически
и философски то, что происходит, прежде чем указать на то, что должно
происходить, я объясню
286
и
метод, которым необходимо изучать человека, — не только человека,
который искажен изменчивым обликом, навязанным ему его случайным состоянием, и,
как таковой, даже философами почти всегда понимается превратно, но саму природу
человека, которая всегда остается той же, и свойственное ей место в мироздании,
дабы знали, какая степень совершенства отвечает его природе в состоянии грубой
и какая — в состоянии мудрой простоты и каково, с другой стороны, должно
быть предписание для его поведения, когда он, выйдя за пределы той и другой,
стремится дойти до высшей ступени физического или морального превосходства, в
большей или меньшей мере уклоняясь, однако, и от того и от другого. Этот метод
нравственного исследования — прекрасное открытие нашего времени — был
совершенно неизвестен древним, если представить его себе во всей полноте.
4. Физическая география. Уже в самом начале своей преподавательской деятельности
я понял, что пренебрежение к нуждам учащейся молодежи выражается прежде всего в
том, что она слишком рано научается умствовать, не обладая еще
достаточными историческими познаниями, которые могли бы заменить умудренность
опытом. Вот почему я задумал превратить историю теперешнего состояния
Земли, или географию в самом широком смысле слова, в занимательную и легкую
[для усвоения] совокупность тогот что могло бы подготовить учащуюся молодежь к
пользованию практическим разумом и возбудить в ней охоту все дальше развивать
содержащиеся в этой дисциплине первоначальные знания. Эту дисциплину по той
части ее, которая тогда привлекла к себе главное мое внимание, я назвал
физической географией. С тех пор я постепенно расширял этот первоначальный
очерк, и в настоящее время я намерен, несколько сократив раздел, касающийся
особых физических свойств Земли, выиграть время для того, чтобы подробнее
изложить другие ее части, еще более полезные. Эту дисциплину будут, таким
образом, составлять физическая, моральная и политическая география,
в которой сначала рассматриваются особые свойства природы во всех
трех
287
ее
царствах, однако преимущественно те из бесчисленного множества их, которые привлекают
своей редкостью или же влиянием, оказываемым ими через посредство торговли и
ремесел на государство, и тем самым больше всего способны возбудить всеобщую любознательность.
Эта часть, рассматривающая естественные условия всех материков и морей, как и
основание их связи, представляет собой подлинный фундамент всей истории, без
которой ее трудно было бы отличить от сказок. Второй раздел рассматривает
человека на всем земном шаре с точки зрения многообразия его
естественных свойств и моральных различий — весьма важное и столь же
привлекательное исследование, без которого вряд ли можно было бы высказать
какие-либо общие суждения о человеке и в котором сравнение людей между собой и
с моральным состоянием их в более ранние времена развертывает перед нашими
глазами великую картину всего человеческого рода. Наконец, исследуется
то, что можно признать результатом взаимодействия обеих упомянутых выше сил, а
именно состояние государств и народов на земле, но не в той мере, в какой это
состояние зависит от случайных причин — от предприимчивости и судеб отдельных
людей, как, например, от смены правителей, завоеваний и государственных
распрей, а в той, в какой оно зависит от более постоянных причин, лежащих в основе
тех случайных явлений, а именно: от положения этих стран, продуктов [труда],
нравов, ремесел, торговли и народонаселения. Но даже и омоложение, если
позволено так выразиться, науки со столь широкими перспективами приносит все же
свою большую пользу в сравнительно малом масштабе, поскольку таким лишь образом
достигается единство познания, без которого всякое знание полно пробелов. И
разве в такой век живых общественных связей, как нынешний, я не могу этот запас
самых разнообразных занимательных и поучительных знаний, к тому же легко
усвояемых и способствующих повседневному общению людей, отнести к той пользе,
принять которую в соображение отнюдь не унизительно для науки? По меньшей мере
для ученого не может быть приятным
288
оказываться сплошь и рядом в том трудном положении, в
каком находился оратор Исократ, который, когда его уговаривали что-то сказать,
должен был ответить: «То, что я знаю, неуместно, а того, что уместно, я не знаю».
Таково краткое уведомление о моих лекциях в первом полугодии. Я счел нужным его
опубликовать, для того чтобы можно было составить представление о способе
преподавания, в котором я счел полезным произвести кое-какие изменения. Mihi sic usus est: tibi quod opus est facto, face. Terentius [У меня такое обыкновение, а ты
поступай, как тебе нужно. Теренций]2.
ГРЕЗЫ ДУХОВИДЦА, ПОЯСНЕННЫЕ ГРЕЗАМИ МЕТАФИЗИКИ
1766
Velut аegri s
Finguntur
species.
Horatius
[Измышляются обманчивые
Видения, подобные грезам больного.
Гораций]
![]()
ПРЕДИСЛОВИЕ,
ОЧЕНЬ МАЛО ОБЕЩАЮЩЕЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
Царство теней — рай для
фантастов. Здесь они находят безграничную страну, где они могут возводить какие
угодно здания, не испытывая недостатка в строительном материале, который
обильно поставляется измышлениями ипохондриков, сказками нянюшек, монастырскими
россказнями о чудесах. Дело философов — чертить план и затем, по обыкновению,
вносить в него изменения или совсем отвергать. Один лишь священный Рим владеет
доходными провинциями в этом невидимом царстве, две короны которого поддерживают
третью — ветхую диадему его земного величия, а ключи к обоим вратам другого
мира в то же время подходят и к сундукам этого мира. Подобные привилегии мира
духов, поскольку это доказано основами государственной мудрости, намного выше
всяких бессильных возражений школьных мудрецов, а пользование или
злоупотребление ими уже слишком почтенно, для того чтобы оно нуждалось в столь
дурной критике. Однако почему эти обычные рассказы, которые принимаются с такой
верой и по крайней мере так слабо опровергаются, имеют хождение без всякой
пользы или безнаказанно и прокрадываются даже в разные учения, хотя они не
располагают доказательством, исходящим из соображения выгодности (argumentum аb utili) — этим самым убедительным из всех
доказательств? Где тот философ, который хоть раз в жизни не попал в положение
что ни на есть простодушнейшего
293
человека,
коль скоро ему приходилось считаться, с одной стороны, с заверениями разумного
и твердо убежденного очевидца, а с другой — с внутренним сопротивлением непреодолимого
сомнения? Должен ли он полностью отрицать подобные явления духов? Какие доводы
он может привести для их опровержения?
Должен ли он допустить вероятность
хотя бы одного из этих рассказов? Как велико было бы значение подобного признания
с его стороны и какие удивительные последствия стали бы неизбежными, если бы мы
могли предположить, что доказан хотя бы один подобный случай! Остается, правда,
еще третий исход, а именно вообще не заниматься такого рода нескромными и праздными
вопросами и держаться только того, что полезно. Но так как это
соображение разумно, то глубокими учеными оно всегда отвергается большинством
голосов.
Существуют два предрассудка,
одинаково нелепых: или, не имея на то основания, не верят ничему, хотя
многое в рассказе правдоподобно; или без всякой проверки верят всему, о
чем идет молва. Чтобы избежать первого предрассудка, автор отчасти отдал себя
во власть второго. С некоторым смирением он признает, что таким образом он
искренне хотел доискиваться правды в некоторых рассказах упомянутого рода. Он нашел,
как это всегда бывает, когда искать нечего... он не нашел ровно ничего. Такой результат
уже сам по себе служит достаточным основанием, для того чтобы написать книгу.
Сюда прибавилось еще одно обстоятельство, не раз вынуждавшее скромных авторов сочинять
книги, а именно неотступные просьбы знакомых и незнакомых друзей. Кроме того,
была куплена толстая книга и — что еще хуже — книга была прочитана: труд этот
не должен был пропасть даром. Таково происхождение настоящего сочинения,
которое, можно льстить себя надеждой, по самому существу предмета вполне
удовлетворит читателя, поскольку самого главного он не поймет, другое признает
недостоверным, а остальное будет им осмеяно.
294
ДОГМАТИЧЕСКАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ЗАПУТАННЫЙ МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ УЗЕЛ,
КОТОРЫЙ ПО ЖЕЛАНИЮ МОЖНО РАСПУТАТЬ ИЛИ РАЗРУБИТЬ
Если собрать воедино все, что
о духах машинально повторяет школьник, говорит толпа и объясняет философ, то
окажется, что это составляет немалую часть нашего знания. Тем не менее я
осмелюсь утверждать, что если кому-нибудь пришло бы в голову задать вопрос, что
же, собственно, понимают под духом, то он поставил бы всех этих всезнаек в
самое затруднительное положение. Методическая болтовня высших школ часто
представляет собой не что иное, как взаимное соглашение относительно того, как
различным толкованием слов обойти трудный вопрос, ведь произнести более удобное
и обычно благоразумное не знаю дипломированным ученым довольно трудно. Некоторые
новейшие философы, как они себя охотно называют, очень легко справляются с этим
вопросом. Дух, говорят они, есть существо, одаренное разумом. Поэтому нет
ничего сверхъестественного в способности видеть духов, так как всякий, кто
видит людей, видит существа, одаренные разумом. То существо, продолжают эти
мудрецы, которое в человеке наделено разумом, составляет лишь часть самого
человека, и вот эта-то часть, оживотворяющая его, и есть дух. Пусть так! Но
прежде чем доказывать, что только духовное существо может быть наделено
разумом, вам следует позаботиться о том, чтобы я знал, что подразумевается под
духовным существом. Очень легко понять происхождение этого самообмана, который
настолько груб, что его можно заметить с полуоткрытыми глазами. В самом деле,
обо всем том, о чем мы так много знаем в ранние детские годы, мы впоследствии,
в более зрелом возрасте, конечно, ничего не знаем и человек основательный в
конце концов становится самое большее софистом своего собственного юношеского
заблуждения.
295
Итак, я не знаю, существуют
ли духи; более того, я даже не знаю, что, собственно, обозначает слово дух.
Но так как я часто это слово употреблял или слышал его от других, то что-нибудь
должно же она значить — может быть, призрак или нечто действительное. Чтобы добраться
до скрытого значения этого слова, я попытаюсь приложить плохо понятое мной
понятие к разного рода случаям, и, замечая, с какими из них оно совпадает и каким
противоречит, я надеюсь обнаружить его скрытый смысл*.
Если пространство в один
кубический фут наполнено чем-то мешающим всякой другой вещи туда проникнуть, то
никто не станет это нечто находящееся в пространстве называть духовным
существом. Оно, очевидно, было бы названо материальным, так как оно
протяженно, непроницаемо и, как все телесное, делимо и подчинено законам
толчка. Здесь мы все еще следуем по пути, проложенному другими философами. Но
вообразите себе какое-нибудь простое существо и в то же время наделите его
разумом — будет ли такое существо соответствовать понятию дух? Чтобы
решить это, допустим, что разум присущ такому простому
296
существу
как некоторое внутреннее свойство, но я пока что рассматриваю его только в его внешних
отношениях [к миру]. Ставлю вопрос: если я попытаюсь поместить эту простую
субстанцию в наполненный материей кубический фут пространства, должен ли
простой элемент этой материи уступить свое место, чтобы его наполнил дух? Если
да, то это же пространство, чтобы принять еще второй дух, должно будет утратить
еще одну элементарную частичку, так что в конце концов, если продолжать это,
пространство в один кубический фут наполнится духами, масса которых тоже
оказывает сопротивление своей непроницаемостью и тоже действует по законам
удара, как если бы все пространство было наполнено материей. Так вот, подобного
рода субстанции, хотя и содержали бы внутри себя силу разума, внешне ничем не
отличались бы от элементов материи, которые тоже доступны нашему познанию
только со стороны их внешних сил, а все, что относится к их внутренним
качествам, нам совершенно неизвестно. Не подлежит, таким образом, никакому
сомнению, что подобного рода простые субстанции, из которых могут образоваться
[непроницаемые] массы, нельзя назвать духовными существами. Понятие духа вы,
стало быть, можете сохранить лишь тогда, когда вообразите себе существа,
присутствие которых возможно и в наполненном материей пространстве*; другими словами, если вообразите себе
существа, которые лишены непроницаемости и, сколько бы их ни было, никогда не
могут составить одно обладающее плотностью целое. Подобного рода простые
297
существа называются существами нематериальными и, если им присущ разум, духами. Простые же субстанции, которые, взятые вместе, образуют одно непроницаемое и протяженное целое [в пространстве], будут называться материальными единицами, а их совокупность — материей. Что-нибудь одно: либо слово дух есть слово без всякого смысла, либо оно имеет только что указанное значение.
От определения понятия духа еще очень далеко до утверждения, что подобные существа имеют действительное бытие или даже только возможны. В сочинениях философов1 мы находим немало веских доводов в пользу того, что все мыслящее должно быть простым, что всякая разумно мыслящая субстанция есть природное единство и что неделимое Я не может быть раздроблено между составными частями данного сложного целого. Моя душа, таким образом, есть простая субстанция, но этим еще далеко не решено, принадлежит ли она к тем, которые, будучи объединены в пространстве, образуют протяженное и непроницаемое целое, и, стало быть, она материальна, или же она нематериальна, а следовательно, представляет собой дух. Более того, этим не решено даже, возможны ли вообще подобного рода существа, обыкновенно называемые духовными.
Здесь я не могу не предостеречь от поспешных выводов, которые с особенной легкостью делают по самым глубоким и неясным вопросам. Действительно, все, что относится к обыкновенным, основанным на опыте понятиям, обычно рассматривается как нечто такое, возможность чего сама по себе очевидна. Напротив того, обо всем, что расходится с этими понятиями и не может быть понято опытом или даже по аналогии, нельзя составить себе никакого понятия, и потому оно охотно сразу же отвергается как нечто невозможное. Всякая материя оказывает сопротивление в наполняемом ею пространстве и потому называется непроницаемой. Что это именно так, мы познаем на опыте, и отвлечение от этого опыта порождает у нас также и общее понятие материи. Сопротивление, оказываемое предметом в наполняемом им простран-
298
стве, нам хорошо известно именно таким образом, но на одном только этом основании не может еще считаться понятым. Оно, как и все, что противодействует какой-то деятельности, есть подлинная сила, и так как направление этой силы противоположно тому, по которому идут протянутые линии сближения [между предметами], то она и есть сила отталкивания, которая должна быть признана присущей материи, а следовательно, ее элементам. Каждый разумно мыслящий сразу увидит, что здесь кончается человеческое понимание, так как только на опыте можно узнать, что вещи в мире, которые мы называем материальными, имеют такую силу, но никак нельзя постигнуть саму возможность ее. Если же мы возьмем субстанции другого рода, которые находятся в пространстве, будучи наделены другими силами, а не силой движения, порождающей непроницаемость, то in concreto я вообще не могу мыслить какую бы то ни было деятельность подобных субстанций, раз эта деятельность не имеет никакой аналогии с моими основанными на опыте представлениями. Лишая эти субстанции способности наполнять пространство, в котором они действуют, я этим самым отказываюсь от понятия, при помощи которого предметы, действующие на мои чувства, становятся для меня мыслимыми, и отсюда с необходимостью возникает особого рода немыслимость. Однако эта немыслимость не может рассматриваться как познанная невозможность именно потому, что противоположное по своей возможности также остается непонятым, хотя его действительность воспринимается чувствами.
Сообразно с этим можно признать возможность нематериальных существ, не опасаясь быть опровергнутым, хотя и не надеясь доказать эту возможность разумными доводами. Подобные духовные сущности могли бы находиться в пространстве, которое, несмотря на это, всегда оставалось бы проницаемым для существ телесных, так как эти духовные существа своим присутствием хотя и оказывают какое-то действие в пространстве, но не наполняют его, т. е. не проявляют никакой силы сопротивления, которая служит основой
299
плотности. Если же мы допускаем, что такая простая духовная субстанция имеется, то мы можем без ущерба для ее неделимости сказать, что место ее непосредственного присутствия не точка, а пространство, как таковое. В самом деле, если прибегнуть к аналогии, то можно сказать, что каждый даже простой элемент тела необходимо должен наполнять в нем [хоть] небольшое пространство — пропорциональную часть всего протяжения этого тела, потому что точки вовсе не части; они лишь границы пространства. Так как это наполнение пространства происходит при посредстве деятельной силы (силы отталкивания) и потому свидетельствует лишь о большей деятельности, а не о множестве составных частей действующего субъекта, то оно вовсе не противоречит их простой природе, хотя возможность этого не может уже быть уяснена, в чем, впрочем, и нет нужды, когда речь идет о первоначальных отношениях причины и действия. Равным образом, хотя сама суть вопроса остается непонятой, никто мне не докажет, что невозможно утверждать по крайней мере следующее: духовная субстанция, хотя бы и простая, занимает пространство (т. е. может непосредственно проявлять в нем деятельность), не наполняя его (т. е. не оказывая в нем сопротивления материальным субстанциям). Подобная нематериальная субстанция так же мало может называться протяженной, как и отдельные единицы материи: ведь протяжением обладает только то, что, существуя обособленно от всего и само по себе, занимает какое-то пространство. Однако же субстанции, которые составляют элементы материи, занимают пространство, только оказывая внешнее воздействие на другие [субстанции], но, сами по себе взятые, когда они не мыслятся в связи с другими вещами и поскольку в них самих нельзя также найти ничего внеположного (aussereinander Befindliches), не заключают в себе никакого пространства. Это относится к телесным элементам. Это могло бы относиться и к духовным существам. Границы протяжения определяют фигуру. Стало быть, фигура не может быть свойственна духовным существам. Это трудно постижимые основания предполагаемой возможности нема-
300
териальных существ во Вселенной. Всякий, кто может доказать это более доступными средствами, пусть не откажет в помощи жаждущему знаний, пред глазами которого в ходе исследования нередко встают громады Альп там, где другие видят пред собой удобный и ровный путь, по которому они продолжают идти или полагают, что идут.
Допустим теперь, кто-нибудь доказал, что душа человека есть дух (хотя, как видно из предыдущего, такого доказательства еще никогда не приводили), тогда первым вопросом был бы примерно следующий: где местопребывание этой человеческой души в телесном мире? Я бы ответил: тело, изменения которого суть мои изменения, есть мое тело и место его есть также мое место. Если же, продолжая этот вопрос, спросили бы, где же твое место (место твоей души) в этом теле, то я бы считал такой вопрос каверзным. В самом деле, нетрудно заметить, что тут уже предполагается нечто такое, что не познано опытом, а покоится, пожалуй, на мнимых заключениях, а именно что мое мыслящее Я находится в каком-то месте, отличном от мест, занимаемых другими частями того тела, которое принадлежит мне. Но каждый непосредственно сознает не то, что он занимает особое место в своем теле, а то, что он, как человек, занимает место по отношению к окружающему миру. Я буду поэтому держаться обычного опыта и скажу пока: я есмь там, где ощущаю. Я есмь так же непосредственно в кончике пальца, как и в голове. Болит ли у меня пятка или сердце мое усиленно бьется, — это я сам. Не в каком-нибудь мозговом нерве, а в пальце ноги я чувствую боль, когда у меня ноет мозоль. Нет такого опыта, который научил бы меня считать какие-то части моего ощущения отдаленными от меня, запереть мое неделимое Я в микроскопически маленьком уголке мозга, дабы оно оттуда приводило в движение рычаг моей телесной машины или само получало там раздражения. Поэтому я потребовал бы строгого доказательства, прежде чем признать нелепым то, что говорили школьные учителя2, а именно: моя душа вся во всем теле и вся в каждой его части. Здравый ум часто замечает истину, до того как
301
он постигает доводы, которыми может ее доказать или объяснить. Меня вовсе не сбило бы с толку и возражение, что я в таком случае представляю себе душу протяженной и распространенной по всему телу приблизительно так, как она изображается детям, в мире, существующем только на картинках. Это препятствие я устранил бы следующим замечанием: непосредственное присутствие в каком-нибудь целом пространстве свидетельствует лишь о сфере внешней деятельности, а не о множественности внутренних частей, а стало быть, здесь нет протяжения или фигуры, имеющих место лишь в том случае, когда в каком-нибудь существе, взятом само по себе, имеется пространство, т. е. если в нем можно найти части, расположенные вне друг друга. В конце концов я либо знал бы это немногое о духовном свойстве моей души, либо же, если не согласятся со мной, помирился бы и с тем, что совершенно ничего о нем не знаю.
Возможно, что эти мысли назовут непостижимыми, или, что для многих одно и то же, недопустимыми. Я бы против этого не возражал. Мне остается тогда одно: сесть у ног этих мудрецов и слушать их речи; вместилище души человека — мозг, и в нем лишь одно невообразимо маленькое местечко служит ее местопребыванием*. Здесь она ощущает подобно пауку в центре
302
своей паутины. Мозговые нервы толкают или потрясают ее, что приводит, однако, к тому, что не это непосредственное впечатление воспринимается ею, а то, которое, зарождаясь в самых отдаленных частях тела, представляется объектом, находящимся вне нашего мозга. Из этого-то своего вместилища она пускает в ход канаты и рычаги всей [телесной] машины, вызывая произвольные движения по своему усмотрению. Доказательство подобных положений может быть лишь поверхностным или же их вообще нельзя доказать, но и опровергнуть их вряд ли можно по той причине, что природа души в сущности недостаточно известна. Я бы воздержался от участия в спорах различных школ, где обычно обе стороны тем больше рассуждают, чем меньше понимают самый предмет спора; я просто постарался бы найти все выводы, к которым может привести подобное учение. Так как, согласно расхваливаемым положениям, моя душа, пребывая известным образом в пространстве, не отличается от каких-либо элементов материи, а сила разума есть внутреннее свойство, которое не могло бы быть воспринято в этих элементах, хотя бы и было им присуще, то нельзя привести ни одного убедительного довода, почему моя душа не может быть одной из тех субстанций, которые составляют материю, и почему особые явления ее не могут проистекать исключительно из того места, которое она занимает в такой искусной машине, как тело животного, где система нервов благоприятствует внутренней способности мышления и произвольным
303
движениям. Но в таком случае нельзя было бы с уверенностью указать на признак, отличающий душу от грубого основного вещества телесных существ, и шутливое предположение Лейбница о том, что вместе с кофе мы, быть может, поглощаем атомы, из которых образуются человеческие души, перестало бы быть смехотворным. Но не будет ли в таком случае это мыслящее Я подвержено общей судьбе материальных существ, и почему бы ему, поскольку оно извлечено случаем из хаоса элементов для одушевления животного организма, не вернуться потом обратно в этот хаос, как только эта случайная связь его [с миром] прекратится. Мыслителя, находящегося на ложном пути, иногда необходимо припугнуть последствиями, чтобы он относился внимательнее к принципам, которыми он дал себя увлечь как бы грезя.
Признаюсь, я очень склонен настаивать на существовании нематериальных сущностей в мире и отнести к их разряду и свою душу*. Однако не становится ли тогда связь духа с телом весьма таинственной? Но в то же время как естественна эта непостижимость, раз наши понятия о внешних действиях выведены из понятий о материи и всегда связаны с условиями давления и толчка, которые в данном случае не имеют места! И в самом деле, как может нематериальная
304
субстанция воспрепятствовать материи на пути ее
столкновения с каким-нибудь духом и как могут телесные вещи влиять на чуждое им
существо, которое не противопоставляет им непроницаемости, т. е. никоим образом
не препятствует им пребывать в том же пространстве, в котором оно само
находится? По-видимому, духовное начало внутренне присуще материи, с которой
оно связано, и влияет оно не на силы, устанавливающие соотношение между
элементами, а на внутренний принцип их состояния. В самом деле, каждой субстанции,
даже простому элементу материи, должна быть присуща какая-то внутренняя
деятельность как основа ее внешнего воздействия, хотя я не могу указать, в чем
именно эта деятельность заключается*.
С другой стороны, при таких принципах душа и в этих внутренних определениях как
действиях наглядно познавала бы то состояние Вселенной, которое является их
причиной. Какая же необходимость приводит к тому, что дух и тело составляют
неразрывное единство, и какие причины при определенных нарушениях уничтожают
это единство — эти вопросы вместе с разными другими далеко превосходят мое
разумение. И хотя я признал неспособность моего ума раскрыть тайны природы, я
все же не боюсь даже самого грозного противника (если бы только у меня была
некоторая склонность к спорам) и делаю попытку привести свои доводы для опровержения
взглядов
305
других; в подобных попытках состоит, собственно говоря,
искусство ученых демонстрировать друг перед другом свое невежество.
ГЛАВА ВТОРАЯ
ФРАГМЕНТ ТАЙНОЙ ФИЛОСОФИИ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ
ВСТУПИТЬ В ОБЩЕНИЕ С МИРОМ ДУХОВ
Посвященный успел уже свой грубый ум, прикованный к внешним чувствам, приучить к высшим и отвлеченным понятиям и, стало быть, уже в состоянии различать духовные лики, свободные от телесной оболочки, в сумерках, где благодаря слабому свету метафизики становится видимым царство теней. Преодолев все трудности подготовки, мы можем поэтому смело пуститься в опасный путь.
Ibant obscuri sola sub nocte per umbras,
Perque d
Virgilius
[Шли незримо они одинокою ночью чрез тени,
Через безлюдные Дита чертоги, пустынное царство.
(Вергилий, Энеида, аcademia,
M. —Л., 1933« стр. 165)]
Наполняющая мировое пространство мертвая материя по своей природе находится в однообразном состоянии инертности и устойчивости. Она обладает плотностью, протяженностью и фигурой, и явления ее, покоящиеся на всех этих основаниях, допускают физическое объяснение, которое в то же время есть и математическое, а оба вместе называются механическим объяснением. Если, с другой стороны, обратить внимание на те существа, которые, заключая в себе основу жизни во Вселенной, не есть составные части, увеличивающие массу и протяженность безжизненной материи, не подвергаются ее действиям, происходящим по законам соприкосновения и толчка, а, напротив, внутренней деятельностью приводят в движение и себя, и безжизненное вещество природы, — то убе-
306
димся если
не с ясностью [логического] доказательства, то по меньшей мере с предчувствием
искушенного рассудка, что существуют нематериальные существа, особые законы
деятельности которых могут быть названы пневматическими и, поскольку
телесные существа суть посредствующие причины их действий, органическими
законами. Так как эти нематериальные существа суть самостоятельные начала, а,
стало быть, субстанции — сами по себе существующие сущности, то вывод, к
которому мы сразу приходим, будет таков: будучи непосредственно соединены между
собой, они, быть может, в состоянии образовать одно великое целое, которое
можно назвать нематериальным миром (mundus
intelligibilis). Что такие существа, подобные друг другу по своей природе,
могут находиться в общении между собой только при посредстве других совершенно
чуждых им по своему качеству, — такое мало правдоподобное утверждение было бы
еще гораздо загадочнее первого предположения.
Этот нематериальный мир, стало быть, можно
рассматривать как само по себе существующее целое, части которого находятся во
взаимной связи и общении и без посредства телесных вещей. Общение нематериальных
существ через посредство тел случайно и может быть присуще лишь некоторым и
даже там, где оно происходит, нисколько не препятствует тому, чтобы
нематериальные существа, действующие друг на друга через посредство материи,
кроме того, находились между собой в особенной и непрерывной связи и всегда
оказывали влияние друг на друга как нематериальные существа. Так что отношение
их при посредстве материи лишь случайно и основывается на особом божественном
устроении, тогда как их непосредственное общение естественно и неразрывно.
Принимая таким образом все начала жизни во всей природе как
множество бестелесных, во взаимном общении находящихся субстанций, соединенных
отчасти также с материей, мы представляем себе великое целое нематериального
мира, бесконечный, но неизвестный последовательный ряд существ и деятельных
сущностей, оживотворяющих мертвую материю телесного мира.
307
Указать,
однако, с уверенностью, на какие именно звенья природы распростирается жизнь и
каковы те ступени жизни, которые непосредственно граничат с полной безжизненностью,
едва ли когда-либо возможно будет. Гилозоизм животворит все, материализм,
напротив, если тщательно его разобрать, все мертвит. Мопертюи приписывал
органическим питательным частичкам всех животных низшую ступень жизни. Другие
философы усматривают в них не что иное, как мертвые массы, служащие лишь для
увеличения рычага животной машины. Несомненным признаком жизни, присущим всему
тому, что действует на наши внешние чувства, служит, конечно, свободное
движение, которое показывает, что оно обязано своим происхождением некоторому
произволу. Однако вряд ли можно заключать отсюда, что там, где этого признака
не видно, нет ни малейшей жизни. Бургав говорит в одном месте: животное есть
растение, имеющее свои корни в желудке (внутри)3.
Можно, пожалуй, с таким же правом, играя этими понятиями, сказать: растение
есть животное, имеющее свой желудок в корнях (вовне). Поэтому растения и не
нуждаются в органах произвольного движения, а следовательно, и во внешних
признаках жизни, которые необходимы животным, потому что существо, имеющее
органы питания внутри себя, должно располагать возможностью двигать само себя
сообразно своим потребностям, тогда как существо, органы питания которого
находятся вне его и погружены в питающую его среду, в достаточной мере
поддерживается внешними силами; и хотя одно из начал внутренней жизни
заключается в произрастании, оно тем не менее не нуждается в органическом устройстве
для внешней произвольной деятельности. Никаких доводов в пользу всего этого я
не требую. Не говоря уже о том, что я очень мало мог бы сказать в пользу
подобных предположений, теперь в моде высмеивать их как старые, покрытые
плесенью фантазии. Древние, как известно, признавали три вида жизни: растительную,
животную и разумную. Объединяя в человеке три нематериальных
начала жизни, они могли заблуждаться, но, распределяя эти начала между тремя
родами
308
созданий,
произрастающих и производящих себе подобных, они хотя и утверждали нечто
недоказуемое, но вовсе не нелепое, особенно с точки зрения тех, кто захотел бы
принять во внимание самостоятельную жизнь частей, отделенных от тела некоторых
животных, — раздражимость, это столь же доказанное, сколь необъяснимое свойство
волокон животного тела и неко^орых растений, и, наконец, близкое родство полипов
и других зоофитов с растениями. Впрочем, ссылка на нематериальные начала служит
убежищем для ленивой философии, и потому по возможности следует избегать всех
толкований в этом йкусе, дабы те основы явлений в мире, которые покоятся на
законах движения одной лишь материи и которые одни только доступны пониманию,
могли быть полностью познаны. Я убежден также, что Шталь4,
который охотно признает органическими изменения у животных, часто ближе к
истине, чем Гофман5, Бургав и другие, которые,
оставляя в стороне нематериальные силы, исходят из механических причин и
следуют здесь в большей мере философскому методу, который хотя иногда и
недостаточен, но не раз приводил к цели, и только он один с пользой может быть
применен в науке, если, с другой стороны, можно признать только то, что влияние
существ, обладающих бестелесной природой, действительно имеет место, но не то,
каким образом оно происходит и как далеко оно простирается6.
Нематериальный мир, таким образом, заключал бы в себе прежде всего все сотворенные разумные начала (Intelligenzen), из которых одни связаны с материей, образуя личность, а другие нет; затем чувствующие начала (Subjekte) всех видов животных и, наконец, все начала (Prinzipien) жизни, какие вообще имеются в природе, хотя бы их присутствие никакими внешними признаками произвольного движения не обнаруживалось. Все эти нематериальные сущности, говорю я, будут ли они влиять на телесный мир или нет, все разумные существа, которые только случайно принимают вид животных организмов — безразлично, здесь ли, на Земле, или на других небесных телах, теперь
309
ли они
оживотворяют грубую материю, или они оживотворяли ее в прошлом, или еще только
будут оживотворять ее, — все они, согласно этим понятиям, находились бы в соответствующем
их природе общении друг с другом вне тех условий, которые ограничивают
отношения между телами, в таком общении, в котором исчезает расстояние между отдельными
пунктами или эпохами, составляющее во всем видимом мире великую пропасть, чем
уничтожается всякое общение. Человеческая душа сообразно с этим должна уже в
этой жизни рассматриваться как одновременно связанная с двумя мирами, и, поскольку
она, связанная с телом, образует единство как личность, она ясно чувствует один
только материальный мир, тогда как в качестве части мира духов она воспринимает
и сообщает другим чистые воздействия нематериальных существ. Отсюда следует,
что, как только связь души с телом прекращается, остается одно лишь присущее ей
общение с духовными существами, которое и должно обнаружиться теперь перед ее
сознанием с наглядной ясностью*.
Мне становится все труднее продолжать говорить осторожным языком разума. Почему бы и мне не позволить себе говорить более решительным, академическим тоном, который избавляет и автора, и читателя от необходимости размышлять, а ведь такая необхо-
310
димость
рано или поздно приводит обоих к досадной нерешительности. Итак, можно считать
почти доказанным, или — если вдаваться в подробности — можно было бы легко доказать,
или — еще лучше — не знаю, где и когда, но будет доказано, что человеческая
душа и в этой жизни находится в неразрывной связи со всеми нематериальными
существами мира духов, что она то на них влияет, то от них же воспринимает
впечатления, которых, однако, она, как человек, не сознает, пока все обстоит
благополучно. С другой стороны, вероятно также, что духовные существа не могут
непосредственно воспринимать чувственные впечатления от телесного мира с полным
сознанием, потому что, не образуя личности [в сочетании] с какой-либо частью
материи, они не могут сознавать ни свое место в материальном мире, ни отношения
обладающих протяженностью существ друг к другу и к ним, если не имеют
искусственных органов. Допустимо, однако, и то, что духовные существа могут
воздействовать на души людей как существа одинаковой с ними природы и в каждое
данное время действительно находятся с ними во взаимной связи, но так, что
представления, имеющиеся в душе как зависимой от телесного мира субстанции, не
могут сообщаться другим духовным существам, а понятия этих последних — наглядные
представления о нематериальных вещах не могут переходить в ясное сознание человека,
по крайней мере в своем подлинном качестве, потому что материалы для тех и других
идей совершенно разнородны.
Было бы прекрасно, если бы подобное системное устройство мира духов, как мы его представляем, могло быть выведено или хоть с некоторой вероятностью допустимо не из одного только понятия духовной природы — понятия слишком гипотетического, а из какого-нибудь действительного и общепризнанного наблюдения. Поэтому позволю себе, надеясь на снисходительность читателя, включить здесь такого рода рассуждение, которое хотя и не относится к нашей теме и далеко от очевидности, но зато может, мне кажется, привести к некоторым не лишенным привлекательности предположениям.
311
* *
*
Некоторые из наиболее мощных сил,
действующих на человеческое сердце, находятся, по всей вероятности, вне его, а
стало быть, их нельзя по крайней мере рассматривать как простые средства для
удовлетворения личных или частных потребностей или для достижения целей,
лежащих внутри самого человека. Силы эти, напротив, приводят к тому, что
цели наших побуждений перемещают свой фокус вне нас, в другие разумные существа.
Отсюда возникает борьба двух сил, а именно своекорыстия, которое все относит к
себе, и общеполезности, благодаря которой душа направляется или притягивается к
другим. Не буду останавливаться на склонности, вследствие которой мы находимся
в столь сильной и общей зависимости от суждений других, а в своих окончательных
суждениях о самих себе должны считаться с чужим сочувствием и одобрением,
откуда возникает иногда дурно понятое честолюбие. Однако даже в самом
бескорыстном и правдолюбивом характере нельзя не уловить некоторую тайную
склонность сравнивать свои собственные понятия о благе и истине с
суждениями других и согласовывать их с ними, а также стремление как бы
задерживать всякую человеческую душу на пути познания, если нам кажется, что
она идет не по пути, избранному нами. Все это, пожалуй, есть ощущаемая нами зависимость
наших собственных суждений от общечеловеческого рассудка, и все это становится
средством для сообщения всему мыслящему некоторого рода единства разума.
Оставляю, однако, в стороне это
далеко не маловажное размышление и перехожу к другому, более ясному и
значительному, поскольку оно соответствует нашей дели. Каждый раз, когда мы
соотносим какую-нибудь внешнюю вещь с нашими потребностями, мы не можем это
сделать, не чувствуя себя в то же время связанными д стесненными некоторым ощущением,
позволяющим нам заметить, что в нас как бы действует чужая воля и что наше
собственное желание нуждается в одобрении извне. Какая-то тайная сила заставляет
нас обращать
312
наши
намерения на благо других или в соответствии с волей других, хотя это часто делается
неохотно и в сильной борьбе со склонностью к своекорыстию. Вот почему точка, в
которой сходятся направления наших склонностей, находится не только в нас
самих: в чужой воле вне нас существуют еще силы, побуждающие нас к действиям.
Отсюда возникают наши нравственные побуждения, которые часто отвлекают нас от соблазнов
своекорыстия, отсюда же могучий закон долга и несколько более слабый закон
милосердия. Оба они вынуждают нас к тому или другому самопожертвованию, и хотя
над ними порой берет верх наша склонность к своекорыстию, однако они всегда так
или иначе проявляются в человеческой природе. Поэтому мы в сокровеннейших наших
побуждениях чувствуем себя в зависимости от закона общей воли, и отсюда
в мире всех мыслящих существ возникает моральное единство и системное
устройство по одним только законам духа. Называя это ощущаемое в нас
принуждение нашей воли к согласию с общей волей нравственным чувством, мы
говорим о нем как о чем-то совершающемся в нас, не зная его причины. Так,
Ньютон назвал бесспорный закон стремления материальных предметов к сближению тяготением,
вовсе не желая свои математические доказательства впутывать в неприятные
философские споры о причине тяготения. Равным образом он без малейшего
колебания стал трактовать это тяготение как действительный результат всеобщей
деятельности материальных предметов и назвал его поэтому также притяжением.
Разве нельзя представлять себе и проявление нравственных побуждений мыслящих
существ в их взаимных отношениях как следствие по-настоящему деятельной силы,
благодаря которой они воздействуют друг на друга? Нравственное чувство было бы
при этом ощущаемой зависимостью частной воли от общей, результатом
естественного и всеобщего взаимодействия, которым нематериальный мир достигает
своего нравственного единства, образуя по законам этой свойственной ему связи
систему духовного совершенства. Если признать за этими мыслями такую степень
веро-
313
ятности,
которая оправдывала бы усилия, соразмерные с выводами из них, то рискуем,
пожалуй, незаметно стать несколько пристрастными к ним. Дело в том, что в этом
случае кажется, будто исчезает большинство тех неправильностей, которые вообще
при противоречии между нравственными и физическими свойствами человека здесь,
на земле, так сильно бросаются в глаза. Никакая нравственность уже по самим
законам природы не может полностью развернуться в физической жизни человека —
это возможно только в мире духов по пневматическим законам. Истинные цели,
скрытые мотивы многих бесплодных по своему бессилию стремлений, победа над
самим собой или же порой тайное вероломство при внешне добрых деяниях — все это
в большинстве случаев пропадает для хорошего физического состояния нашего тела.
Но все они должны были бы таким образом рассматриваться в нематериальном мире
как плодотворные основы и по пневматическим законам вследствие сочетания
частной и всеобщей воли, т. е. единства и цельности мира духов, оказывали бы
воздействие, соответствующее нравственному характеру свободной воли, или же
сами подвергались бы воздействию. В самом деле, так как нравственность поступка
касается внутреннего состояния духа, то естественно, что только в непосредственном
общении духов она может привести к результату, адекватному всей нравственности.
Вот почему уже в этой жизни душа человека должна в соответствии с нравственным
состоянием занять свое место среди духовных субстанций Вселенной, подобно тому
как по законам движения вещества мирового пространства размещаются в порядке,
соответствующем их материальным силам*.
Когда же наконец смерть прекращает общение
314
между
душой и телесным миром, жизнь в ином мире становится естественным продолжением
той связи, в которой она с ним находилась уже в этой жизни, и, ,стало быть, все
последствия нравственности, проявленной здесь, выразятся там в тех
воздействиях, которые существо, находящееся в неразрывном общении со всем миром
духов, уже прежде оказывало по пневматическим законам. Настоящее и будущее,
таким образом, окажутся состоящими как бы из одного куска и составят одно
беспрерывное целое по самим законам природы. Это последнее
обстоятельство особенно важно. В самом деле, если исходить из одних только
доводов разума, то необычайно трудно устранить то зло, которое возникает в этом
мире из несовершенной гармонии между нравственностью и ее результатами, прибегая
к чрезвычайной божественной воле; эти трудности возникают потому, что, как ни
правдоподобно по нашим понятиям о божественной мудрости наше суждение о божественной
воле, всегда останется сильное опасение, не переносим ли мы в высшей степени
извращенно слабые понятия нашего рассудка на всевышнего, поскольку человеку
надлежит судить о божественной воле только по той гармонии, которую он либо
действительно замечает в мире, либо может предположить по правилам аналогии
сообразно с законами природы; и не имеет он права по предначертаниям собственной
мудрости, которые он в то же время предписывает божественной воле, измышлять
новые и произвольные распорядки для настоящего или будущего мира.
* *
*
Вернемся, однако, на прежний путь и подойдем ближе к поставленной нами цели. Если с миром духов и с участием нашей души в нем дело обстоит именно так, как изображено в данном нами очерке, то кажется очень странным, что общение с духами не есть нечто совершенно обыденное и необычайность всех этих явлений будет состоять тогда скорее в том, что они редки, а не в том, что они возможны. Но эта трудность
315
легко
устранима и отчасти уже устранена. В самом деле, представление, которое человеческая
душа имеет о самой себе как о духе через нематериальное созерцание, рассматривая
себя в отношении к существам подобной ей природы, совершенно отлично от представления,
которое создается у нее, когда она сознает себя человеком, при помощи
образа, возникающего из впечатлений, полученных телесными органами, и ни к чему,
кроме материальных вещей, не имеющего никакого отношения. Поэтому то, что как
звено входит в видимый и невидимый мир, есть, правда, один и тот же субъект, но
не одна и та же личность, потому что представления одного мира ввиду его
особенностей не могут быть идеями, сопутствующими представлениям другого мира.
Поэтому все то, что я как дух думаю, я как человек не вспоминаю, и, наоборот, у
меня как духа нет представления о моем состоянии как человека. Впрочем, какими
бы ясными и наглядными ни были представления о мире духов*, этого недо-
316
статочно,
чтобы я как человек осознал их, так как, впрочем, даже представление о себе
самом (т. е. о своей душе) как о духе хотя и приобретается посредством
умозаключений, но ни у одного человека не есть наглядное и эмпирическое
понятие.
Это различие между духовными представлениями и представлениями, относящимися к телесной жизни человека, не должно, однако, считаться серьезным препятствием, которое может лишить нас возможности хоть изредка осознавать даже в этой жизни воздействие мира духов. В самом деле, эти влияния хотя и не могут переходить непосредственно в личное сознание человека, но все же они по закону ассоциации понятий вызывают в нем близкие к ним образы и возбуждают в наших чувствах аналогичные представления, которые, правда, не составляют духовного понятия, но являются его символами. Ведь одна и та же субстанция принадлежит тому и другому миру в качестве его звена и представления того и другого рода относятся к одному и тому же субъекту и связаны друг с другом. До некоторой степени эта возможность уясняется для нас, если подумать, что и высшие понятия нашего разума — а они довольно близки к духовным, — чтобы стать ясными, обычно как бы принимают телесную оболочку. Вот почему моральные свойства бога представляются нам в виде гнева, ревности, милосердия, мести и т. п. Вот почему поэты олицетворяют добродетели, пороки и другие свойства природы, но так, что [в этих олицетворениях] просвечивает истинная идея рассудка. Так, геометр представляет время в виде линии, хотя пространство и время лишь согласуются в отношениях и, следовательно, сообразуются лишь по аналогии, но никогда — по качеству. Вот почему даже философы представляют себе божественную вечность в виде бесконечного времени, как ни стараются они не смешивать эти два понятия; и одна из серьезных причин, почему
317
математики
обычно не склонны принять монады Лейбница, — это то, что они не могут не
представлять их в виде маленьких плотных масс. Вот почему вполне вероятно, что
духовные ощущения могут переходить в сознание, если они вызывают близкие к ним
фантазии. Таким образом, идеи, сообщенные нам духовным воздействием, облекаются
в знаки того языка, которым человек пользуется вообще, например:
ощущаемое присутствие какого-нибудь духа принимает у него образ человеческой
фигуры, порядок и красота нематериального мира [облекаются] в фантазии,
которые обычно услаждают наши чувства и т. д.
Этого рода явления не могут быть всеобщими и обыкновенными: они происходят только у людей, чьи органы чувств* отличаются необычайной возбудимостью, позволяющей им сообразно с внутренним состоянием души усиливать гармоническим движением образы фантазии в большей степени, чем это бывает или должно быть обыкновенно у здоровых людей. Подобные необыкновенные личности в известные моменты могут быть встревожены призраками каких-то внешних предметов, которые они принимают за духовные существа, действующие на их телесные чувства, хотя здесь происходит один лишь обман воображения. Правда, причина этого обмана — действительное духовное влияние, которое непосредственно ощутить нельзя, но которое предстает перед сознанием в сходных между собой образах фантазии, принимающих вид ощущений.
Понятия, привитые воспитанием, или же другие разного рода незаметно вкравшиеся заблуждения могли бы иметь свое значение там, где ослепление смешано с истиной и где в основе лежит, правда, действительное духовное ощущение, но преображенное в контуры чувственных вещей. Всякий согласится, что способность таким именно образом дёлать наглядно ясными в нашей жизни впечатления из мира духов вряд ли может принести какую-нибудь пользу, потому что
318
при этом
духовное ощущение необходимо переплетается с игрой воображения столь тесно, что
невозможно отличить истину от окутывающего ее грубого обмана. Равным образом
подобное состояние, предполагающее нарушенное равновесие нервов, их
неестественное возбуждение даже от воздействия лишь духовно ощущающей души,
свидетельствует о действительной болезни. Наконец, не было бы ничего
удивительного, если бы каждый духовидец оказался фантазером по крайней мере в
отношении тех образов, которыми сопровождаются его видения, потому что у него
возникают представления, по своей природе чуждые и несовместимые с
представлениями человека в обычном состоянии и порождающие сцепление странных
образов в [его] внешнем чувственном восприятии. Отсюда дикие химеры и
причудливые гримасы, длинными вереницами мелькающие перед обманутыми чувствами,
хотя, быть может, и имеющие своим источником действительное духовное
воздействие.
Рассказам о призраках, с которыми так часто сталкиваются философы, а также о всевозможных воздействиях духов, о которых говорят то там, то здесь, нетрудно в конце концов дать внешне разумное объяснение. Души умерших и чистые духи никогда, правда, не могут сделаться доступными нашим внешним чувствам и быть в общении с материей, но они влияют на дух человека, принадлежащий вместе с ними к одной великой республике, так что представления, которые они в нем вызывают, облекаются по закону его фантазии в однородные образы и создают внешние призраки соответствующих им предметов. Этому обману подвержено любое чувство, и, как ни перемешан он с нелепыми фантазиями, мы можем здесь предположить различные воздействия духов. Я оскорбил бы проницательность читателя, если бы еще продолжал свои объяснения в том же духе. Метафизические гипотезы сами по себе настолько гибки, что надо быть особенно бестолковым, чтобы не суметь приложить излагаемую здесь гипотезу к какому угодно рассказу, даже к такому, достоверность которого еще не исследована, что часто невозможно, а еще чаще и совсем неуместно.
319
Если же
сопоставить пользу и вред, могущие возникнуть для человека, органически
приспособленного не только к видимому, но и до известной степени к невидимому
миру (если только такой человек вообще когда-нибудь существовал), то подобный
дар напоминает, пожалуй, тот, которым Юнона наградила Тиресия: она поразила его
слепотой, чтобы затем наделить его даром пророчества[22]. В самом деле, если придерживаться вышеприведенных
положений, то надо сказать, что наглядного познания иного мира можно
достигнуть здесь, не иначе как лишившись части того разумения, которое
необходимо для познания здешнего мира. Не знаю, совершенно ли свободны
от этого сурового условия философы, которые столь прилежно и сосредоточенно
направляют свои метафизические стекла на те отдаленные миры и умеют
рассказывать нам о них разные чудеса. Я по крайней мере никаким их открытиям не
завидую. Я боюсь только одного: чтобы какой-нибудь человек, здравомыслящий и не
особенно тонкий, не намекнул им на то, что однажды сказал Тихо де Браге его
кучер, когда тот во время ночной поездки вздумал по звездам определить
кратчайший путь: «Добрый господин, вы, может быть, все хорошо понимаете на
небе, но здесь, на земле, вы глупец».
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
АНТИКАББАЛА. ФРАГМЕНТ ОБЫЧНОЙ ФИЛОСОФИИ,
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРЕКРАТИТЬ ОБЩЕНИЕ С МИРОМ ДУХОВ
Аристотель где-то говорит8: «Когда мы бодрствуем, мы имеем общий для всех мир,
а когда грезим, каждый имеет свой собственный мир». Мне кажется, что вторую половину
этого высказывания можно перевернуть так: если различные люди имеют каждый свой
собственный мир, то есть основание предполагать, что они грезят. Если мы с этой
точки зрения взглянем на строителей различных воздушных миров
идей, из которых каждый спокойно обитает в своем собственном мире, не допуская
туда других, и остановимся, например, на том из них, кто отдает предпочтение
порядку вещей, построенному Вольфом не столько из эмпирического
320
материала,
сколько из хитростью приобретенных понятий9
или созданному Крузием из ничего магической силой нескольких изречений о мыслимом
и немыслимом10, — то при [явном]
расхождении между их видениями нам останется только терпеливо ждать, пока эти
господа не перестанут грезить. Когда они наконец с божьей помощью окончательно
проснутся, т. е. когда откроют глаза и взгляд их покажет, что они могут уже понимать
других людей, то никто из них не увидит ничего такого, что наглядно и
убедительно в свете их доказательств не являлось бы и всякому другому, и
философы к этому времени очутятся в мйре, общем для всех, подобном тому, в
котором давно уже живут математики, — важное событие, которое не заставит себя
долго ждать, если верить кое-каким приметам и предзнаменованиям, с некоторого
времени появившимся на горизонте наук.
В некотором родстве с сновидцами ума находятся сновидцы чувства, и к этим последним обычно причисляют тех, кто иногда вступает в сношения с духами, и притом на тех же основаниях, что и первые, так как они видят то, что не видит ни один другой здоровый человек, и имеют общение с существами, которые никому другому себя не открывают, какими бы острыми чувствами он ни обладал. Подобные явления, если предположить, что они сводятся к чистой игре воображения, можно назвать грезами, поскольку и то и другое — субъективно измышленные (selbstausgeheckte) образы, которые обманывают чувства, представляясь как бы действительными предметами. Однако было бы большим заблуждением вообразить, будто оба обмана по характеру своего происхождения до такой степени сходны между собой, что источник одного можно считать достаточным для объяснения другого. Тот, кто, бодрствуя, настолько углубляется в вымыслы и химеры своего богатого воображения, что мало обращает внимания на свои чувственные восприятия, которые для него в данный момент наиболее важны, справедливо называется бодрствующим сновидцем. В самом деле, стоит только чувственным восприятиям немного
321
ослабеть,
и человек засыпает, а прежние химеры превращаются уже в настоящие сны. Причина,
по которой эти химеры не превращаются в сны еще в состоянии бодрствования,
состоит в том, что человек в этот момент представляет себе их внутри
себя, другие же ощущаемые им предметы — вовне себя, поэтому он первые
считает продуктом своей собственной деятельности, а вторые он относит к тому,
что он воспринимает и испытывает извне. Тут все дело в том, как мыслится
отношение между вещами и им самим как человеком, а стало быть, и его телом. Вот
почему те же образы в состоянии бодрствования могут очень интересовать его, но
не обмануть, какими бы яркими они ни были. Хотя он и имеет тогда в своем мозгу
представление о себе самом и своем теле, с которым он сравнивает образы своей
фантазии, но действительное ощущение своего тела через органы внешних чувств
составляет такой контраст всем его химерам, что он должен разобраться в том,
что им сочинено и что им [действительно] воспринято. Если он при этом заснет,
то воспринимаемое его телом представление исчезнет и останется лишь
представление, которое он сам сочинил и по сравнению с которым остальные химеры
мыслятся как внешние и обманывают спящего, поскольку в нем нет ощущения,
которое позволяло бы ему путем сравнения с представлением отличить прообраз от
призрака, внешнее — от внутреннего.
От бодрствующих сновидцев, таким образом, совершенно отличаются духовидцы — не только по степени, но и по характеру: духовидцы наяву и часто при исключительной яркости других ощущений относят те или иные предметы в места, занимаемые другими внешними вещами, которые они действительно воспринимают, и вопрос здесь только в том, каким это образом они обман своего воображения перемещают вовне себя, а именно по отношению к собственному телу, которое они также ощущают внешними чувствами. Это нельзя объяснить исключительной ясностью их виде́ний, потому что здесь все зависит от того, в какое место они как некий предмет помещены, и потому я желал бы, чтобы было показано, каким
322
путем душа
ставит свои образы, которые она должна представлять как внутренние, в совершенно
другое отношение, а именно перемещает их куда-то вне человека, среди предметов,
возбуждающих в ней действительные ощущения. Не могу я также удовлетвориться ссылкой
на другие случаи, имеющие некоторое сходство с таким обманом и происходящие,
скажем, при лихорадочном состоянии; ведь независимо от того, здоров или болен
человек, впадающий.в обман, важно знать не то, бывает ли вообще нечто подобное,
а как возможен этот обман.
Но когда пользуемся внешними чувствами, мы находим, что, кроме ясности, с которой представляются предметы, мы имеем еще и представление об их местонахождении, не всегда, быть может, одинаково верное, но как необходимое условие ощущения, без которого невозможно было бы представить себе вещи вне нас. При этом весьма вероятно следующее: душа наша помещает в своем представлении воспринятый предмет в том месте, где сходятся различные направляющие линии впечатления от него, если продолжить эти линии. Поэтому лучеиспускающая точка видна на том месте, где пересекаются линии, идущие от глаза в направлении падения световых лучей. Эта точка, которая называется зрительной точкой (Sehpunkt), в действительности есть точка расхождения лучей, но в представлении она есть точка слияния тех линий направления, по которым сообщается впечатление (focus imaginarius [мнимый фокус]). Так, можно даже одним глазом определить место видимого предмета, как это, между прочим, бывает, когда спектр тела при помощи вогнутого зеркала виден в воздухе именно там, где лучи, исходящие из какой-нибудь точки предмета, пересекаются, прежде чем достигают глаза*.
323
Быть может, и при восприятии
звуков (потому что вибрация их также происходит по прямым линиям) допустимо,
что ощущение их сопровождается представлением о focus
imaginarius, помещаемом там, где сходятся продолженные прямые линии, идущие от
вибрирующих нервных клеток мозга. В самом деле, мы некоторым образом замечаем
местоположение звучащего предмета и расстояние до него, даже когда звук тихий и
раздается позади нас, хотя прямые линии, которые можно было бы провести оттуда,
попадают не в отверстие уха, а в другие части головы, так что надо
предположить, что в представлении нашей души эти направляющие линии сотрясения
продолжены от мозга в пространство и звучащий предмет переносится в точку их
схождения. То же самое, как мне кажется, можно сказать и об остальных трех
чувствах, которые от зрения и слуха отличаются тем, что воспринимаемый ими
предмет приходит в непосредственное соприкосновение с их органами и линии
направления чувственного возбуждения имеют поэтому свою точку соединения в самих
этих органах.
Чтобы применить это к образам
фантазии, да позволено будет мне исходить из того, что сказал Картезий и с чем
после него согласилось большинство философов, а именно: все представления силы
воображения сопровождаются определенными движениями в нервной ткани, или в
нервном духе, нашего мозга11, которые мы
называем ideas materiales [материальными
идеями], т. е. сопровождаются, вероятно, сотрясением, или вибрацией,
отделяющегося от них тонкого элемента, похожим на движение, производимое
чувственным впечатлением, копию которого оно составляет. Так пусть со мной
согласятся, что основное различие между движением нервов при игре воображения и
при ощущениях заключается в том, что линии направления движения в первом случае
пересекаются внутри мозга, а во втором — вне его. а так как при ясных ощущениях
324
наяву focus imaginarius, в котором представляется предмет,
находится вне меня, а игрой моего воображения, которая в это же время имеет
место, он переносится внутрь меня, то я не могу, пока я бодрствую, безошибочно
отличить плод моего собственного воображения от чувственных впечатлений.
Если согласиться с этим, то я мог бы, пожалуй, указать в качестве причины нечто всем понятное относительно того рода расстройства ума, которое именуется умопомешательством, а в более сильной степени — безумием. Особенность этой болезни заключается в том, что сбившийся с толку человек принимает предметы своего воображения за нечто внешнее, действительно находящееся перед ним. Я уже заметил, что обычно линии направления движения, которые в мозгу сопровождают игру воображения как материальные вспомогательные средства, пересекаются внутри мозга и потому место, в котором мозг сознает свой образ, во время бодрствования мыслится находящимся в нем самом. Стало быть, если предположить, что случайно или из-за болезни некоторые органы мозга так изменены и выведены из своего надлежащего равновесия, что движение нервов, вибрирующих согласованно с некоторыми фантазиями, совершается по направлению таких линий, которые, будучи продолжены, пересекаются вне мозга, то в таком случае focus imaginarius будет перенесен вне мыслящего субъекта* и образ, чистейший плод воображения,
325
будет
казаться предметом, доступным нашим внешним чувствам. Как ни слаб вначале подобный
призрак фантазии, смущение, вызываемое мнимым виде́нием вещи, которая по
естественному порядку не должна была бы находиться перед человеком, немедленно
возбудит внимание и придаст обманчивому ощущению такую живость, что введенный в
заблуждение человек не усомнится в его действительности. Такому обману
подвержено любое внешнее чувство, потому что от каждого из них мы имеем
воспроизведенные образы в воображении и нарушение нервной ткани может вызвать
перемещение focus imaginarius туда, откуда
должно явиться чувственное впечатление действительно существующего физического
предмета. Не удивительно поэтому, если фантазеру кажется, что он очень ясно
видит или слышит многое такое, чего никто, кроме него, не замечает. Не удивительно
также и то, что эти химеры появляются и внезапно исчезают или же, обманывая
одно чувство, например зрение, не воспринимаются другими, например осязанием, и
потому кажутся проницаемыми. Обычные рассказы о духах в значительной степени
сводятся к определениям такого рода и вполне подтверждают предположение, что
они могут, пожалуй, возникнуть из подобного источника. И таким образом то
ходячее понятие о духовных существах, которое мы выше позаимствовали из
общепринятого словоупотребления, вполне соответствует этому обману и нисколько
не скрывает своего происхождения; существенным признаком этого понятия должна
ведь быть проницаемость предмета в пространстве (die Eigenschaft einer durchdringlichen
Gegenwart im Räume).
Весьма вероятно также, что привитые воспитанием понятия о духах дают больной голове материал для создания их обманчивых образов и что мозг, свободный от подобных предрассудков, если бы даже на него нашла какая-то причуда, вряд ли так легко стал бы измышлять
326
такого
рода образы. Далее, отсюда видно, что болезнь фантазера поражает, собственно,
не рассудок, а коренится в обмане чувств и что, стало быть, никакое резонерство
не избавит несчастного от его виде́ний, потому что действительное или
мнимое чувственное восприятие предшествует всякому суждению рассудка и обладает
непосредственной очевидностью, которая далеко превосходит всякое другое
убеждение.
Вывод, вытекающий из этих рассуждений, имеет то неудобство, что он делает излишними все глубокомысленные предположения предыдущей главы и что читатель, даже склонный согласиться с некоторыми высказанными там идеальными соображениями, предпочтет, однако, придерживаться понятия, которое, приводя более удобным и коротким путем к тому или другому решению, может рассчитывать на всеобщее одобрение. В самом деле, помимо того, что разумному мышлению, по-видимому, более приличествует заимствовать доводы из материала, даваемого нам опытом, чем теряться в неустойчивых понятиях наполовину измышляющего, наполовину умозаключающего разума, вы здесь рискуете подвергаться насмешкам, а насмешки — обоснованны они или нет — сильнее всех других средств способны удержать от бесплодных исследований. Уже само желание серьезно объяснять игру воображения фантазеров послужило бы поводом для плохих предположений, и философия, очутившаяся в столь дурном обществе, скомпрометировала бы себя. Я, правда, не отрицал помешательства в подобного рода явлениях, а, напротив, связывал его с ними если не в качестве причины воображаемого общения с духами, то в качестве его естественного следствия. Но спрашивается, где та глупость, которая не могла бы быть согласована с той или иной беспочвенной философией? Поэтому я нисколько не осужу читателя, если он, вместо того чтобы считать духовидцев наполовину принадлежащими иному миру, тотчас же запишет их в кандидаты на лечение в больнице и таким образом избавит себя от всякого дальнейшего исследования. Но если стать на такую точку зрения, то нужно будет признать огромную разницу между таким
327
отношением к адептам мира духов и отношением, исходящим из
вышеизложенных понятий, и если прежде считали нужным иногда предавать некоторых
из них сожжению, то теперь совершенно достаточно дать им слабительного.
При таком положении вещей было бы также излишне заходить так далеко и при
помощи метафизики отыскивать какие-то тайны в воспаленном мозгу обманутых
фантазеров. Решение загадки мог бы дать нам один лишь проницательный Гудибрас12, однажды заметивший: _когда ипохондрический ветер
гуляет по нашим внутренностям, то все зависит от того, какое направление он принимает:
если он пойдет вниз, то получится неприличный звук, если же он пойдет вверх, то
это видение или даже священное вдохновение.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВЫВОД ИЗ ВСЕХ РАССУЖДЕНИЙ,
ИЗЛОЖЕННЫХ В ПЕРВОЙ ЧАСТИ
Обвешивание на весах, которые по гражданским законам должны быть мерой в торговле, обнаруживается, когда перекладывают товар и гири из одной чаши весов в другую; пристрастие весов рассудка обнаруживается таким же приемом. Без этого приема никогда нельзя получить в философских суждениях никакого единого итога из сделанных сопоставлений. Я очистил свою душу от предрассудков, я искоренил всякую слепую привязанность, которая могла бы незаметно открыть во мне доступ мнимому знанию. Теперь для меня важно и достойно уважения только то, что искренне утвердилось в спокойной и всем доводам доступной душе независимо от того, подтверждает или опровергает оно мой прежний взгляд, приводит оно меня к определенному решению или оставляет в сомнении. Все, что может меня научить, я стараюсь усвоить везде, где бы я ни открыл его. Мнение того, кто опровергает мои доводы, становится моим мнением, после того как я, взвесив его сначала против чаши самолюбия, а затем в этой чаше против моих мнимых доводов, нашел, что оно по содержанию своему весит больше. Когда-то я смотрел на весь человеческий
328
ум с точки
зрения моего собственного ума, теперь я становлюсь на точку зрения чужого и вне
меня находящегося разума и рассматриваю свои суждения и их сокровеннейшие побуждения
с точки зрения других людей. Сравнение обоих наблюдений приводит к сильным параллаксам,
но это единственное средство предотвратить оптический обман и поставить понятия
на то место, которое они действительно занимают по отношению к познавательной
способности человеческой природы. Мне могут возразить, что это слишком
серьезный язык для такой незначительной задачи, какой мы теперь заняты, —
задачи, которую справедливо было бы назвать игрушкой, а не серьезным делом; и такое
возражение имело бы свои основания. Однако хотя и не стоит из-за пустяков
делать такие большие приготовления, но можно это сделать при удобном случае, и
осмотрительность, излишняя при решении мелких задач, может послужить примером в
важных случаях. Я не думаю, что какая-нибудь привязанность или вкравшаяся до
исследования симпатия отнимают у моего духа способность внимать всевозможным
доводам за или против, за одним только исключением. Весы рассудка не совсем
беспристрастны, и то плечо их, на котором стоит надпись надежда на будущее,
имеет механическое преимущество, благодаря которому даже легкие доводы,
падающие на чашу надежды, заставляют на другой стороне умозрения, имеющие сами
по себе больше веса, подниматься вверх. Вот единственная неправильность,
которую я не могу устранить, да и в сущности никогда не желаю устранять. Итак,
я признаю, что все рассказы о явлениях душ усопших или о влияниях духов и все
теории о предполагаемой природе духовных существ и их связи с нами имеют заметный
вес лишь на чаше надежды, но на чаше умозрений они, кажется, состоят из одного
только воздуха. Не будь этой симпатической связи между поставленным вопросом и
нашей уже ранее определившейся склонностью, какой же разумный человек колебался
бы насчет того, находит ли он более возможным признание существ, не имеющих
никакого сходства со всем тем, чему учат его чувства, или же
329
предпочитает
приписывать некоторые якобы имевшие место наблюдения самообману и вымыслу, во
многих случаях весьма обычным.
В этом, по-видимому, и заключается главная причина, почему рассказы о духах приобрели всеобщее доверие, и даже первые случаи обмана, вызываемого мнимым явлением усопших, возникли, надо полагать, из обольщающей надежды, что каким-то образом жизнь наша может продолжаться и после смерти. Часто под прикрытием ночных теней воображение обманывало наши чувства и из двусмысленных образов создавало призраки, отвечавшие нашим предвзятым мнениям. Это в свою очередь побудило философов сочинить отвлеченную идею духов и привести ее в определенную систему. Легко видеть, что и моя рискованная система общения с духами идет в том же направлении, которое склонно принять большинство. В самом деле, наши положения сходятся очевидным образом только для того, чтобы дать представление, каким образом человеческий дух разлучается* с этим миром, т. е. о его состоянии после смерти. О том же, как он входит [в мир], т. е. о зарождении и размножении, я ничего не говорю. Я даже не говорю о том, каким образом дух присутствует в этом мире, т. е. каким образом нематериальное существо может действовать в теле и через него. Обо всем этом я ни слова не говорю по одной очень веской причине: я в этом ровно ничего не понимаю и, стало быть, мог бы удовлетвориться тем, что я так же мало знаю и о нашей загробной жизни, если бы пристрастие к любимой мысли не говорило в пользу представленных доводов, как бы слабы они ни были.
330
Из-за того же неведения я не
решаюсь полностью отрицать всякую истинность различных рассказов о духах,
сохраняя, однако, за собой естественное, хотя и странное, право сомневаться в
каждом из них в отдельности, в то же время допуская долю правды во всех этих
рассказах, взятых вместе. Читателю предоставляется свобода суждения. Что же
касается меня лично, то перевес на стороне доводов, изложенных во второй главе,
достаточно велик для меня, чтобы я мог сохранить и серьезность, и сомнение,
выслушивая некоторые странные рассказы этого рода. Не стану, впрочем, утруждать
читателя, приводя доводы в защиту этого образа мыслей, памятуя, что предвзятое
мнение всегда находит аргументы в свою пользу.
Завершая теоретические рассуждения
о духах, я осмелюсь еще сказать, что это исследование, если читатель
воспользуется им надлежащим образом, исчерпывает все философское усмотрение
[вопроса] о духовных существах и что впредь возможны, пожалуй, самые различные
мнения об этом, но никогда не будут знать больше. Это звучит довольно
хвастливо. Несомненно, в природе нет доступного нашим чувствам предмета — будь
это капля воды, песчинка или нечто еще более простое, — о котором можно было бы
утверждать, что наблюдение или разум его уже исчерпали: так беспредельно
разнообразие всего, что́ природа даже в самых незначительных проявлениях
своих предлагает для разгадки столь ограниченному уму, как человеческий. Совсем
иначе обстоит дело с философским учением о духовных существах. Его можно завершить,
но только в отрицательном смысле, а именно твердо устанавливая границы
нашего понимания и убеждая нас в том, что разнообразные явления жизни в
природе и их законы — это все, что дозволено нам познать, тогда как самый
принцип этой жизни, т. е. духовную природу, о которой не знают, а строят лишь
предположения, нельзя мыслить положительно, так как для этого нет никаких
данных во всей системе наших ощущений13. В
рассуждениях о том, что столь отлично от всего чувственного, мы должны
довольствоваться одними лишь отрицаниями, и даже сама возможндсть таких отри-
331
цаний покоится не на опыте и не на умозаключениях, а на
выдумке, к которой прибегает разум, лишенный всякой опоры. С этой точки зрения
созданная людьми пневматология может быть названа системой их неизбежного
незнания относительно предполагаемого вида существ, и, как таковая, она вполне
отвечает своей задаче.
Теперь оставим вопрос о духах, эту обширную часть метафизики, как окончательно выясненный и решенный. Вновь возвращаться к нему я не стану. Суживая таким образом план моего исследования и отказываясь от некоторых совершенно бесплодных изысканий, я надеюсь успешнее приложить мое скромное разумение к другим предметам. Вообще не следует напрасно расточать свои и без того небольшие силы на легкомысленные предположения. Вот почему благоразумие требует в этом, как и в других случаях, чтобы мы соразмеряли планы с нашими силами и, не будучи в состоянии достигнуть большого, довольствовались малым.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
РАССКАЗ, ОБ ИСТИННОСТИ КОТОРОГО ПУСТЬ КАК УГОДНО ОСВЕДОМЛЯЕТСЯ
CAM ЧИТАТЕЛЬ
Sit mihi fas аudita loqui...
Virgilius
[Будет мне дано, что я слышал, сказать...
Вергилий, Энеида, аcademia,
M. — Л., 1933, стр. 165)]
Философия, чье самомнение приводит к тому, что она сама срамит себя различными праздными вопросами, часто оказывается в неприятном положении, когда сталкивается с некоторыми рассказами: кое-что она не может безнаказанно подвергать в них сомнению, а кое-чему она не может верить, не подвергаясь осмеянию. И то и другое затруднение в той или иной мере встречается, когда имеешь дело с распространен-
332
ными
рассказами о духах: первое, когда слушаешь человека, который заверяет вас в подлинности
своего рассказа, второе — по отношению к тем, кто дальше распространяет эти
рассказы. В действительности для философа нет горше упрека в легковерии и
приверженности к ложным мнениям толпы, а так как те, кто умеет без заслуг
казаться умным, бросаются с насмешкой на все, что одинаково непостижимо и для
невежд, и для умных, т. е. на все, что делает тех и других в некотором смысле
равными между собой, то нет ничего удивительного в том, что явления, о которых
так часто распускают слухи, получают большое распространение в обществе, хотя
публично их отрицают или умалчивают о них. Можно поэтому быть уверенным, что ни
одна академия наук никогда не решится объявить премию за сочинение на такую
тему, и это не потому, что все члены академии совершенно свободны от всякой
приверженности к подобным мнениям, а потому, что правила благоразумия с полным
правом диктуют осторожность по отношению к вопросам, которые одинаково
предлагает излишнее любопытство и пустая любознательность. Таким образом,
подобного рода рассказам всегда верят только тайно, а публично они отвергаются
в силу господствующей моды неверия.
Так как я не нахожу весь этот вопрос ни важным, ни достаточно обоснованным, чтобы высказаться о нем определенно, то я считаю возможным привести здесь один из подобного рода рассказов, с полным безразличием отдавая его на благосклонный или неблагосклонный суд читателя.
В Стокгольме проживает некий господин Сведенборг, не занимающий никакой должности или службы и существующий на свои собственные довольно значительные средства. Все его занятие заключается в том, что он, по его словам, уже больше двадцати лет состоит в самых тесных сношениях с духами и душами усопших, получает от них сведения из того мира и делится с ними сведениями из этого мира, сочиняет толстые книги о своих открытиях и время от времени ездит в Лондон, чтобы обеспечить их издание. Он вовсе не скрывает свои тайны, свободно о них беседует с каждым
333
и кажется
совершенно убежденным в том, что́ рассказывает, без всякой тени преднамеренного
обмана или шарлатанства. Будучи, если верить ему самому, первым духовидцем
среди всех духовидцев, он, несомненно, и первый фантазер среди всех фантазеров
— все равно, будете ли судить о нем по описаниям тех, кто его знает, или по его
собственным сочинениям. Это обстоятельство не мешает, однако, тем, кто вообще
считает возможным воздействие духов на нас, признать и какую-то долю правды в
этих фантастических его рассказах. Так как верительная грамота всех полномочных
посланников того света состоит в доказательствах своего необычайного призвания,
которые они приводят, показывая в этом мире некоторые образчики, то из всего
того, что рассказывают для подтверждения необычных качеств упомянутого
господина, я приведу только то, во что еще верит большинство.
К концу 1761 г. господина Сведенборга пригласили к одной княгине, ум и проницательность которой вполне, казалось бы, ограждали ее от всякой возможности быть обманутой в подобном деле. Поводом к этому приглашению послужили распространившиеся повсюду слухи о ви́дениях этого человека. После того как было задано несколько вопросов не столько для того, чтобы получить действительные сведения с того света, сколько для того, чтобы посмеяться над его фантазиями, княгиня отпустила Сведенборга, дав ему тайное поручение, которое имело прямое касательство к его общению с духами. Через несколько дней господин Сведенборг явился с ответом, который поверг эту даму, по ее же словам, в величайшее изумление: она нашла ответ верным, хотя ни один живой человек не мог ему внушить его. Этот рассказ сообщил один присутствовавший при этом посланник при тамошнем дворе другому чужестранному посланнику в Копенгагене, и он совпадает с тем, что можно было разузнать из частных расспросов.
Следующие рассказы может подтвердить только молва, ценность которой очень сомнительна. От госпожи Мартевиль, вдовы голландского посланника при шведском дворе, родственники одного ювелира потре-
334
бовали
уплаты долга за специально изготовленный серебряный сервиз. Зная аккуратность
своего покойного мужа в хозяйственных делах, эта дама была убеждена в том, что
долг был уплачен еще при жизни, но в оставшихся после мужа бумагах не нашлось
никаких доказательств. Женщина особенно склонна верить всяким гаданиям,
толкованию снов и тому подобным чудесам. Она откровенно рассказала о своем деле
господину Сведенборгу и попросила, если он действительно, как говорят,
находится в сношениях с душами усопших, узнать от покойного ее мужа с того
света, как быть с этим долгом. Господин Сведенборг обещал все это исполнить и
через несколько дней, явившись в дом этой дамы, сообщил, что желаемые сведения
им получены, что в таком-то указанном им шкафу, который она считала совсем
пустым, имеется потайной ящик, где находятся нужные квитанции. Немедленно стали
искать согласно его описанию, и квитанции действительно нашлись вместе с
секретной голландской корреспонденцией, благодаря чему предъявленные требования
были отклонены.
Третий рассказ таков, что очень легко можно доказать, правдив он или нет. Это было, если мне правильно сообщили, в конце 1759 г., когда господин Сведенборг, возвращаясь из Англии, прибыл в Готенбург в послеобеденное время. Вечером этого же дня, будучи в гостях в доме одного купца, он спустя некоторое время со всеми признаками величайшего волнения сообщил, что в эту самую минуту вспыхнул страшный пожар на Зюдермальме, в Стокгольме. Через несколько часов, в течение которых он неоднократно выходил из дома, он заявил гостям, что пожар потушили, и при этом описал его размеры. Это удивительное известие распространилось в тот же вечер и к утру обошло весь город. Лишь через два дня в Готенбурге было получено из Стокгольма сообщение, полностью подтвердившее, как говорят, ви́дение Сведенборга.
Кто-нибудь, наверное, спросит, что же побудило меня заняться таким презренным делом, как дальнейшее распространение сказок, которые благоразумный человек вряд ли терпеливо выслушает до конца,
335
и, более
того, включить эти сказки в текст философского исследования. Но так как философия,
о которой речь была выше, тоже была сказкой из страны чудес метафизики, то я и
не вижу ничего неприличного в том, чтобы представить обе эти сказки вместе. И
почему, наконец, более похвально быть обманутым слепой верой в мнимые доводы
разума, чем неосторожной верой в ложные рассказы?
Граница между глупостью и разумностью столь незаметна, что, долго идя путем одной из них, трудно не коснуться иногда хоть сколько-нибудь и другой. Что же касается прямодушия, которое иной раз даже вопреки сопротивлению рассудка дает себя уговаривать и принимает за истину твердые заверения, то его следует, мне кажется, признать не естественно унаследованной тупостью, а скорее остатком древней родовой честности, которая для нашего времени не очень-то подходит и потому часто превращается в глупость. Вот почему в удивительном рассказе, которым я занялся, я предоставляю читателю самому разложить эту двусмысленную смесь разума и легковерия на ее составные части и уже затем определить соотношение обоих ингредиентов моего образа мысли. При такой критике приходится ведь думать только о благопристойности, поэтому я считаю себя достаточно гарантированным от опасности быть осмеянным, раз я с этой самой глупостью, если хотят ее так назвать, попадаю в довольно хорошее и многочисленное общество, а этого, как думает Фонтенель, уже достаточно, чтобы по крайней мере не считать вас неумным. Так это всегда было и, вероятно, будет, что некоторые нелепости распространяются даже среди людей разумных только потому, что о них говорят везде и всюду. Сюда относятся: симпатия, волшебный жезл, предчувствия, действие силы воображения у беременных женщин, влияние фаз луны на животных и растения и др. Разве не воздали недавно достойным образом простые поселяне ученым за насмешки, которыми те обычно осыпают их за легковерие? Усердным распространением слухов дети и женщины довели в конце концов немало умных людей до того, что эти люди стали принимать обыкно-
336
венного волка за гиену, хотя ныне всякому мало-мальски
разумному человеку известно, что хищный африканский зверь не может бродить по
лесам Франции. Слабость человеческого рассудка вместе с его любознательностью
приводят к тому, что вначале истина и ложь принимаются без разбора. Но
постепенно понятия все более очищаются, малая часть из них остается, а остальное
отметается, как мусор.
Таким образом, тот, кому эти рассказы о духах кажутся важными, если у него нет дела получше и он имеет много денег, может отважиться на путешествие ради проверки этих рассказов, подобно тому как Артемидор14 ради толкования снов странствовал до Малой Азии. Будущие его единомышленники должны быть ему в высшей степени признательны за то, что он устранил возможность появления другого Филострата15, который через много лет, когда всякого рода слухи приобретут характер настоящих доказательств, а неудобный, хотя и в высшей степени необходимый, опрос очевидцев станет невозможным, превратил бы нашего Сведенборга в нового Аполлония Тианского16.
ГЛАВА ВТОРАЯ
ЭКСТАТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МЕЧТАТЕЛЯ ПО МИРУ ДУХОВ
S
Nocturnos
lémures, portentaque Thessala.
Horatius
[Сны,
наваждения магов, явленья природы, волшебниц,
Призрак
ночной, чудеса фессалийцев.
(Гораций, Полн. собр. соч., аcademia,
M. —Л., 1936, стр. 338)]
Я никак не могу обижаться на рассудительного читателя, если при чтении этой книги кое-что заставит его усомниться в тех приемах, которых автор нашел нужным держаться. Предпосылая догматическую часть исторической, а, стало быть, доводы разума — опыту, я ведь даю повод заподозрить меня в том, что я поступил коварно: держа в памяти эту историю, делаю только
337
вид, будто
знаю одни лишь абстрактные размышления, дабы затем уже поразить ничего не
подозревающего читателя отрадной ссылкой на опыт. И действительно, философы часто
и с большим успехом прибегали к подобному приему. Необходимо иметь в виду, что
всякое знание имеет два конца, с которых можно к нему подходить: один — априорный,
другой — апостериорный. Правда, некоторые новейшие натуралисты утверждают, что
следует начинать с познания апостериорного. Они полагают, что прямо берут быка
за рога, если, вооружившись предварительно достаточным запасом опытных знаний,
затем уже принимаются постепенно восходить к общим и высшим понятиям. Хотя
нельзя, конечно, сказать, что такой образ действия не разумен, но он далеко
недостаточно научный и философский; ведь действуя таким путем, скоро
наталкиваешься на какое-нибудь «почему», на которое нет никакого ответа, а это
философу делает так же мало чести, как купцу, например, дружеская просьба об
отсрочке уплаты по векселю. Вот почему во избежание этого неудобства
проницательные люди начинали с противоположной, самой крайней точки — с высшей
точки метафизики. Но тут возникает новое затруднение, а именно: начинают неведомо
где, и приходят неведомо куда, и доводы развиваются, нигде не
касаясь опыта; более того, кажется, что эпикуровским атомам, извечно падавшим и
случайно сталкивавшимся, потребовалось меньше времени для образования
Вселенной, чем это нужно самым общим и отвлеченным понятиям для ее объяснения.
Видя, таким образом, что доводы его разума, с одной стороны, и действительный
опыт или рассказ — с другой, идут рядом подобно двум параллельным линиям до
бесконечности, нигде не встречаясь, философ, как будто заранее договорившись,
согласился с другими философами о том, чтобы каждый взял свою исходную точку и,
украдкой оглядываясь на результаты того или иного опыта и свидетельства,
направлял разум не по прямым линиям выводов, а с незаметным уклоном своих
доводов таким образом, чтобы он обязательно попал как раз туда, где доверчивый
ученик меньше всего ждал его, а именно чтобы
338
он доказал
то, о чем уже заранее было известно, что оно должно быть доказано. Этот путь
они тогда еще назвали априорным, хотя он по расставленным вехам незаметно вел к
пункту апостериорно, причем по справедливости тот, кто это понимает, не должен
выдавать этот секрет. При помощи этого остроумного метода некоторые заслуженные
мужи, идя по пути одного лишь разума, уловили даже некоторые тайны религии,
подобно тому как писатели заставляют героинь своих романов убегать в дальние
страны, чтобы там благодаря удачному приключению столкнуться со своими поклонниками:
et fugit аd sauces et se cupit аnte videri. Virgilius [бегает к ивам и хочет, чтобы раньше ее увидели. Вергилий].
Стало быть, я вовсе не должен был бы краснеть, имея таких славных предшественников,
если бы я действительно прибегнул к этому же самому приему, дабы довести свой
труд до желанного конца. Однако убедительно прошу читателя ничего подобного обо
мне не думать. Да и какая мне была бы польза в этом, раз я сам разболтал тайну
и, следовательно, никого уже обмануть не могу. Беда еще в том, что свидетельство,
на которое я натолкнулся и которое так необычайно похоже на мою философскую
фантазию, имеет такой безобразный и нелепый вид, что я должен допустить, что
читатель из-за такого сходства скорее признает несостоятельность моих доводов,
чем их разумность. Скажу поэтому без околичностей, что я не понимаю никаких
шуток во всех подобных обидных сопоставлениях и заявляю коротко и ясно, что-либо
в произведениях Сведенборга гораздо больше ума и правды, чем это могло бы
показаться с первого взгляда, либо же он совершенно случайно сходится с моей
системой, подобно тому как иной раз поэты, впадая в экзальтацию, начинают, как
полагают или по крайней мере как они сами говорят, пророчествовать, если слова
их в отдельных случаях совпадают с результатом.
Подхожу к моей цели, т. е. к сочинениям моего героя. Если немалая заслуга иных ныне забытых или когда-то малоизвестных писателей заключается в том, что, создавая большие сочинения, они не жалели никаких затрат ума, то г-ну Сведенборгу, без сомнения,
339
принадлежит
первое место среди всех. На Луне его бутыль, наверное, совершенно полна и не
уступает ни одной из тех, которые видел там Ариосто17
наполненными до краев разумом, утраченным здесь, и которые их обладателям
придется потом разыскивать, — до такой степени свободно его великое сочинение
от малейшего следа разума. Тем не менее в этом сочинении все удивительно
согласуется с тем, до чего по такому же вопросу мог бы додуматься самый
утонченный разум. Читатель поэтому простит мне, если я скажу: в творении
Сведенборга я нахожу ту самую причудливую игру воображения, какую многие другие
любители находили в игре природы, когда в [очертаниях] пятнистого мрамора им
рисовалась святая семья или в сталактитовых образованиях — монахи, купели и
церковные органы или даже когда подобно насмешнику Лискову18 они на замерзшем оконном стекле обнаруживали
звериное число19 и тройную корону — все такие
вещи, которые видит только тот, чья голова заранее ими набита.
Огромное сочинение этого писателя состоит из восьми томов in quarto, наполненных всякой чепухой, которую он под названием «Arcana coelestia» [«Небесные тайны»] предлагает миру как новое откровение. В них он использует свои видения большей частью для раскрытия тайного смысла первых двух книг Моисея и для такого же толкования всего священного писания. Все эти мистические выкладки меня здесь совершенно не касаются; некоторые сведения о них можно при желании найти в первом томе «Теологической библиотеки» господина доктора Эрнести20. Мы остановимся только на аudita et visa, т. е. на том, что он видел собственными глазами и слышал собственными ушами. Это главным образом приложения к отдельным главам; они составляют основу всех его остальных грез и более или менее подходят к нашим вышеописанным похождениям на воздушном корабле метафизики. Стиль автора плоский. Кажется, будто его рассказы и сама компоновка[23] их действительно возникли из какого-то фантастического созерцания и вряд ли дают повод заподозрить, что спекулятивные бредовые фантазии извращенного
340
ума
побудили его сочинить их с целью обмана. Они не лишены поэтому некоторого значения
и действительно заслуживают того, чтобы из них сделать небольшое извлечение,
заслуживают, быть может, больше, чем иные вещицы безмозглых резонсров, наполняющие
наши журналы, хотя бы уже по одному тому, что толково изложенный обман чувств
представляет собой вообще явление гораздо более интересное, чем заблуждение
ума, причины которого достаточно известны и которое большей частью может быть
устранено при свободном направлении душевных сил и при большем обуздании
пустого любопытства. Чувства же составляют первооснову всякого суждения, а,
когда они дают неверную картину, законы логики бессильны. Я поэтому отделяю у
нашего автора сумасшествие от безумия и оставляю в стороне все
его превратные мудрствования, отрывающие его от виде́ний, подобно
тому как не раз приходится у философа отделять то, что он наблюдает, от
того, что составляет его умствование, — ведь по большей части даже мнимый
опыт поучительнее, чем мнимые доводы разума. Отнимая у читателя
несколько мгновений из того времени, которое он, быть может, с ненамного
большей пользой мог бы употребить на чтение основательных сочинений по
тому же предмету, я в то же время обнаруживаю заботливость о тонкости его
вкуса, так как, опуская многие дикие химеры, я преподношу ему лишь
квинтэссенцию книги в виде нескольких капель, за что надеюсь на такую же
благодарность, какую некий пациент выразил своим врачам за то, что те давали
ему только кору хинного дерева, тогда как легко могли бы заставить его съесть
все дерево.
Господин Сведенборг делит свои ви́дения на три рода. К первому роду относятся те случаи, когда он как бы свободен от тела: нечто среднее между сном и бодрствованием. В этом состоянии он видел, слышал и даже осязал духов. С ним случалось это всего раза тричетыре. Ко второму роду относятся те случаи, когда дух куда-то уводит его в то самое время, когда он гуляет, например, по улице, нисколько не сбиваясь с пути; вместе с духом он находится в совершенно иных
341
краях и
ясно видит там дома, людей, леса и т. д. в течение нескольких часов, пока он внезапно
не почувствует себя на своем настоящем месте. Это случалось со Сведенборгом
раза два-три. Третий род — обычные ви́дения, они бывали у него
ежедневно наяву, и главным образом на них построены все его рассказы.
Все люди, по его мнению, состоят в одинаково тесной связи с
миром духов. Они только этого не чувствуют, и разница между ним и другими
людьми состоит лишь в том, что его внутренний мир раскрыт — дар, о котором
он все время говорит с благоговением (datum mihi est ex divina d
Духи доступны, правда, только внутреннему чувству человека. Но благодаря этому духи являются ему как бы извне, и притом в человеческом облике. Язык духов есть непосредственное сообщение идей, но он всегда связан с проявлением (Apparenz) того языка, на котором обычно говорит человек, и кажется звучащим извне. Один дух читает в памяти другого духа представления, которые тот с ясностью имеет внутри себя. Так духи видят в Сведенборге его представления об этом мире с такой ясностью, что часто впадают в самообман, воображая, что видят предметы непосредственно, — вещь невозможная, так как чистый дух не имеет ни
342
малейшего ощущения
телесного мира. Они не могут получить представления об этом мире и от общения с
другими душами живых людей, потому что внутренний мир этих людей не раскрыт, т.
е. их внутреннее чувство заключает в себе совершенно смутные представления. Вот
почему Сведенборг — истинный оракул духов, которые с таким же любопытством
созерцают в нем настоящее состояние мира, с каким он созерцает в их памяти, как
в зеркале, чудеса мира духов. Хотя эти же духи имеют тесную связь со всеми
другими душами живых людей, действуют в них или подвергаются их действию, они
все же знают об этом столь же мало, как и люди, потому что это их внутреннее чувство,
принадлежащее к их духовной личности, совершенно смутно. Подобно тому как люди
в этой жизни полагают, что все их мысли и движения воли проистекают от них самих,
хотя на самом деле они часто переходят в них из мира невидимого, так и духи
думают, что они сами мыслят то, что есть в них результат влияния человеческих
душ. Однако уже в этой жизни каждая человеческая душа имеет свое место в мире
духов и принадлежит к определенному обществу сообразно с внутренним состоянием
в ней истинного и благого, т. е. ума и воли. Но расположение духов в отношении
друг друга не имеет ничего общего с пространством телесного мира; вот почему
душа человека, находящегося в Индии, и душа другого человека, находящегося в
Европе, могут в смысле духовном оказаться в ближайшем соседстве и, наоборот,
души двух человек, живущих физически в одном и том же доме, могут в духовном
отношении оказаться довольно далекими друг от друга. Умирает человек, и душа не
меняет своего места, но ощущает себя только в том самом месте, где она еще при
земной своей жизни пребывала по отношению к другим духам. Впрочем, хотя
отношение между духами не есть еще в подлинном смысле пространственное отношение,
оно, однако, имеет у них видимость пространства, так что нам кажется, что связь
между ними обусловлена некоторой близостью друг с другом, а различие —
некоторой отдаленностью их друг от друга, подобно тому как сами духи, в
действительности
343
лишенные
всякой протяженности, имеют, однако, друг для друга видимость человеческого
облика. В этом воображаемом пространстве духовные существа находятся в непрерывном
общении. Сведенборг беседует с душами усопших, когда ему заблагорассудится, и
читает в их памяти (способности представлений) то самое состояние, в котором
они сами себя созерцают, и притом с такой ясностью, как если бы он созерцал все
это физическими глазами. Огромное расстояние между разумными обитателями мира
следует считать ничтожным по отношению ко всему духовному миру, и беседовать с
обитателем Сатурна ему так же легко, как с душой умершего человека. Все зависит
от внутреннего состояния и от той связи, которая существует между ними на почве
истинного и благого. Более далекие друг от друга духи легко могут
сообщаться между собой при помощи других духов. Поэтому человеку нет надобности
побывать на других небесных телах, чтобы когда-нибудь познать их со всеми их
чудесами. Его душа читает в памяти других умерших граждан мира их представления
об их жизни и местопребывании и видит в них предметы так хорошо, как если бы
она непосредственно созерцала их.
Одна из главных идей в фантастических измышлениях Сведенборга заключается в следующем: телесные существа не обладают самостоятельным бытием, а существуют исключительно благодаря миру духов, причем каждое тело существует не благодаря одному какому-нибудь духу, а благодаря всем, вместе взятым. Познание материальных вещей имеет поэтому двойное значение: внешнее — поскольку речь идет о взаимном отношении материальных предметов, и внутреннее — поскольку они, как действия, указывают на силы мира духов, которые являются их причинами. Так, части человеческого тела соотносятся друг с другом по материальным законам, но, поскольку это тело поддерживается живущим в нем духом, его отдельные члены и их функции характерны для тех душевных сил, благодаря влиянию которых они имеют свой вид, деятельность и постоянство. Это внутреннее чувство неизвестно людям, а именно с ним хотел познакомить всех Сведенборг,
344
внутренний мир которого раскрыт.
Со всеми другими вещами видимого мира дело обстоит таким же образом: они, как
сказано, имеют одно — малое — значение как вещи и другое — большее — значение
как знаки. Это и есть источник нового толкования [священного] писания, которое
он намерен был предпринять. Ведь именно внутренний смысл, т. е. символическое
отношение всех рассказанных в нем вещей к миру духов, есть, как фантазирует
Сведенборг, суть их достоинства, все же остальное только шелуха. В свою очередь
в этой символической связи телесных вещей как образов с внутренним духовным
состоянием важно следующее. Духи всегда представляются друг другу под видом
существ, обладающих протяженностью, и взаимовлияние всех этих духовных существ
порождает в то же время видимость еще других обладающих протяженностью существ
и подобие материального мира, образы которого суть только символы его внутреннего
состояния, но вызывают столь явный и продолжительный обман чувств, что он
равносилен действительному ощущению подобных предметов. (Будущий толкователь
сделает отсюда вывод, что Сведенборг — идеалист, так как он отрицает, что
материя этого мира обладает самостоятельным бытием, и поэтому он хочет, быть
может, принять ее за сцепление явлений, возникающее из связи с миром духов.) Он
говорит о садах, обширных странах, жилищах, галереях и аркадах духов, которые
он видит собственными глазами совершенно ясно, и уверяет, что не раз беседовал
со всеми своими покойными друзьями, что недавно умерших трудно бывает убедить в
том, что они действительно умерли, потому что они видят вокруг себя такой же
мир. Он уверяет также, что целые общества духов одного и того же внутреннего
состояния имеют одни и те же представления о том месте, в котором они обитают,
и о тех предметах, которые в нем находятся; изменение же их состояния связано с
кажущимся изменением места. Каждый раз, когда духи сообщают человеческим душам
свои мысли, последние являются им в виде материальных вещей, которые рисуются
воспринимающему их субъекту, собственно, только в силу определенного
345
отношения
к духовному чувству, однако так же ясно, как в действительности. Вот откуда
берутся все эти дикие и страшно нелепые образы, которые наш фантаст, как ему
кажется, видит со всей ясностью в своем ежедневном общении с духами.
Я уже указал, что, по мнению нашего автора, различные силы и свойства души находятся в симпатическом отношении с органами тела, подчиненными их управлению. Ведь внешний облик человека соответствует, таким образом, всему внутреннему миру человека, и если поэтому какое-нибудь заметное духовное воздействие со стороны невидимого мира коснется преимущественно той или другой из его душевных сил, то он, как внешний человек, гармонически ощущает в соответствующих им членах видимое наличие того же воздействия. Этим Сведенборг объясняет огромное разнообразие своих телесных ощущений, которые всегда связаны у него с духовным созерцанием, но нелепость которых слишком велика, чтобы я мог решиться привести хоть отдельные из них.
Каждый, кто находит это нужным, может поэтому составить себе понятие о чрезвычайно странном и причудливом воображении, в котором соединяются все его грезы. Подобно тому как различные силы и способности образуют то единство, которое и называется душой, или внутренним миром человека, так и различные духи (основные характеры которых относятся между собой, как различные способности одного духа относятся друг к другу) образуют общество наподобие одного огромного человека. Каждый дух видит себя на том месте или в той мнимой части этого призрака, который соответствует свойственному ему отправлению в таком духовном теле. Однако все общества духов вместе и весь мир всех этих невидимых существ опять-таки выступают в конце концов как подобие огромнейшего человека. Такова чудовищная и колоссальная фантазия, в которую, быть может, разрослось далекое детское представление вроде, например, того, как в школе для лучшего запоминания ученикам рисуют целую часть света в образе сидящей девушки и т. п. В этом исполинском человеке имеет место непрерывное
346
и самое
тесное общение каждого духа со всеми остальными и всех с каждым в отдельности,
и, каково бы ни было положение живых существ в этом мире, какие бы перемены с
ними ни происходили, все они в гигантском человеке занимают совершенно другое
положение, которое никогда не изменяется и которое только по видимости есть
место в неизмеримом пространстве, а на самом деле представляет собой
определенного рода отношения и влияния этих существ.
Я устал приводить дикие бредни самого дурного из всех фантастов или продолжать их вплоть до описания им состояния после смерти. Кроме того, у меня есть еще другие соображения. Натуралист ставит в своем шкафу препараты не только нормальных животных, но и уродов, потому он должен быть осмотрителен и не показывать их всякому без разбора. Среди любопытствующих могут ведь оказаться беременные женщины, на которых это произведет плохое впечатление. И так как кое-кто из моих читателей также может относительно своей мысленной восприимчивости быть в положении, то мне было бы жаль, если бы он здесь слишком загляделся на что-то. Впрочем, поскольку я с самого начала предупредил читателей, то я не отвечаю ни за что и надеюсь, что мне не поставят в упрек те уродства, которые может по этому поводу родить их богатое воображение.
К грезам нашего автора я, впрочем, не прибавил ничего от себя и преподнес их в добросовестном извлечении спокойному и расчетливому читателю (который вряд ли пожертвовал бы семь фунтов стерлингов на удовлетворение мелкого любопытства). Я опустил большую часть непосредственных виде́ний Сведенборга, потому что такого рода дикие бредни только лишили бы читателя сна; путаный смысл его откровений кое-где передан несколько более понятным языком. Но главные черты очерка изложены правильно. При всем том было бы напрасно пытаться скрыть бесплодность всего этого труда — она бросается каждому в глаза. Так как личные виде́ния, о которых говорится в книге [Сведенборга], сами не могут быть доказаны, то причина, побудившая автора заняться ими, заключалась, по
347
всей
вероятности, в желании придать этим виде́ниям достоверность ссылками на случаи
вроде упомянутых выше, которые могли бы быть подтверждены живыми свидетелями.
Но в том-то и дело, что это не так. И вот, несколько пристыженный, я
отказываюсь от глупой попытки, делая при этом заслуживающее внимания, хотя и
несколько запоздалое, замечание: разумное мышление большей частью дело легкое,
но, к сожалению, лишь после того, как долгое время давали себя вводить в
заблуждение.
* *
*
Я разработал неблагодарную тему, навязанную мне расспросами и назойливостью любопытствующих и пребывающих в праздности друзей. Подчиняя свой труд этому легкомыслию, я в то же время обманул его ожидания, не дав никаких сведений любопытствующим и никаких разумных доводов пытливому уму. Если бы при этой работе у меня не было никакой другой задачи, я считал бы свое время потерянным. Я потерял доверие читателя, чей интерес и любознательность я скучным окольным путем привел к той же точке незнания, из которой он исходил. На самом же деле у меня была другая цель, которую я считаю более важной, чем объявленная мной, и ее, мне кажется, я достиг. Метафизика, в которую я волей судеб влюблен, хотя она лишь редко выказывает мне свое благоволение, приносит двоякого рода пользу. Первая заключается в решении задач, которые ставит любознательный человек, когда он разумом пытается выведать у вещей их тайные свойства. Но результат слишком часто обманывает здесь надежду, как ускользнул он и на этот раз из наших рук, жадно простертых.
Ter frustra c
Par levibus ventis volucrique simillima s
Virgilius
[Трижды, охваченный тщетно, из рук выскальзывал
призрак,
Равен легкому ветру и снам летучим подобен.
(Вергилий, Энеида, аcademia, M. —Л., 1933, стр. 92)]
348
Вторая польза от метафизики более
соответствует природе человеческого ума и заключается в следующем: она следит
за тем, исходит ли задача из того, что доступно знанию, и каково отношение
данного вопроса к приобретенным опытом понятиям, на которых всегда должны быть
основаны все наши суждения. В этом смысле метафизика есть наука о границах
человеческого разума21, и если по
отношению к небольшой стране, всегда имеющей много границ, более важно знать и
удерживать ее владения, чем безотчетно стараться расширить их завоеваниями, то
и польза от упомянутой науки хотя и мало кому ясна, но зато очень важна и
получается только путем долгого опыта и довольно поздно. Хоть я и не обозначил
здесь с точностью границ [разума], но все же наметил их настолько, что при
дальнейшем размышлении читатель сам сможет освободить себя от тщетных исследований
вопроса, данные которого имеются в другом мире, а не в том, в котором он
воспринимает. Я, следовательно, потерял время, дабы его вниграть. Я обманул читателя,
чтобы принести ему пользу, и хотя я не дал ему никакого нового понимания, но
зато я рассеял иллюзию и то пустое знание, которое составляет балласт для
рассудка, занимая в его тесном пространстве место, которое могли бы занимать
мудрость и полезные наставления.
Если предыдущие рассуждения только
утомили читателя, не дав ему ничего поучительного, то он может успокоить свое
нетерпение, если вспомнит то, что, как говорят, сказал Диоген своим зевающим
слушателям при виде последней страницы одной скучной книги: «Смелей, господа, я
вижу берег». Прежде мы, как Демокрит, блуждали в пустом пространстве, куда мы
вознеслись на крыльях мотыльков метафизики, и развлекались там духовными
виде́ниями. Теперь, когда вяжущая сила самопознания подрезала эти
шелковые крылышки, мы опять видим себя на низкой почве опыта и здравого смысла.
Благо нам, если мы рассматриваем эту почву как предназначенное нам место,
которое мы никогда не можем безнаказанно покидать и которое содержит в себе
все, что может нас удовлетворить, пока мы стремимся к полезному.
349
ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫВОД ИЗ ВСЕГО СОЧИНЕНИЯ
Удовлетворять всякой
любознательности и ставить пределы нашей жажде познания только там, где
начинается невозможное, — вот старание, которое подобает учености. Но из всех
бесчисленных задач, которые сами собой возникают [перед человеком], избрать
именно те, разрешение которых важно для него, — это заслуга мудрости.
Когда наука завершает свой круг, она естественно приходит к точке скромного недоверия
и неохотно говорит о самой себе: скольких вещей я не понимаю! Но зрелый,
обладающий опытом разум, ставший мудростью, устами Сократа среди ярмарки
всевозможных товаров радостно восклицает: сколько [здесь] ненужных
мне вещей! Именно таким образом два столь различных стремления сливаются в
одно, хотя первоначально они имели совершенно противоположные направления:
первое из них суетно и недовольно, второе степенно и скромно. Действительно,
чтобы сделать разумный выбор, надо прежде всего знать то, без чего можно обойтись,
более того, надо знать невозможное; но в конце концов науке удается определить
границы, установленные ей природой человеческого разума. а все беспочвенные
замыслы, хотя сами по себе они, быть может, не лишены достоинства, бесследно исчезают
в дыму тщеславия, как лежащие вне человеческой сферы. Тогда-то метафизика
становится тем, от чего она еще так далека и что в ней меньше всего подозревают,
а именно спутницей мудрости. Пока еще придерживаются мнения, что можно
прийти к столь глубокому пониманию, мудрая простота тщетно будет
напоминать о том, что можно обойтись без таких грандиозных устремлений.
Удовольствие, которое доставляет нам всякое расширение знания, легко принимает
вид чего-то должного и объявляет упомянутую скромность, преднамеренную и
рассудительную, глупой простотой, которая хочет себя противопоставить
облагораживанию нашей природы. Вопросы о духовной природе, о свободе и
предопределении, о будущей жизни и т. п. сначала приводят в движение все силы
ума и
350
своей
возвышенностью вовлекают человека в состязание умозрения, мудрствующего без
разбора, решающего, поучающего или опровергающего, как это всегда бывает с
мнимым глубокомыслием. Но как только исследование попадает в область философии,
которая является судьей собственного метода и которая познает не только
предметы, но и их отношение к человеческому рассудку, границы [разума]
суживаются и устанавливается рубеж, который никогда больше уже не позволяет
исследованию выйти из свойственной ему области. Нам понадобилась некоторая
философия, для того чтобы познать все трудности, с которыми связано понятие,
обычно считающееся очень удобными повседневным. Еще немного философии, и этот
призрак уразумения отступит от нас еще дальше, и мы убедимся, что он находится
совершенно вне кругозора человека. В отношениях причины и действия, субстанции
и [ее] действенного проявления (Handlung) задача
философии на первых порах заключается в том, чтобы разгадать сложные явления и
свести их к более простым представлениям. Раз основные отношения найдены, роль
философии кончается. Что же касается вопроса о том, каким образом нечто может
быть причиной или иметь ту или иную силу — этого никогда нельзя разрешить при
помощи разума22: эти отношения надо брать
исключительно из опыта, ведь правило нашего разума касается тишь сравнения по тождеству
и противоречию, Но если только нечто есть причина, то через это нечто
полагается и нечто другое, и, следовательно, здесь связь имеется не в
силу согласия. Точно так же если я это нечто не признаю причиной, то отсюда еще
не возникает никакого противоречия, ведь нет ничего противоречивого в том, что
если нечто одно полагается, то нечто другое устраняется. Вот почему основные
понятия о вещах как о причинах, понятия о силах и действиях, если они не взяты
из опыта, совершенно произвольны и не могут быть ни доказаны, ни опровергнуты.
Я хорошо знаю, что мышление и воля приводят в движение мое тело, но я никогда
не могу это явление, как простой опыт, путем расчленения свести к какому-либо
другому явлению, — я могу его, правда, познать, но
351
не могу
уразуметь. Что моя воля движет моей рукой, — это для меня не более понятно, чем
если бы кто-нибудь сказал, что она может также задержать движение Луны. Вся разница
здесь только в том, что первое я узнаю из опыта, а второе никогда мне не
приходило на ум. Я познаю в себе как в субъекте, который живет, разные
изменения, а именно мысли, волю и другое, и так как все эти определения
совершенно отличны от того, что в целом составляет мое понятие тела, то я
справедливо допускаю некоторое нетелесное и постоянное существо. Но будет ли
это существо мыслить и без связи с телом, об этом нельзя умозаключать на основании
его свойств, познанных на опыте. С существами одинаковой со мной природы я связан
через физические законы, но, нахожусь ли я или буду когда-нибудь находиться с
ними в связи и без посредства материи по каким-то другим законам, которые мне
угодно называть пневматическими, я никак не могу заключить из имеющихся у меня
данных. Все подобные суждения, как, например, суждения о том, что моя душа
движет моим телом, что она находится или будет находиться в связи с другими
существами, ей подобными, — все такие суждения могут быть только вымыслом, и
притом далеко не имеющим такого значения, как те выдумки, с которыми мы
встречаемся в естествознании и которые известны под именем гипотез. В этих
последних основные силы не измышляются; берутся те силы, которые уже известны
из опыта, и прилагаются так, как это соответствует явлениям, и потому сама их
возможность может быть доказана во всякое время, тогда как при вымыслах, о
которых идет речь, допускаются совершенно новые основные отношения между
причиной и действием, отношения, о возможности которых никогда нельзя иметь ни
малейшего понятия и которые сочинены творчески или химерически, как вам будет
угодно выразиться. То обстоятельство, что различные явления — действительные
или мнимые — понятны из таких общепринятых основных идей, не приносит им
никакой пользы. Можно легко найти основание для всего на свете, раз дозволяется
произвольно сочинять разные действующие силы (Tätigkeiten) и законы действия. Нам, следовательно,
352
приходится
ждать, пока мы в будущем на основе нового опыта получим новые понятия о скрытых
еще для нас силах в нашем мыслящем Я. Так, наблюдения позднейшего
времени, объясненные при помощи математики, обнаружили нам притягательную силу
материи, о самой возможности которой (ибо она мыслится нами одной из основных
сил) нам никогда не удастся составить себе более точного представления. Те, кто
хотел бы без доказательства, взятого из опыта, придумать подобное свойство,
подверглись бы, как глупцы, справедливому осмеянию. Так как в таких случаях
доводы разума не имеют никакого значения ни для обнаружения, ни для
подтверждения возможности или невозможности, то решающим следует здесь признать
только опыт. Так я поступаю, например, по отношению к хваленой целебной силе
магнита при зубной боли: я предоставляю времени, которое дает нам опыт,
выяснить этот вопрос, если только оно накопит достаточно наблюдений, из которых
действие магнетической пластинки на мясо и кости будет установлено так же несомненно,
как действие ее на железо и сталь. Если же какой-нибудь мнимый опыт не может
быть согласован ни с каким законом восприятия, действующим у большинства людей,
и, следовательно, свидетельствует только о полном беспорядке в показаниях
органов чувств (как это и на самом деле бывает с распространяемыми в обществе
рассказами о духах), то лучше всего такие опыты прекратить по той простой
причине, что отсутствие согласованности и сообразности, как и отсутствие
исторического знания, лишает их доказательной силы: они не могут служить
основанием для какого-нибудь закона опыта, о котором мог бы судить наш ум.
Подобно тому как, с одной стороны, путем более глубокого исследования мы усмотрели, что в случае, о котором мы говорим, никакое убеждающее и философское уразумение невозможно, так, с другой стороны, при спокойном и беспристрастном отношении к делу окажется, что оно и излишне, и вовсе не нужно. В своем тщеславии наука охотно ссылается в своих работах на важность [изучаемого]; так и в нашем случае обыкновенно указывают на то, что разумный взгляд на духовную
353
природу
души приводит к уверенности в существовании загробной жизни, а эта уверенность
очень нужна как побудительный мотив к добродетельной жизни. Праздное. любопытство
прибавляет, однако, что достоверность явлений душ усопших может быть даже
подтверждена опытом. Однако истинная мудрость есть спутница простоты, и так как
при ней сердце предписывает правила рассудку, то она обычно обходится без
больших снаряжений учености, и цели, которые она себе ставит, не нуждаются в
средствах, которые никогда не будут в распоряжении всех. Как? Разве быть
добродетельным только потому хорошо, что существует тот свет? Или, наоборот,
наши поступки получат когда-то вознаграждение не потому ли, что были хороши и
добродетельны сами по себе? Разве в человеческом сердце не заложены
непосредственно нравственные предписания или необходимы какие-то действующие из
другого мира машины, чтобы заставить человека поступать в этом мире согласно
своему назначению? Разве может называться честным или добродетельным тот, кто
охотно предавался бы своим любимым порокам, если бы его не пугала кара в
будущем, и не должны ли мы скорее сказать, то такой человек хотя и страшится
греха, но в душе таит порочные наклонности, что он любит выгоду, приносимую
добродетельными поступками, но саму добродетель ненавидит? И действительно,
опыт показывает, что многие из тех, кто осведомлен и убежден в существовании
будущей жизни, предаваясь здесь порокам и мерзостям, только и думают о том,
какими ухищрениями избежать грозящих последствий в будущем. И поистине не было
еще никогда ни одной честной души, которая мирилась бы с мыслью о том, что со
смертью все кончается, и благородные стремления которой не окрылялись бы
надеждой на будущее. Поэтому, кажется, сообразнее с человеческой природой и
чистотой нравов основывать ожидания будущего мира на чувствах благородной души,
чем, наоборот, ее благонравное поведение основывать на надежде на будущую
жизнь. Такова и на самом деле моральная вера: ее простота может быть
выше разных тонкостей пустого умствования, только она приличествует человеку в
каждом
354
его состоянии, ведя его прямой дорогой к его истинным целям23. Предоставим умозрению и попечению праздных умов
все громкие учения о столь отдаленных материях. В действительности эти учения
нас мало интересуют и иллюзорный блеск доводов за или против них может,
конечно, иметь значение для одобрения школ, но вряд ли решает что-нибудь
относительно будущей судьбы честных людей. Человеческий разум также не наделен
такими крыльями, которые дали бы ему возможность пробиться сквозь высокие облака,
скрывающие от наших глаз тайны иного мира. Любознательным же людям, которые так
настойчиво стараются хоть что-нибудь узнать о том мире, можно дать простой, но
совершенно естественный совет: терпеливо дожидаться, пока они не попадут
туда. Но так как наша судьба в будущем мире, надо полагать, в значительной
мере зависит от того, как мы исполняли наши обязанности в этом мире, то я и
кончаю словами, которые Вольтер вложил в уста своему честному Кандиду после
долгих бесплодных схоластических споров: «Будем заботиться о нашем счастье,
пойдемте возделывать свой сад».
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПИСЬМО О СВЕДЕНБОРГЕ К ФРЕЙЛЕЙН ШАРЛОТТЕ
ФОН КНОБЛОХ
[10 августа 1763 г.]
Я не лишал бы себя так долго чести и удовольствия исполнить
повеление дамы, являющейся украшением ее пола, и давно прислал бы затребованное
сообщение, если бы не нашел нужным предварительно собрать более подробные
сведения по этому вопросу. Рассказ, к которому я приступаю, по содержанию
своему совершенно отличен от тех, которым обычно позволено в изящной форме
проникнуть в покои, где обитает сама красота. Я бы не мог простить себе, если
бы при чтении этого рассказа глубокая серьезность, хотя бы на один миг,
погасила радостное выражение лица, с которым имеет право взирать на Вселенную
ничем не омраченная невинность, и если бы я не был уверен, что, хотя подобного
рода картины вызывают страх, воскрешающий
355
старые
впечатления, внушенные воспитанием, просвещенная женщина прочтет этот рассказ
не без того удовольствия, которое может доставить его правильное использование.
Позвольте мне, милостивая государыня, оправдать мое действие в этом деле, так
как может показаться, что простое заблуждение побудило меня разыскать
соответствующие рассказы и охотно принять их без тщательной проверки.
Не знаю, замечал ли
кто-нибудь в моем характере склонность к вере в чудеса или легковерие. Несомненно
во всяком случае, что вопреки всем рассказам о виде́ниях и о действиях
мира духов, из которых множество наиболее вероятных мне известно, я всегда
старался следовать прежде всего указаниям здравого смысла, склоняясь в сторону
отрицания. Не потому, что я воображаю, будто мне ясна невозможность всего этого
(мы ведь очень мало знаем о природе духа), а потому, что все эти рассказы
недостаточно доказаны. Впрочем, что касается непостижимости и бесполезности
такого рода явлений, то здесь столько трудностей, а, с другой стороны, так
легко обнаружить обман и поддаться обману, что я, вообще не склонный выдумывать
себе хлопоты, нашел излишним проводить тоскливые часы на кладбищах или во
мраке. Вот в каком душевном состоянии я обретался с давних пор, пока я не
познакомился с историей господина Сведенборга.
Эту историю я узнал от одного
датского офицера, моего друга и бывшего слушателя, который за столом у
австрийского посланника в Копенгагене Дитрихштейна вместе с другими гостями
читал письмо, полученное им в это же время от мекленбургского посланника в
Стокгольме барона Лютцова. В письме барон Лютцов сообщает, что в обществе
голландского посланника в Стокгольме он у шведской королевы сам слышал странную
историю о г-не фон Сведенборге, которая Вам, милостивая государыня, уже должна
быть известна. Достоверность подобного сообщения поставила меня в тупик.
Трудно, в самом деле, допустить, чтобы один посланник открыто сообщил другому
посланнику что-то неверное о королеве, при дворе которой он аккредитован, и еще
в присутствии избранного общества. И вот, дабы не
356
отвергнуть
без основания предрассудок относительно явлений и видений при помощи нового
предрассудка, я нашел разумным ознакомиться ближе с этой историей. Я написал
упомянутому офицеру в Копенгаген и поручил ему собрать всевозможные подробности
этой истории. Он ответил, что еще раз по этому поводу беседовал с графом
Дитрихштейном, что дело было действительно так и что профессор Шлегель1 заверил его, что сомнения тут быть не может. Так как
он собирался в армию генерала Сен-Жермена, то посоветовал мне обратиться с
письмом к самому г-ну Сведенборгу за более подробными сведениями. Я и написал
этому странному человеку письмо, которое было вручено ему одним английским
купцом в Стокгольме. Мне сообщили здесь, что господин Сведенборг благосклонно
принял письмо и обещал ответить. Ответа, однако, не последовало. Тем временем я
познакомился с проживавшим здесь прошлым летом англичанином, очень приличным
человеком. Мы с ним подружились, и я поручил ему во время поездки в Стокгольм собрать
более точные сведения относительно дара господина Сведенборга творить чудеса.
Из его первого сообщения видно, что, по словам лиц, очень уважаемых в Стокгольме,
упомянутая история произошла именно так, как я ее Вамраньше рассказал. Сам он
тогда с господином Сведенборгом не говорил, но надеялся повидать его, хотя
вообще ему трудно было убедить себя в правильности всего услышанного им от
благоразумнейших лиц в Стокгольме про тайные сношения господина Сведенборга с невидимым
миром духов. Однако тон его других писем совершенно иной. Он не только говорил
с господином Сведенборгом, но побывал у него в доме и в высшей степени поражен
всей этой странной историей. Сведенборг — человек благоразумный, любезный и
откровенный. Он ученый, и мой друг обещал вскоре прислать мне некоторые его
сочинения. Сведенборг без околичностей сказал моему другу, что бог наделил его
особой способностью общаться по своему желанию с душами умерших. Он ссылался
при этом на общеизвестные доказательства. Когда ему напомнили о моем письме, он
сказал, что с удовольствием прочел его и давно
357
ответил
бы, если бы не решил ознакомить всех с этой удивительной историей, и что в мае
нынешнего года он отправится в Лондон, где издаст свою книгу, в которую войдет
подробный ответ на мое письмо.
Чтобы дать Вам, милостивая
государыня, некоторые доказательства, я прошу Вас выслушать рассказ о следующих
двух происшествиях, содержание которых имел возможность проверить на месте
человек, сообщивший мне о них, причем все очевидцы их еще живы.
От госпожи Мартевиль, вдовы
голландского посланника в Стокгольме, спустя некоторое время после смерти ее
мужа ювелир Кроон потребовал уплатить за серебряный сервиз, изготовленный им по
заказу ее супруга. Вдова была совершенно уверена, что покойный муж ее, который
был человек в высшей степени аккуратный и порядочный, не мог не уплатить этот
долг, но она никак не могла найти квитанцию. Обеспокоенная этим, так как речь
шла о довольно значительной сумме, она пригласила к себе господина Сведенборга.
Извинившись перед ним, она прямо сказала, что если, как утверждают все, он действительно
одарен необыкновенной способностью беседовать с душами умерших, то не будет ли
он любезен осведомиться у ее мужа относительно уплаты за серебряный сервиз.
Сведенборгу было не трудно исполнить ее просьбу. Три дня спустя небольшое
общество собралось за чашкой кофе у этой дамы. Явился также господин Сведенборг
и со свойственным ему хладнокровием сообщил, что он говорил с ее мужем. Долг
был уплачен за семь месяцев до его смерти, а квитанция находится в шкафу в
верхней комнате. Дама возразила, что этот шкаф совершенно пуст и что в бумагах
квитанция не найдена. На это Сведенборг ответил, что, как описал ему ее муж,
если вынуть ящик с левой стороны, покажется доска, которую тоже надо вынуть, и
тогда откроется потайной ящик, в котором находится его секретная голландская
переписка, а также квитанция. После такого сообщения дама в сопровождении всех
гостей поднялась в верхнюю комнату. Открывают шкаф, поступают согласно
разъяснению и обнаруживают потайной ящик, о котором дама
358
ничего
не знала, а в нем — указанные бумаги, к величайшему изумлению всех присутствовавших.
Следующее происшествие
кажется мне наиболее достоверным из всех и действительно устраняет всякие сомнения.
Это было в 1756 г. В конце сентября, в субботу, в четыре часа пополудни,
господин Сведенборг прибыл из Англии в Готенбург. Здесь господин Уильям Касл
пригласил к себе в гости его и еще пятнадцать человек. В шесть часов вечера господин
Сведенборг вышел из гостиной и вскоре возвратился бледный и взволнованный. Он
заявил, что в Стокгольме, на Зюдермальме, вспыхнул страшный пожар (Готенбург отстоит
от Стокгольма на расстоянии свыше 50 миль) и что огонь быстро распространяется.
Он очень беспокоился и часто выходил из комнаты. Он сказал, что дом одного из
его друзей, которого назвал по имени, уже превратился в пепел и что опасность
грозит его собственному дому. В восемь часов, снова войдя в комнату, он
радостно воскликнул: «Слава богу, пожар потушен недалеко от .моего дома!» Весь
город, и в особенности гостей, собравшихся у Касла, сильно взволновало это
известие о пожаре, и в тот же вечер сообщили о нем губернатору. В воскресенье
утром Сведенборг был вызван к губернатору. Тот расспросил его о случившемся.
Сведенборг подробно описал пожар, рассказав, как он начался, как кончился и
сколько времени продолжался. В тот же день известие облетело весь город и
вызвало тем большую тревогу, что на это сам губернатор обратил внимание, и
многие опасались за своих друзей и за свое имущество. В понедельник вечером
прибыла в Готенбург эстафета, отправленная во время пожара стокгольмским
купечеством. В письмах о пожаре рассказывалось точь-в-точь, как описал его
Сведенборг. Во вторник утром к губернатору прибыл королевский курьер с
донесением о пожаре, о причиненном им ущербе, о сгоревших домах. Донесение
ничем не отличалось от сообщения, сделанного Сведенборгом; пожар действительно
был потушен часов в восемь.
Что можно сказать против
достоверности этого происшествия? Приятель, пишущий мне об этом, проверил все
не только в Стокгольме, но месяца два тому назад и
359
в
Готенбурге, где он хорошо знаком с лучшими семьями и мог получить исчерпывающие
сведения и где живет еще большинство очевидцев происшествия 1756 г. Одновременно
он сообщил мне о способе, каким господин Сведенборг, по его собственным словам,
общается с духами, а также изложил его идеи о состоянии душ умерших. Получился
портрет поистине редкостный, но у меня нет времени описать Вам его. Как бы я
желал лично расспросить этого странного человека: мой приятель не настолько
знаком с методами, чтобы выведать то, что могло бы пролить на все это больше
света. С нетерпением жду книгу, которую Сведенборг намерен издать в Лондоне.
Приняты все меры к тому, чтобы я получил ее, как только она появится в печати.
Вот все, что я пока могу
сообщить для удовлетворения Вашей благородной любознательности. Не знаю,
милостивая государыня, хотите ли Вы знать мое мнение об этом щекотливом деле.
Таланты гораздо более крупные, чем тот, который достался на мою долю, могут тут
установить мало достоверного. Но каково бы ни было мое мнение, Ваше приказание
обязывает меня изложить его письменно, если Вы еще долго пробудете в деревне и
я не смогу высказаться устно. Боюсь, что злоупотребил Вашим позволением писать
Вам, занимая Вас слишком долго своим второпях составленным и не очень складным
письмом.
С глубочайшим почтением остаюсь
И. Кант
ПИСЬМО К МОИСЕЮ
МЕНДЕЛЬСОНУ
1766
![]()
Милостивый государь!
Во исполнение моей
покорнейшей просьбы Вы любезно взяли на себя труд передать некоторые посланные
Вам сочинения, на что я отвечаю искреннейшей благодарностью и выражением
готовности ко всякого рода ответным услугам.
Удивление, которое Вы
высказываете по поводу тона небольшого сочинения1,
служит для меня доказательством доброго мнения, которое Вы составили о моей
искренности, и даже Ваше неудовольствие по поводу того, что в данном сочинении,
как Вам кажется, она выражена лишь двусмысленно, для меня ценно и приятно.
Действительно, у Вас никогда не будет основания изменить обо мне свое мнение,
ибо каковы бы ни были недостатки, избежать которых не всегда можно даже при
самой твердой решимости, но непостоянство и погоня за внешним блеском, право,
никогда не станут моим уделом, после того как в течение большей части своей
жизни я научился почти обходиться без того, что обычно портит характер, и
презирать это. Потеря уважения к себе, проистекающего от сознания искренности
убеждений, была бы поэтому самым большим несчастьем, которое могло бы меня
постигнуть, но которое наверняка никогда меня не постигнет. Правда, я с самой
твердой убежденностью и к великому удовлетворению моему думаю многое такое, о
чем я никогда не
363
осмелюсь
сказать, но я никогда не буду говорить то, чего я не думаю.
Не знаю, заметили ли Вы при
чтении этого довольно сумбурно написанного сочинения признаки того
недовольства, с которым я его писал. Проявив большое любопытство к виде́ниям
Сведенборга, я осведомлялся о них у лиц, имевших случай узнать его, вел некоторую
переписку и, наконец, приобрел его произведения и тем самым имел основание
неоднократно высказываться по этому поводу. Однако я ясно видел, что у меня до
тех пор не будет покоя от постоянных расспросов, пока я не расскажу всех этих
анекдотов, которые я, как полагают другие, знаю.
И в самом деле, мне было
трудно придумать метод, следуя которому я мог бы выразить свои мысли [об этом
предмете] так, чтобы не вызывать насмешки. Мне казалось поэтому наиболее
целесообразным опередить в этом отношении других, посмеявшись над самим собой.
И я поступил вполне искренне, поскольку состояние моей души действительно было
при этом противно здравому смыслу. Что касается рассказа [о виде́ниях], то
я не мог не проявлять некоторый интерес к такого рода историям; что же касается
доводов разума, то я не мог предполагать их совершенно неправильными; и это
несмотря на нелепости, которые лишают ценности первые, и на измышления и
неясные понятия, лишающие всякой ценности вторые.
Что касается высказанного
мной мнения о значении метафизики вообще, то хотя, быть может, то или иное
выражение и было мной выбрано недостаточно осторожно и точно, однако я вовсе не
скрываю, что смотрю с отвращением, более того, с какой-то ненавистью на
напыщенную претенциозность целых томов, наполненных такими воззрениями, какие в
ходу в настоящее время. При этом я убежден, что избранный в них путь является
совершенно превратным, что модные методы [метафизики] должны до бесконечности умножать
заблуждения и ошибки и что полное искоренение всех этих воображаемых знаний не
может быть в такой же степени вредным, как сама эта мнимая наука с ее столь
отвратительной плодовитостью.
364
Я настолько далек от того,
чтобы саму метафизику, рассматриваемую объективно, считать чем-то незначительным
или лишним, что в особенности с того времени, как я постиг, как мне кажется, ее
природу и настоящее ее место среди человеческих познаний, я убежден в том, что
от нее зависит даже истинное и прочное благо человеческого рода. Это — хвала,
которая всякому другому, кроме Вас, покажется фантастической и дерзновенной.
Таким гениям, как Вы, милостивый государь, полагается создать новую эпоху в
этой науке, дать ей новое направление и начертать мастерской рукой план для
этой все еще наугад разрабатываемой дисциплины. Что касается запаса
[метафизических] знаний, преподносимого публике, то мое мнение (оно не
выражение легкомысленного непостоянства, а результат долгого исследования)
таково: самое целесообразное — это снять с него его догматическое одеяние и
подвергнуть необоснованные воззрения скептическому рассмотрению, польза чего,
правда, лишь негативна (stultitia
caruisse [избавиться от глупости])2, но
подготовляёт к позитивной3. Для того чтобы
достичь понимания, простота моего здравого, но свободного от наставлений
рассудка нуждается лишь в орудии, мнимое же понимание испорченного ума — в
слабительном. Если позволено упомянуть здесь о чем-то из моих собственных
начинаний в этом отношении, то я полагаю, что, с того времени как я не
опубликовал ни одного сочинения на эту тему, я пришел в этой дисциплине к
важным выводам, устанавливающим ее метод, и это не только общие взгляды; они
применимы в качестве настоящего мерила. Постепенно я подхожу к тому, чтобы, насколько
позволят мне другие занятия, отдать эти опыты на суд общественности, и прежде
всего на Ваш суд, причем я льщу себя надеждой, что если бы Вам угодно было
соединить в этом отношении свои усилия с моими (под этим я разумею также и указание
на их ошибки), то могло бы быть достигнуто нечто важное для развития науки.
Мне доставляет немалое
удовольствие знать, что мой небольшой и беглый опыт побудит Вас к основательным
размышлениям по этому вопросу, и я считаю его
365
достаточно
полезным, если он другим может дать повод к более глубоким исследованиям. Я
уверен, что Вы не пройдете мимо того вопроса, к которому относятся все эти
соображения и который я обозначил бы отчетливее, если бы не был вынужден
печатать это сочинение отдельными листами. я не всегда мог предусмотреть, что́
необходимо предпослать для лучшего понимания последующего и где те или иные
объяснения надо было в последующем опустить, чтобы они не оказались в
ненадлежащем месте. По моему мнению, вся задача заключается в том, чтобы найти
данные для разрешения проблемы: каким образом душа может находиться в мире,
присутствуя и в существах материальной природы, и в других существах, подобных
ей? Необходимо, следовательно, найти силу внешнего действия, а также
рецептивность, т. е. способность воспринимать извне, в такой субстанции,
соединение которой с человеческим телом есть только особый вид [соединения]. Мы
не располагаем никаким опытом, на основе которого мы могли бы познать такой
субъект в различных отношениях, которые единственно только и были бы пригодны к
тому, чтобы раскрыть его внешнюю силу или способность; гармония же с телом
представляет собой лишь отношение внутреннего состояния души (мышления и
хотения) к внешнему состоянию материи нашего тела и, следовательно, не
раскрывает отношения одной внешней деятельности к другой внешней
деятельности, а потому вовсе не пригодна для разрешения поставленной проблемы.
Вот почему возникает вопрос, возможно ли вообще при помощи априорного суждения
разума раскрыть силы духовных субстанций. Это исследование сводится к другому,
а именно: можно ли посредством умозаключений найти первоначальную силу, т. е.
первое основное отношение — отношение причины к действию. Так как я уверен, что
это невозможно, то отсюда следует, что если эти силы не даны в опыте, то они
могут быть только вымышлены. Но это измышление (fictio heuristica, hypothesis) никогда не может послужить основанием
доказательства хотя бы только возможности [чего-то], и сама мыслимость
(видимость ее проистекает оттого, что нельзя доказать также и ее невозможность)
366
есть только
мираж; поэтому я бы взялся защищать грезы самого Сведенборга, если бы
кто-нибудь стал оспаривать возможность этих грез, а моя попытка провести
аналогию действительного нравственного влияния духовных существ со всеобщим
тяготением есть, собственно говоря, с моей стороны не [выражение] серьезного
мнения, а пример того, как далеко и притом беспрепятственно можно продвигаться
в философских измышлениях, где данные отсутствуют, и как важно, когда ставится
такая задача, выяснить, что́ именно необходимо для решения проблемы и не отсутствуют
ли для этого необходимые данные. Если мы поэтому оставим пока в стороне доказательство,
исходящее из гармоничности [мира] или из божественных целей, и спросим,
возможно ли когда-нибудь на основании нашего опыта такое знание о природе души,
которого было бы достаточно для того, чтобы исходя из него познать, каким
образом она присутствует в мировом пространстве как в отношении материи, таки в
отношении существ одинаковой с ней природы, —то тогда выяснится, есть ли рождение
(в метафизическом смысле), жизнь и смерть нечто такое, что мы
когда-нибудь сможем постигнуть при помощи разума. Здесь важно решить, не существуют
ли здесь действительно границы, положенные ограниченностью нашего разума, как в
опыте, содержащем в себе данные для решения вопроса. Однако на этом я кончаю
свое письмо и, рассчитывая на Вашу дружбу, прошу Вас засвидетельствовать также
и господину профессору Зульцеру мое глубокое уважение с пожеланием иметь честь
получить от него письмо, которым он меня очень обяжет.
С величайшим уважением
остаюсь, милостивый государь, Вашим покорным слугой
И. Кант.
Кёнигсберг, 8 апреля 1766 г.
О ПЕРВОМ ОСНОВАНИИ
РАЗЛИЧИЯ СТОРОН В ПРОСТРАНСТВЕ
1768
![]()
Знаменитый Лейбниц обладал
многими действительными знаниями, которыми он обогатил науки, но еще более
грандиозны были его замыслы, выполнения которых мир тщетно от него ждал. Было
ли причиной этого то обстоятельство, что его исследования казались ему еще
слишком незавершенными, — неуверенность, вообще свойственная людям с большими
заслугами и во все времена лишавшая ученый мир многих ценных фрагментов, — или
с ним случилось то, что Бургав думает о великих химиках, а именно что они часто
говорили о фокусах так, как будто они уже проделали их, тогда как в действительности
они только убеждали себя в этом, полагаясь на свою ловкость, уверенные, что эти
фокусы не могут не удаться, если только они захотят за них взяться1, — этого вопроса я здесь не решаю. Во всяком случае
весьма вероятно, что некоторая математическая дисциплина, которую Лейбниц
заранее озаглавил «Analysis situs»2 и о потере которой среди других высказывает
сожаление Бюффон при обсуждении им вопроса о свертываниях природы в зародышах,
— что эта дисциплина была всего лишь плод воображения. Я не могу сказать с
уверенностью, в какой мере предмет, который я подвергаю здесь рассмотрению,
сходен с тем, который имел в виду этот великий муж; однако если судить по
значению слов, [которыми он назвал свою дисциплину], то философски я ищу здесь
первого основания возможности того, величины чего он намерен
371
был
определить математически. В самом деле, положение частей пространства относительно
друг друга предполагает определенное направление, по которому эти части расположены
именно так, а не иначе; это направление, взятое в самом абстрактном смысле, заключается
не в отношении одной находящейся в пространстве вещи к другой, что, собственно,
составляет понятие положения, а в отношении системы этих положений к абсолютному
мировому пространству3. Во всем, что обладает
протяженностью, цоложение частей относительно друг друга может быть в
достаточной мере понято из него самого, но направленность этого расположения
частей относится к пространству, находящемуся вне этого протяженного, а именно
не к его местам, что было бы не чем иным, как только положением этих же частей
во внешней связи, а к всеобщему пространству как единству, с точки зрения
которого всякое протяжение до́лжно рассматриваться как его часть. Не будет
ничего удивительного, если читатель найдет эти понятия еще весьма неясными, поскольку
они только в дальнейшем должны получить свое разъяснение. Поэтому я ничего
другого не добавлю здесь, как только то, что моя цель в этом сочинении —
попытаться дать ответ на вопрос, нельзя ли в опирающихся на созерцание
суждениях (anschauende Urteile) о протяжении,
которые содержит в себе геометрия, найти очевидное доказательство того, что абсолютное
пространство обладает собственной реальностью независимо от существования
всякой материи и даже в качестве первого основания возможности ее сложения.
Всем известно, сколь тщетны были усилия философов раз навсегда решить этот
вопрос посредством отвлеченнейших суждений метафизики; я не знаю ни одной попытки
вывести это, так сказать, а posteriori (a
именно посредством других неопровержимых положений, которые сами, правда, лежат
вне метафизики, однако, если применять их in
concreto, могут послужить пробным камнем их правильности), кроме статьи
знаменитого Эйлера-старшего4 в «Истории
Королевской академии наук» в Берлине от 1748 г. Эта статья, однако, не вполне
достигает своей цели, потому что она лишь показывает, как трудно придать самым
372
общим
законам движения определенное значение, когда принимают только то понятие
пространства, которое возникает из абстракции от отношений действительных вещей
между собой. Статья обходит не меньшие трудности, остающиеся при применении
упомянутых законов, когда их хотят представить in concreto в соответствии с понятием абсолютного пространства.
Доказательство, которое я здесь ищу, должно дать убедительный довод не знатокам
механики, как это имел в виду Эйлер, а самим геометрам, дабы они с обычной для
них очевидностью могли обосновать действительность признаваемого ими
абсолютного пространства. Нижеследующее пусть послужит подготовкой к этому.
В телесном пространстве,
поскольку оно имеет три измерения, можно мыслить три плоскости, пересекающие
друг друга под прямым углом. Так как то, что находится вне нас, мы знаем при
помощи наших органов чувств лишь постольку, поскольку оно находится в отношении
к нам самим, то нет ничего удивительного в том, что из отношения этих взаимно
пересекающихся плоскостей к нашему телу мы берем первое основание для
образования понятия сторон в пространстве. Плоскость, на которой стоит
вертикально наше тело во весь рост, называется относительно нас горизонтальной,
и эта горизонтальная плоскость дает повод к различению сторон, которые мы
обозначаем словами наверху и внизу. На этой плоскости могут
стоять вертикально две другие, пересекаясь друг с другом под прямым углом так,
чтобы длина человеческого тела мыслилась в линии этого пересечения. Одна из
этих вертикальных плоскостей делит тело на две внешне подобные друг другу
половины и дает основание для различения правой и левой сторон;
другая плоскость, перпендикулярная к первой, дает нам возможность образовать
понятие о передней и задней сторонах. У исписанного листа,
например, мы различаем прежде всего верхнюю и нижнюю части написанного,
замечаем различие между передней и задней сторонами листа, и затем мы обращаем
внимание на расположение слов, идущих слева направо или наоборот. Здесь мы
всегда имеем дело с одним и тем же взаимным положением частей на плоскости и с
373
одинаковой
фигурой на любом отрезке листа, как бы мы ни поворачивали этот лист; однако
различие сторон при таком представлении обязательно принимается в расчет и
столь тесно связано с впечатлением, которое производит видимый предмет, что
написанное становится совершенно непонятным, если смотреть повернутым справа
налево то, что раньше имело противоположное направление.
Даже наши суждения о странах
света подчинены понятию, которое мы вообще имеем о направлениях, поскольку они
определены в отношении к сторонам нашего тела. Познаваемые нами соотношения на
небе и земле независимо от этого основного понятия суть только положения
предметов относительно друг друга. И как бы хорошо я ни знал расположение
отдельных частей горизонта, но стороны я могу определить, только зная, по какую
руку они находятся. Точнейшая карта неба, как бы ясно я ни представлял ее в
уме, не дала бы мне возможности, исходя из известного мне направления, например
севера, узнать, на какой стороне горизонта мне следовало бы искать восход
Солнца, если бы кроме положения звезд в отношении друг друга не было определено
и направление положением чертежа относительно моих рук. Точно так же обстоит
дело с нашим географическим и даже с нашим самым обыденным знанием положения
мест, которое ничего нам не даст, если расположенные таким образом вещи и всю
систему их взаимных положений мы не будем в состоянии установить по
направлениям через отношение сторон нашего тела. И даже для порождений природы
определенное направление, в котором обращено расположение их частей, составляет
очень важный отличительный признак, могущий при случае содействовать различению
их видов. Благодаря этому можно различать два существа, хотя они и по своей
величине, и по своим пропорциям, и даже по взаимному расположению частей могут
совершенно совпадать друг с другом. Волосы на темени всех людей расположены
слева направо. Хмель всегда обвивается вокруг жерди слева направо. Бобовые
растут в противоположном направлении. Почти у всех улиток, за исключением
каких-нибудь трех видов, спи-
374
рали,
если идти сверху вниз, т. е. от вершины к выходному отверстию улитки, имеют направление
слева направо. Это определенное свойство неизменно присуще одному и тому же
виду существ, независимо и от того, в каком полушарии они находятся, и от
направления ежедневного движения Солнца и Луны, которое для нас идет слева
направо, а для наших антиподов — в обратном направлении; и это потому, что у
всех указанных существ причина извилистости заложена в самом их семени.
Напротив, там, где вращение может быть приписано самому движению упомянутых
небесных тел (так, Мариотт5 на основе своих
наблюдений установил закон, согласно которому в период от новолуния до полнолуния
ветры проходят слева направо полный круг), такое круговое движение должно на другом
полушарии совершаться в противоположном направлении (nach der аndern Hand), как это действительно подтверждает дон Уллоа6 в своими наблюдениями в южных морях.
Так как для суждения о
направлениях в высшей степени необходимо различным образом чувствовать правую и
левую сторону, то природа связала это чувство с механизмом человеческого тела,
посредством которого одна, а именно правая, сторона, несомненно, превосходит
левую в ловкости, а может быть, даже и в силе. Поэтому все народы земли всегда
пользуются преимущественно правой рукой (если не говорить об отдельных исключениях,
которые подобно косоглазию не могут опровергнуть всеобщность правила, согласного
с естественным порядком вещей). Когда садимся на лошадь или перешагиваем через
ров, нам легче двигать свое тело с правой стороны на левую, чем в противоположном
направлении. Повсюду пишут правой рукой и ею же делают все, что требует
ловкости и силы. Но подобно тому как правая сторона превосходит, по всей
вероятности, левую в движущей силе, так и левая сторона превосходит правую
в остроте ощущения (Empfindsamkeit),
если верить некоторым естествоиспытателям, например Борелли7 и Боннэ8, из
которых первый говорит о левом глазе, а второй — о левом ухе, что чувствительность
их острее, чем чувствительность тех же
375
органов
с правой стороны. Таким образом, обе стороны человеческого тела, несмотря на их
большое внешнее сходство, достаточно различаются друг от друга по ясности ощущения,
присущей каждой из них, если даже не принимать во внимание различие в положении
внутренних частей и заметное биение сердца, поскольку этот мускул, при каждом
своем сокращении производя движение наклонно, ударяет своей верхушкой в левую
сторону груди.
Мы хотим, следовательно,
доказать, что полное, определяющее основание фигуры тела покоится не только на
соотношении и взаимном положении его частей, но и на отношении к всеобщему
абсолютному пространству, как его мыслят геометры, но так, что это отношение не
может быть воспринято непосредственно — восприняты могут быть те различия между
телами, которые всецело покоятся на этом основании. Если две фигуры, нарисованные
на какой-то плоскости, равны и подобны друг другу, то они совпадают. Однако с
протяжением тел или же с линиями и плоскостями, которые лежат не на одной поверхности,
дело часто обстоит совсем иначе. Они могут быть совершенно равны и подобны,
однако сами по себе до такой степени различны, что границы одной не могут быть
в то же время и границами другой. Винтовая резьба, проведенная по стержню слева
направо, никогда не подойдет к такой гайке, нарез которой проходит справа
налево, хотя бы толщина винтового стержня и число винтовых ходов совпадали полностью.
Сферический треугольник может быть совершенно равным и подобным другому, не
совпадая, однако, с ним. Но самый обычный и ясный пример — конечности
человеческого тела, расположенные симметрично по отношению к вертикальной
плоскости. Правая рука подобна и равна левой, и если смотреть только на одну из
них, на пропорцию и положение ее частей относительно друг друга, а также на
величину всей руки в целом, то полное описание одной руки должно быть полностью
действительно и для другой.
Такое тело, которое во всем совершенно
равно и подобно другому, хотя и не может быть заключено с ним в одни и те же границы,
я называю неконгруэнтным подобием.
376
Чтобы показать возможность
этого, возьмем какое-нибудь тело, которое не состоит из двух половин,
расположенных симметрично к одной плоскости пересечения, например человеческую
руку. Опустим из всех точек ее поверхности перпендикулярные линии на
поставленную против нее доску и продолжим их на такое же расстояние за эту
доску, на каком точки поверхности руки отстоят от доски, находясь перед ней; тогда
конечные точки этих продолженных за доску линий, если все их соединить,
образуют поверхности телесной фигуры, составляющей неконгруэнтное подобие ранее
взятого тела, т. е. если данная рука была правая, то ее подобие — левая.
Отражение предмета в зеркале покоится на тех же основаниях. В самом деле, данный
предмет представляется в зеркале находящимся всегда как раз на таком же
расстоянии позади него, на каком он стоит перед его поверхностью, и потому
изображение правой руки в зеркале всегда окажется левой. Если же сам предмет
состоит из двух неконгруэнтных подобий, как, например, человеческое тело, и если
разделить его вдоль вертикальной плоскостью, то изображение его в зеркале будет
конгруэнтным, что легко можно установить, мысленно заставив этот предмет
сделать полуоборот, ибо подобие подобия предмета по необходимости будет конгруэнтным
ему.
Сказанного достаточно для
понимания возможности совершенно подобных и равных и все же неконгруэнтных
пространств. Мы переходим теперь к философскому применению этих понятий. Уже из
обыденного примера с руками ясно, что фигура одного тела может быть совершенно
подобной фигуре другого тела, так же как и размер одного совершенно равным
размеру другого, и тем не менее между ними остается некоторое внутреннее
различие, а именно то, что поверхность, заключающая одно тело, не в состоянии
включить в себя другое тело. Так как эта поверхность, ограничивающая
пространство, занимаемое одним телом, не может служить границей другого тела,
как бы его ни поворачивали и ни вращали, то это различие должно, следовательно,
быть таким, которое покоится на внутреннем основании. Но это внутреннее
основание различия де может
377
зависеть
от разницы в способе соединения частей тела между собой, потому что, как видно
из приведенного примера, в этом отношении все может быть совершенно одинаково.
Если же представить себе, что первым, что было создано [в мире], была человеческая
рука, то это необходимо была либо правая, либо левая рука, и, для того чтобы
создать одну такую руку, необходимо было иное действие созидательной причины,
чем то, которым могло бы быть создано ее [неконгруэнтное] подобие.
Если согласиться с воззрением
многих философов новейшего времени, в особенности немецких, согласно которому
пространство всецело сводится к внешнему отношению находящихся рядом друг с
другом частей материи, то всем действительным пространством было бы в
приведенном случае только то, которое занимает данная рука. Так как, однако,
в отношении частей этой руки друг к другу нет никакого различия — будь то
правая или левая, то, следовательно, было бы совершенно неопределенным свойство
этой руки — правая она или левая, т. е. рука подходила бы к любой стороне
человеческого тела, что невозможно.
Отсюда ясно, что не
определения пространства суть следствия положений частей материи относительно
друг друга, а, наоборот, эти положения суть следствия определений пространства
и, следовательно, тела могут иметь различия в свойстве, и притом подлинные
различия, которые относятся лишь к абсолютному и первоначальному
пространству, так как только благодаря ему возможно [взаимное] отношение телесных
вещей. Из сказанного ясно также и то, что именно потому, что абсолютное
пространство не есть предмет внешнего восприятия, а представляет собой одно из
основных понятий, которые только и делают возможными все такие предметы, мы
можем все то, что в фигуре тела зависит только от отношения к чистому
пространству, узнавать, лишь сопоставляя его с другими телами.
Вот почему понятие пространства,
взятое в том значении, как его мыслит геометр и в каком проницательные философы
ввели его в систему естественных наук, вдумчивый читатель не станет рассматривать
как
378
чистый плод воображения, хотя нет недостатка в
трудностях, связанных с этим понятием, когда его реальность, ясно созерцаемую
внутренним чувством, хотят постигнуть посредством понятий разума. Однако трудность
эта имеется во всех случаях, когда хотят философствовать о первых данных нашего
познания, но она особенно велика, когда следствия, вытекающие из принятого понятия,
противоречат совершенно очевидному опыту.
О ФОРМЕ И ПРИНЦИПАХ ЧУВСТВЕННО ВОСПРИНИМАЕМОГО И УМОПОСТИГАЕМОГО МИРА
1770
![]()
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
О ПОНЯТИИ МИРА ВООБЩЕ
§ 1
Подобно тому как анализ
субстанциально сложного завершается только такой частью, которая не есть целое,
т. е. чем-то простым, так и синтез [завершается] только таким целым, которое
не есть часть, т. е. миром.
В этом толковании основного
понятия я принял в соображение не только признаки, служащие для отчетливого
понимания предмета, но и двоякое происхождение этого понятия из природы
ума, что представляется мне заслуживающим большого внимания, ибо может в
качестве примера служить для более глубокого постижения метода в метафизике.
Ведь одно дело — мыслить себе по данным частям сложение целого при
помощи абстрактного понятия рассудка (intellectus),
другое — установить это общее понятие словно некую проблему
разума с помощью способности чувственного познания, т. е. конкретно представить
себе это понятие путем отчетливого созерцания (intuitu). Первое происходит посредством общего понятия сложения,
поскольку многое содержится в нем (во взаимном отношении друг к другу), значит,
через идеи рассудка и общие идеи. Второе зависит от условий времени,
поскольку путем последовательного присоединения одной части к другой понятие
сложного возможно генетически, т. е. через синтез, и подчиняется законам созерцания.
Равным образом, когда дано нечто субстанциально сложное, мы легко приходим к
идее простых [частей], устраняя вообще рассудочное понятие сложения;
ведь
383
то,
что остается по устранении всякой связи, и есть простое. Но по законам
созерцательного познания это не происходит, т. е. всякое сложение устраняется
только путем обратного движения от данного [целого] ко всем возможным
[его] частям, т. е. посредством анализа*,
который в свою очередь зависит от условия времени. Но так как для сложного
требуется множество частей, а для целого — все части, то ни
анализ, ни синтез не будут полными и, таким образом, через первое не возникнет
понятия простого, а через второе — понятия целого, если то и
другое нельзя завершить в конечное и определенное время.
Но так как в непрерывном
количестве обратное движение от целого к возможным частям, а в бесконечном
восхождение от частей к данному целому не имеют предела и потому
невозможны ни полный анализ, ни полный синтез, то совершенно немыслимы по законам
созерцания ни целое относительно сложения в первом случае, ни сложное
относительно целостности во втором случае. Отсюда ясно, почему многие,
обычно отождествляя непредставимое с невозможным, отвергают
понятия непрерывного и бесконечного как понятия, которые нельзя
представить себе по законам созерцательного познания.
Но хотя я не хочу защищать
эти многими школами отвергаемые понятия, особенно первое, однако очень. важно
напомнить, что те, кто пользуется столь превратным способом доказательства,
впадают в серьезнейшую ошибку**. Все
то, что противоречит законам рассудка
384
и
разума, невозможно при всех случаях; однако с тем, что, будучи предметом
чистого разума, не подчиняется только законам созерцательного познания,
дело обстоит иначе. Ведь это расхождение между чувственной и рассудочной
способностью (природу которых я вскоре изложу) указывает только на то, что ум
часто не может выразить конкретно и превратить в созерцание те абстрактные
идеи, которые он получил от рассудка. Но эта субъективная трудность,
как это нередко бывает, ошибочно кажется каким-то объективным
противоречием и легко вводит в заблуждение людей неосмотрительных, заставляя их
принимать границы человеческого ума за пределы, в которых содержится сама сущность
вещей.
Впрочем, доводами рассудка
легко доказывается, что, когда свидетельством чувств или как-нибудь иначе даны
сложные субстанции, даны также и простые [части], и мир; причины этого,
коренящиеся в природе субъекта, я ясно указал в своей дефиниции, дабы понятие
мира перестало казаться совершенно произвольным и, как бывает в математике,
придуманным только для выведения из него следствий. В самом деле, ум наш,
385
обращенный
на понятие сложного, — расчленяет ли он его или складывает — требует для себя
пределов и предполагает границы, на которых он может остановиться как а priori, так и а
posteriori.
§ 2
Когда дают дефиницию мира, должны
быть приняты во внимание следующие моменты:
I. Материя (в трансцендентальном смысле)2,
т. е. части, которые здесь принимаются за субстанции. Мы могли
совершенно не обращать внимания на согласие нашей дефиниции с обычным значением
слова, так как она представляет собой только как бы рассмотрение проблемы,
возникающей по законам разума: каким образом многие субстанции могут
соединяться в одну и от каких условий зависит то, что это единое не есть часть
другого? Но значение слова мир в обычном его употреблении нам подходит.
Ведь все считают акциденции не частями мира, а определениями
его состояний. Поэтому так называемый мир отдельного Я (egoisticus), который состоит из одной простой
субстанции с ее акциденциями, напрасно называется миром, если только это не
воображаемый мир. По той же самой причине не следует к мировому целому относить
в качестве частей ряд его последовательных состояний, так как видоизменения —
это не части субъекта, а следствия его. Наконец, я не обсуждаю
здесь природы составляющих мир субстанций — случайны они или необходимы
— и в дефиниции я вовсе не утаиваю такого признака, с тем чтобы, как это
бывает, впоследствии оттуда же извлечь его с помощью какого-либо благовидного
способа доказательства. Но дальше я покажу, что из установленных здесь условий
легко можно заключить об их случайности.
II. Форма, которая
состоит в координации субстанций, а не в подчинении их. Дело в том, что
вещи координированные относятся друг к другу как дополнения до целого, а
подчиненные — как действие и причина, или, говоря вообще, как принцип и
следствие. Первое отношение взаимно и однородно (h
386
и
определяется ею. Второе отношение неоднородно (heteronyma), а именно, с одной стороны, оно только зависимость,
а с другой— [только] причинность. Эта координация мыслится как реальная
и объективная, а не как идеальная и опирающаяся только на благоусмотрение
субъекта, который, суммируя какое угодно множество, создает в мысли целое. В
самом деле, охватывая многое, мы легко создаем цельное представление, но
[еще] не представление целого. Поэтому если бы случайно было несколько
целых, состоящих из субстанций, которые ничем не соединены между собой, то
сочетание их, при помощи которого ум сводит множество в одно идеальное целое,
выражало бы только множество миров, охваченных лишь мыслью. А связь, составляющая
сущностную форму мира, рассматривается как принцип возможных влияний
друг на друга субстанций, составляющих мир. Ведь действительные влияния
относятся не к сущности, а к состоянию, и сами переходящие силы, [т. е.]
причины влияний, предполагают некий принцип, благодаря которому возможно, чтобы
состояния многих [субстанций], существование которых вообще-то независимо друг
от друга, относились друг к другу как следствия. Если отказаться от этого принципа,
то нельзя предполагать и возможность переходящих сил в мире. И именно эта форма
мира сущностна, а потому она постоянна и не подвержена никаким
переменам, и это прежде всего на логическом основании, так как любое
изменение предполагает тождество субъекта, определения которого следуют друг за
другом. Поэтому мир, через все следующие друг за другом состояния оставаясь тем
же миром, сохраняет одну и ту же основную форму, так как для тождества целого
недостаточно тождества частей, а требуется и тождество в характере их сложения.
Однако главным образом [указанное положение] следует из реального основания.
Ведь природа мира, которая есть первый внутренний принцип каких угодно
изменчивых [определений], относящихся к его состоянию, естественным образом, т.
е. сама по себе, неизменна, так как сама не может быть противоположна себе.
Поэтому в каждом мире дается некоторая форма, присущая природе его,
387
постоянная,
неизменная, как бы вечный принцип какой угодно случайной и преходящей формы,
которая относится к состоянию мира. Кто это исследование считает излишним, у
того ошибочные понятия пространства и времени: он принимает их за
уже сами по себе данные и первичные условия, с помощью которых без всякого
другого принципа не только возможно, но и необходимо, чтобы многие
действительные вещи относились друг к другу как сопринадлежащие части и
составляли целое. Но я вскоре докажу, что эти понятия отнюдь не понятия разума
и не объективные идеи вышеупомянутой связи, а явления и что они,
правда, указывают на какой-то общий принцип всеобщей связи, но еще не объясняют
его.
III. Всеобщность,
которая есть соединение абсолютно всех сопринадлежащих частей. Ведь в
отношении к какому-нибудь данному сложному, хотя бы оно составляло еще
часть другого, всегда сохраняется некоторая сравнительная целокупность,
а именно частей, относящихся к данному количеству. Здесь, однако, все то, что
относится к каждому целому как сопринадлежащие части, понимается как
взятое вместе. Эта абсолютная целостность, хотя и представляется
понятием обыденным и ясным, особенно когда она выражена негативно, как это
делается в дефиниции, при более глубоком размышлении представляет, по-видимому,
для философа величайшие трудности. Ведь трудно понять, каким образом можно было
бы свести в одно целое, охватывающее все вообще перемены, бесконечный
ряд состояний мира, следующих друг за другом в вечность. Действительно,
само понятие бесконечности делает необходимым, чтобы этот ряд не имел предела,
и, стало быть, нет ряда следующих друг за другом [состояний], который не составлял
бы части другого ряда] таким образом, что по той же самой причине полнота, или абсолютная
целостность, здесь, по-видимому, совершенно исключена. В самом деле, хотя
понятие части можно взять вообще и все то, что содержится в этом понятии, если
рассматривать это как расположенное в одном и том же ряду, составляет единое,
однако очевидно, понятие целого требует, чтобы все это было взято
вместе,
388
а в данном случае это невозможно. Действительно, так
как за целым рядом не следует ничего, а во взятом ряду последовательностей
только за последней [из них] ничего не следует, то в вечности было бы нечто последнее,
что нелепо. Быть может, кто-нибудь подумает, что то затруднение, которое
встречается в [понятии] целостности последовательного бесконечного, не
существует для одновременного бесконечного, так как одновременность,
надо полагать, ясно указывает на совокупность всего в одно и то же время.
Но если допустить одновременное бесконечное, то нужно также допустить и
целостность последовательного бесконечного, а отрицая последнее, мы должны
отвергнуть и первое. Ибо одновременное бесконечное дает вечности неисчерпаемый
материал для последовательного восхождения через бесчисленные его части в
бесконечность. Однако этот ряд во всех своих составных частях действительно был
бы дан вполне в одновременном бесконечном, и, стало быть, тот ряд, который
никогда не заканчивается при последовательном прибавлении, все же мог бы быть
дан как целый. Чтобы выпутаться из этого трудного положения, нужно заметить
следующее: как последовательная, так и одновременная координация многих
[частей] (так как она опирается на понятие времени) относится не к рассудочному
понятию целого, а только к условиям чувственного созерцания и, таким
образом, если даже она и не может быть воспринята чувственно, все же из-за
этого не перестает быть доступна рассудку. а для этого достаточно, чтобы каким
бы то ни было образом были даны координированные [части] и чтобы все они
мыслились как относящиеся к единому.
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
О РАЗЛИЧИИ МЕЖДУ ЧУВСТВЕННО ВОСПРИНИМАЕМЫМ И УМОПОСТИГАЕМЫМ
ВООБЩЕ
§ 3
Чувственность3 есть восприимчивость субъекта, при помощи
которой возможно, что на состояние представления самого субъекта определенным
образом действует
389
присутствие
какого-либо объекта. Рассудочность [intelligentia]
(разумность [rationalitas]) есть способность
субъекта, при помощи которой он в состоянии представлять себе то, что по своей
природе недоступно чувствам. Предмет чувственности — чувственно воспринимаемое;
то, что не содержит в себе ничего, кроме познаваемого рассудком, есть умопостигаемое4. В античных школах первое называлось феноменом,
а второе — ноуменом. Познание, поскольку оно подчинено законам
чувственности, есть чувственное познание; поскольку же оно подчинено
законам рассудка, — рассудочное или разумное.
§ 4
Так как все, что содержится в
познании чувственного, зависит от особого свойства субъекта, а именно насколько
он способен благодаря присутствию объектов к тому или иному видоизменению,
которое может быть различным у разных субъектов, поскольку они различны, а
всякое познание, свободное от такого субъективного условия, касается только
объекта, — то ясно, что чувственно познанное — это представления о вещах, какими
они нам являются, а представления рассудочные — как они существуют
[на самом деле]. Но в чувственном представлении есть, во-первых, нечто, что́
можно было бы назвать материей, а именно ощущение, и, во-вторых, нечто,
что можно назвать формой, а именно вид чувственно
воспринимаемого, который показывает, насколько координируются по некоторому
естественному закону ума те различные [объекты], которые воздействуют на
чувства. Далее, ощущение, составляющее материю чувственного представления,
указывает, правда, на присутствие чего-то чувственно воспринимаемого, но что
касается качества, то оно зависит от природы субъекта, а именно насколько он
поддается изменению под действием данного объекта. Таким же образом форма
того же представления непременно свидетельствует о некотором отношении или
связи чувственно воспринятого. Однако она, собственно, есть не очертание или
некоторая схема объекта, а только некоторый присущий уму закон для
координирования
390
между
собой ощущений, возникших от присутствия объекта. Ибо форма, или вид, объектов
не действует на чувства, и поэтому, для того чтобы различные действия объекта
чувств слились в некоторое целое представление, необходим какой-то внутренний
принцип ума, при помощи которого эти различные [действия] принимают некоторый вид
по неизменным и врожденным законам.
§ 5
Итак, к чувственному познанию относится как материя, а именно ощущение (sensatio), отчего такое познание и называется собственно чувственным (sensualis), так и форма, благодаря которой, хотя бы мы и приобретали ее без всякого ощущения, представления называются чувственными (sensitivae). Что же касается рассудочного [познания], то прежде всего нужно отметить, что применение рассудка, т. е. высшей способности души, бывает двоякое: во-первых, реальное, когда даются сами понятия либо вещей, либо отношений; во-вторых, логическое, когда понятия — откуда бы они ни были даны — только подчиняются друг другу, а именно низшие высшим (по общим признакам), и сравниваются между собой по закону противоречия. Логическое применение рассудка свойственно всем наукам, реальное — нет. В самом деле, данное каким бы то ни было образом познание рассматривается или как заключающееся в признаке, общем многим [вещам], или как противоположное этому признаку, и притом либо непосредственно и прямо, как это бывает в суждениях для отчетливого [познания], либо опосредствованно, как в умозаключениях для адекватного познания. Итак, когда даны чувственные познания, то при помощи логического применения рассудка они подчиняются другим чувственным познаниям как общим понятиям, а явления подчиняются более общим законам явлений. Но здесь крайне важно заметить, что эти познания, какой бы логической обработке рассудка они ни подвергались, всегда следует считать чувственными, так как они называются чувственными в силу своего происхождения, а не вследствие сравнения их с точки зрения тождества
391
или противоположности. Отсюда самые общие эмпирические законы остаются тем не менее чувственными и принципы чувственной формы, которые встречаются в геометрии (отношения, определенные в пространстве), не выходят за пределы разряда чувственных [познаний], сколько бы ни занимался ими рассудок, делая выводы из чувственных данных (при помощи чистого созерцания) по правилам логики. В области же собственно чувственного и феноменов то, что предшествует логическому применению рассудка, называется явлением (apparentia), а то рефлективное познание, которое возникает от сопоставления рассудком многих явлений, называется опытом. Итак, от явления к опыту нет иного пути, как только через рефлексию согласно логическому применению рассудка. Общие понятия опыта называются эмпирическими, а объекты его — феноменами, законы же опыта и вообще всякого чувственного познания — законами феноменов. Итак, эмпирические понятия не становятся рассудочными в реальном смысле через сведе́ние к большей всеобщности и не выходят из разряда чувственного познания, а всегда остаются чувственными, до какой бы степени отвлечения их ни доводили.
§ 6
Что касается рассудочных [понятий] в строгом смысле этого слова, в которых имеет место реальное применение рассудка, то такие понятия объектов и отношений даются самой природой рассудка, а не отвлекаются от какого-либо применения чувств и не содержат никакой формы чувственного познания, как такового. Необходимо здесь отметить величайшую двусмысленность слова отвлеченный; чтобы она не мешала нашему исследованию о рассудочных [понятиях], я хочу заранее устранить ее. А именно следовало бы, собственно, говорить отвлекать от чего-то, а не отвлекать что-то. Первое означает, что мы в каком-нибудь понятии не обращаем внимания на все остальное, каким-либо образом с ним связанное, а второе указывает на то, что нечто дается только конкретно и так, что отделяется от соединенного с ним. Вот почему рассудочное понятие отвлекает от
392
всего чувственного, а не отвлекается от него и, может быть, правильнее было бы называть его отвлекающим [понятием], а не отвлеченным. Поэтому лучше называть рассудочные [понятия] чистыми идеями, а понятия, данные только эмпирически, — отвлеченными.
§ 7
Отсюда можно видеть, что чувственное познание несправедливо называется смутным, а рассудочное — отчетливым. Ведь это только логические различия, которые совершенно не касаются данного, что́ лежит в основе всякого логического сравнения. На самом деле чувственное [познание] может быть совершенно отчетливым, а рассудочное — в высшей степени смутным. Первое мы находим в геометрии, этом образце чувственного познания, а второе — в метафизике, этом орудии всякого рассудочного [познания]. Всем известно, сколько метафизика прилагает усилий, для того чтобы рассеять туман запутанности, окутывающий обыкновенный ум, хотя и не всегда столь успешно, как геометрия. Несмотря на это, каждое из этих познаний сохраняет признаки своего источника, так что первое, каким бы оно ни было отчетливым, по своему происхождению называется чувственным, а второе, каким бы оно ни было смутным, остается рассудочным, как, например, понятия моральные, познаваемые не путем опыта, а самим чистым рассудком. Но я опасаюсь, что знаменитый Вольф, признавая только логическое различие между [познанием] чувственными рассудочным, к великому ущербу для философии, быть может, совершенно предал забвению отменный обычай древности рассуждать о природе феноменов и ноуменов и, отвратив умы от исследования их, направлял их часто на рассмотрение мелких логических вопросов.
§ 8
Первая философия, содержащая принципы применения чистого рассудка, есть метафизика5. а пропедевтикой ей служит наука, которая излагает различие
393
Между чувственным познаниём и рассудочным; опыт такой пропедевтики представляет собой наша диссертация. Итак, поскольку в метафизике нет эмпирических принципов, то встречающиеся в ней понятия следует искать не в чувствах, а в самой природе чистого рассудка, но не как врожденные понятия, а как отвлеченные от присущих уму законов (обращая внимание на действия его в опыте) и, стало быть, как приобретенные. К таким понятиям принадлежат: понятия возможности, бытия, необходимости, субстанции, причины и прочие с противоположными им или соотнесенными с ними понятиями. Так как они никогда в качестве частей не входят в какое-либо чувственное представление, то они никак не могли быть отвлечены оттуда.
§ 9
Цель рассудочных понятий главным образом двоякая: первая цель — критическая, которая приносит негативную пользу, а именно когда чувственно постигнутое ограждают от ноуменов, и хотя этим нисколько не двигают науку вперед, однако предохраняют ее от заблуждений. Вторая цель — догматическая; благодаря ей общие принципы чистого рассудка, как их излагает онтология или рациональная психология, сводятся к некоторому образцу, доступному только чистому рассудку и составляющему общую меру всех остальных вещей, поскольку они реальности, — это понятие умопостигаемого совершенства (perfectio noumenon). Это совершенство таково или в теоретическом* или в практическом смысле. В первом смысле оно есть высшее существо, бог, а во втором — нравственное совершенство. Итак, нравственная философия, поскольку она дает первые принципы суждения, познается только чистым рассудком и сама принадлежит к чистой философии, и тот, кто искал ее критерий в чувстве удовольствия или неудовольствия, с полным правом заслуживает порицания, как Эпикур вместе с некоторыми [философами]
394
новейшего
времени, которые следовали за ним до известной степени, хотя и на большом
отдалении от него, вроде Шефтсбери и его последователей. Но для всего того,
количество чего изменчиво, maximum есть общая
мера и принцип познания. Maximum совершенства называется теперь идеалом, у Платона — идеей (как идея
государства у него); это принцип всего содержащегося в общем понятии
какого-нибудь совершенства, поскольку низшие степени признаются доступными
определению только путем ограничения высшей. а бог, будучи как идеал
совершенства принципом познания, в то же время составляет в качестве реально
существующего принцип становления всякого совершенства вообще.
§ 10
Человеку дано не созерцание рассудочного, а только познание его символов, и уразумение возможно для нас только через общие понятия в абстрактной форме, а не через посредство единичных в конкретной форме. Ведь всякое наше созерцание бывает связано с некоторым формальным принципом, под которым единственно наш ум может различать нечто непосредственно, т. е. как единичное, а не только мыслить дискурсивно при помощи общих понятий. Но этот формальный принцип нашего созерцания (пространство и время) есть условие, при котором нечто может стать предметом наших чувств, и таким образом как условие чувственного познания оно не может быть средством для интеллектуального созерцания. Кроме того, всякая материя нашего познания дается только чувствами, а ноумен, как таковой, не может быть воспринят при помощи представлений, почерпнутых из ощущений; таким образом, умопостигаемое понятие, как таковое, лишено всех данных человеческого созерцания. Именно созерцание нашего ума всегда пассивно и потому возможно лишь постольку, поскольку что-нибудь может воздействовать на наши чувства. а божественное созерцание, представляющее собой принцип объектов, а не [их] следствие, будучи независимым, есть первообраз и потому совершенно интеллектуально.
395
§ 11
Хотя феномены, собственно, суть
образы вещей, а не идеи и не выражают внутреннего и абсолютного качества
объектов, тем не менее познание их в высшей степени истинно. Ведь, во-первых,
будучи чувственными понятиями, или восприятиями, они как действия
свидетельствуют о присутствии объекта, что́ против идеализма; во-вторых,
так как истина в суждении состоит в согласии предиката с данным субъектом, а понятие
субъекта, поскольку он феномен, дается только через отношение к чувственной
способности познания и согласно с ней же даются чувственно наблюдаемые
предикаты, то при рассмотрении суждений о чувственно познанном ясно, что
представления о субъекте и предикате возникают согласно общим законам и потому
дают основание для вполне истинного познания.
§ 12
Все, что относится к нашим
чувствам как объект, есть феномен; а то, что, не затрагивая чувств, содержит
только форму чувственности, относится к чистому созерцанию (т. е. свободному от
ощущений, а потому не интеллектуальному). Феномены рассматриваются и
излагаются, во-первых, в физике — это феномены внешнего
чувства — и, во-вторых, в эмпирической психологии6 — это феномены внутреннего чувства. Чистое же
(человеческое) созерцание есть понятие не всеобщее, или логическое, под
которым мыслится все чувственно воспринимаемое, а единичное, в котором
оно мыслится, и потому содержит в себе понятия пространства и времени. Так как
они относительно качества вовсе не определяют чувственно воспринимаемого,
то они объекты науки только относительно количества. Поэтому чистая
математика рассматривает пространство в геометрии, а время
— в чистой механике. Сюда присоединяется еще одно понятие, само по себе,
правда, рассудочное, однако требующее для конкретного обнаружения
вспомогательных понятий времени и пространства (когда последовательно
прибавляют единицу к единице и в
396
одно и то же время полагают их рядом друг с другом); это —
понятие числа, которым занимается арифметика. Итак, чистая
математика, излагающая форму всего нашего чувственного познания, есть орудие
любого созерцательного и отчетливого познания; так как ее объекты сами не
только формальные принципы всякого созерцания, но и сами первоначальные
созерцания, то она дает в высшей степени истинное знание и вместе с тем образец
высшей очевидности для других [наук]. Итак, есть наука о собственно
чувственном, хотя, поскольку это феномены, в ней дается не реальное
уразумение, а только логическое. Отсюда ясно, в каком смысле следует понимать,
что последователи элейской школы решительно отрицали науку о феноменах.
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
О ПРИНЦИПАХ ФОРМЫ ЧУВСТВЕННО ВОСПРИНИМАЕМОГО МИРА
§ 13
Принципом формы Вселенной служит то, что содержит в себе основание всеобщей связи, благодаря которой все субстанции и их состояния относятся к одному и тому же целому, которое называется миром. Принцип формы чувственно воспринимаемого мира есть то, что содержит в себе основание всеобщей связи всего, что представляет собой феномен. Форма умопостигаемого мира допускает принцип объективный, т. е. некую причину, благодаря которой существует связь между вещами. А мир, рассматриваемый как феномен, т. е. по отношению к чувственности человеческого ума, допускает один только формальный субъективный принцип, т. е. определенный закон духа, благодаря которому необходимо, чтобы все, что может быть объектом чувств (по их качеству), по необходимости представлялось относящимся к одному и тому же целому. Итак, каков бы ни был в конце концов формальный принцип чувственно воспринимаемого мира, он охватывает только действительное, поскольку оно, надо полагать, касается
397
чувств, и потому не охватывает ни бестелесных субстанций,
которые, как таковые, уже по [самой] дефиниции их совершенно недоступны внешним
чувствам, ни причины мира, которая не может быть объектом чувств, так как
благодаря ей существует самый ум и обладает некоторым чувством. Я покажу
теперь, что есть два таких формальных принципа мира феноменов, абсолютно
первые, всеобъемлющие и составляющие как бы схемы и условия всего чувственного
в человеческом познании: время и пространство.
§ 14
О времени
1. Идея времени не возникает из чувств, а предполагается ими. В самом деле, только посредством идеи времени можно представить себе, бывает ли то, что действует на чувства, одновременным или последовательным; последовательность не порождает понятия времени, а только указывает на него. Вот почему понятие времени совершенно неправильно определяют как ряд действительных [событий], существующих одно после другого, как будто это понятие приобретено опытом. Дело в том, что я не понимаю, что обозначает слово после, если ему уже не предшествует понятие времени. Ведь происходящее одно после другого есть то, что существует в разное время, так же как существовать совместно — значит существовать в одно и то же время.
2. Время — идея единичная, а не всеобщая. Действительно, всякое время мыслится только как часть одного и того же неизмеримого времени. Так, если мы мыслим два года, то мы можем себе их представить, только определив их место по отношению друг к другу и связав их каким-нибудь промежуточным временем, если они не следуют друг за другом непосредственно. Но какое из различных времен есть предшествующее и какое последующее, этого никоим образом нельзя определить с помощью каких-либо признаков, постижимых рассудком, если мы не желаем впасть в порочный круг; и ум различает это только при помощи единичного созерцания. Кроме того, все действительные
398
[вещи] мы
представляем себе находящимися во времени, а не содержащимися под
общим его понятием, как бы под общим признаком.
3. Итак, идея времени есть созерцание; так как она постигается раньше всякого ощущения как условие отношений, встречающихся в чувственно воспринимаемом, то она есть не собственно чувственное (sensualis), а чистое созерцание.
4. Время есть величина непрерывная и принцип законов непрерывности в изменениях Вселенной. Ведь непрерывна величина, которая не состоит из простых [частей]. Но так как посредством времени мыслятся только отношения без всяких данных соотносящихся вещей, то во времени как в величине есть нечто сложное, от которого совершенно ничего не останется, если представить себе всю эту сложность устраненной. Но если от этого сложного по устранении [его] сложности вообще ничего не остается, то оно не состоит из простых частей. Следовательно... и т. д. Итак, любая часть времени есть время, и все простое, что заключается во времени, а именно моменты, есть не части его, а границы, между которыми находится время. Ведь если даны два момента, время дано лишь тогда, когда в них одно действительное следует за другим; стало быть, необходимо, чтобы кроме данного момента было еще дано время, в последующей части которого есть другой момент.
А метафизический закон непрерывности гласит: все изменения непрерывны, или текучи, т. е. противоположные состояния следуют друг за другом только через промежуточный ряд различных состояний[24]. В самом деле, так как два противоположных состояния существуют в различные моменты времени, а между двумя моментами всегда имеется какое-то время, в бесконечном ряду моментов которого субстанция не находится ни в том ни в другом из данных состояний, но все же не лишена всякого состояния, то она находится в различных состояниях и т. д. до бесконечности[25].
Знаменитый Кестнер*, желая проверить этот закон Лейбница, призывает его защитников доказать следую-
399
щее: непрерывное
движение точки по всем сторонам треугольника невозможно, поскольку это
необходимо вытекает из закона непрерывности. Вот требуемое доказательство:
пусть буквы а, b, c обозначают три вершины
прямолинейного[26] треугольника. Если движущаяся [точка] перемещается в
непрерывном движении по линиям аb, bc, ca, т. е. по всему периметру
фигуры, то необходимо, чтобы она двигалась через точку B в направлении аb, но через ту же
точку B
также в направлении be, а так как эти движения различны, то они не могут быть
вместе. Следовательно, момент присутствия движущейся точки в вершине B, когда она движется
в направлении аb, отличен от момента ее присутствия в той же вершине B, когда она движется
в направлении bc. Но между двумя моментами есть какое-то время; стало быть,
движущаяся [точка] некоторое время наличествует в одном и том же пункте, т. е. покоится
и, таким образом, не движется непрерывно, что противоречит предположению. То же
самое доказательство действительно в отношении движения по каким угодно прямым,
заключающим данный угол. Итак, согласно мнению Лейбница, тело в непрерывном
движении меняет свое направление только по линии, ни одна часть которой не
бывает прямой, т. е. по кривой.
5. Время не есть что-то объективное и реальное: оно
не субстанция, не акциденция, не отношение, а субъективное условие, по природе
человеческого ума необходимое для координации между собой всего чувственно
воспринимаемого по определенному закону, и чистое созерцание. Ведь мы
координируем субстанции и акциденции как по одновременности, так и по [их]
последовательности только через понятие времени, и потому понятие о нем как
принцип формы предшествует понятию о них. а что касается каких угодно отношений,
насколько они доступны чувствам, одновременны ли они или следуют друг после друга,
то они заключают в себе только положения во времени, которые до́лжно определить или в
одной его точке, или в различных.
Те, кто признает объективную реальность времени
(преимущественно английские философы), представляют
400
его себе или каким-то непрерывным течением в существовании,
однако помимо всякой существующей вещи (самая нелепая выдумка!), или как
реальность, отвлеченную от последовательности внутренних состояний, как
полагают Лейбниц и его сторонники. Ошибочность второго мнения достаточно ясна
из порочного круга в дефиниции времени, и, кроме того, оно оставляет без
всякого внимания одновременность*,
важнейшее следствие времени и, таким образом, противоречит всякому здравому
рассудку, так как требует, чтобы не законы движения определялись сообразно с
мерой времени, а само время в отношении его природы — при помощи наблюдаемого
движения или какого-либо ряда внутренних изменений, чем совершенно лишает
правила всякой достоверности. А что о количестве времени мы можем судить
только конкретно, а именно или по движению, или по ряду мыслей,
то это объясняется тем, что понятие времени покоится только на внутреннем
законе ума, а не есть какое-то врожденное созерцание, и потому этот акт духа, координирующего
свои ощущения, вызывается только чувствами. Никто до сих пор никогда не выводил
и не объяснял понятие времени с помощью разума; более того, самый закон противоречия
предполагает его и кладет его в основу в качестве условия. В самом деле, а и не-A противоречат друг другу, только если они мыслятся вместе
(т. е. в
401
одно и то
же время) об одном и том же, а друг после друга (в разное время)
они могут принадлежать одному и тому же. Отсюда возможность изменений
мыслима только во времени, и не время мыслимо через изменения, а наоборот.
6. Но хотя время, взятое само по себе и абсолютно,
есть нечто воображаемое, однако, поскольку оно относится к неизменному закону
чувственно воспринимаемого, как такового, оно есть понятие в высшей степени
истинное и условие созерцательного представления, простирающееся до
бесконечности на все возможные предметы чувств8.
Действительно, так как одновременное, как таковое, может быть доступно чувствам
лишь в силу существования времени и изменения мыслимы только благодаря времени,
то ясно, что это понятие содержит в себе всеобщую форму феноменов и потому все
наблюдаемые в мире события, все движения и все внутренние перемены необходимо
должны быть согласны с аксиомами относительно времени, которые нужно познать и
которые я отчасти уже изложил, так как они только при этих условиях могут
быть объектами чувств и координироваться
друг с другом. Итак, нелепо стремиться вооружить разум против первых
постулатов чистого времени, например против непрерывности и т.п., так как они следуют из законов,
первичнее и ранее которых нет ничего, и сам разум, если он пользуется законом
противоречия, не может обойтись без помощи этого понятия — до такой степени оно
основное и первичное.
7. Итак, время есть абсолютно первый формальный принцип чувственно воспринимаемого мира. Ведь все без исключения чувственно воспринимаемые предметы можно мыслить или вместе, или расположенными друг после друга, притом они как бы включаются в течение единого времени и определенным образом относятся друг к другу, так что через это понятие, первоначальное для всего чувственного, необходимо возникает формальное целое, которое не есть часть чего-то другого, т. е. мир феноменов.
402
§ 15
О пространстве
A. Понятие пространства не отвлекается от внешних
ощущений. В самом деле, я могу воспринять нечто как находящееся вне меня,
только представляя его как бы в месте, отличном от того, в котором нахожусь я
сам, и вещи я представляю находящимися вне друг друга, только размещая их в
различных частях пространства. Следовательно, возможность внешних восприятий,
как таковых, предполагает понятие пространства, а не создает его;
точно так же то, что находится в пространстве, воздействует на чувства, но само
пространство почерпнуть из чувств нельзя.
B. Понятие пространства есть единичное представление,
заключающее все в себе, а не абстрактное и общее понятие, заключающее
все под собой. Ведь то, что мы называем многими пространствами, — это
только части одного и того же неизмеримого пространства, находящиеся в
определенном отношении друг к другу, и нельзя представить себе кубический фут,
не ограниченный со всех сторон окружающим пространством.
C. Таким образом, понятие пространства есть чистое
созерцание, так как это понятие единичное, не составленное из ощущений;
пространство — основная форма всякого внешнего ощущения. Это чистое созерцание
легко можно усмотреть в аксиомах геометрии и в любом умственном построении
постулатов или даже проблем. Что в пространстве есть только три измерения, что
между двумя точками можно провести только одну прямую, что из данной на
плоскости точки можно описать данным радиусом окружность — все это не может
быть выведено из общего понятия пространства; это можно усмотреть только
конкретно в нем самом. То, что находится в данном пространстве по одну сторону
и что обращено в противоположную, дискурсивно описать или свести к рассудочным
признакам нельзя ни при какой проницательности. И так как поэтому тела,
совершенно подобные и равные, но не совпадающие друг с другом, каковы,
например, левая и правая рука
403
(поскольку
они рассматриваются только в отношении протяженности) или сферические треугольники
на двух противоположных полушариях, различаются в том отношении, что границы
[их] протяжения не совпадают, хотя повсему,чтоможно выразить знаками, понятными
уму при помощи речи, они могли бы заменить друг друга, — то ясно, что это
различие, а именно несовпадение, может быть замечено только в некотором чистом
созерцании. Поэтому геометрия пользуется не только несомненными и дискурсивными
принципами, но и подлежащими усмотрению ума и очевидность в ее
доказательствах (которая состоит в ясности определенного познания, поскольку
оно уподобляется чувственному) есть не только наибольшая, но и единственная,
которая дана в чистых науках и составляет образец и средство всякой очевидности
в других [науках]. Действительно, так как гёометрия рассматривает отношения
пространства, понятие которого содержит в себе саму форму всякого
чувственного созерцания, то, следовательно, в восприятиях, получаемых от внешних
чувств, ясности и очевидности можно достигнуть только при посредстве того
именно созерцания, которым занимается эта наука. Впрочем, геометрия доказывает
свои общие положения, не мысля объекта при помощи общего поыятия, как это бывает
с предметами разума, а делая его наглядным при помощи единичного созерцания,
как это бывает с предметами чувственными*.
D. Пространство не есть что-то объективное и реальное, оно не субстанция, не акциденция, не отношение, оно субъективно и идеально: оно проистекает из природы ума по постоянному закону, словно схема для
404
координации
вообще всего воспринимаемого извне. Те, кто отстаивает реальность пространства,
либо представляют его себе как абсолютное и неизмеримое вместилище
всех возможных вещей — это мнение вслед за английскими [философами] одобряют
весьма многие геометры, — либо утверждают, что само пространство есть
отношение существующих вещей, совершенно исчезающее с уничтожением вещей и
мыслимое только в действительных вещах, как вслед за Лейбницем полагают весьма
многие из наших [философов]. Что касается первой пустой выдумки ума, когда
представляют себе бесконечные подлинные отношения без каких-либо относящихся
друг к другу вещей, то она принадлежит к миру сказок. Но те, кто следует
второму мнению, впадают в гораздо худшую ошибку. В самом деле, если первые приходят
в столкновение только с некоторыми понятиями разума, т. е. относящимися к
ноуменам, вообще чрезвычайно темными для ума, например с вопросами о мире
духов, о вездесущии и пр., то вторые прямо противоречат самим феноменам и
надежнейшему истолкователю всех феноменов — геометрии. Не говоря уже об
очевидном порочном круге в определении пространства, в котором они по необходимости
запутываются, они низводят геометрию с высоты ее достоверности и отодвигают ее
в разряд наук, чьи принципы являются эмпирическими. Ведь если все свойства пространства
только путем опыта заимствованы из внешних отношений, то аксиомам геометрии присуща
лишь та сравнительная всеобщность, которая приобретается через индукцию, т. е.
она простирается только на область наблюдения; у нее нет тогда необходимости,
кроме той, которая существует по установленным законам природы, нет точности,
кроме той, которая придумана произвольно; и можно надеяться. что, как это
бывает в эмпирических [науках], когда-то будет открыто пространство, обладающее
другими изначальными свойствами, и, быть может, даже прямолинейная [фигура] из
двух линий.
E. Хотя понятие пространства как некоторого объективного и реального сущего или свойства есть продукт воображения, тем не менее по отношению ко
405
всему
чувственно воспринимаемому оно не только в высшей степени истинно, но и есть основание всякой истины в области внешних
чувств9. Ведь вещи в каком угодно виде могут
являться чувствам только при посредстве силы духа, координирующей все ощущения
сообразно с постоянным и присущим его природе законом. Итак, если чувствам вообще
ничего не может быть дано, кроме того, что́ согласно с изначальными аксиомами
пространства и их следствиями (по наставлению геометрии), хотя принцип их
только субъективен, однако по необходимости все будет согласовываться с ними,
так как доселе оно согласуется с самим собой, и законы чувственности будут
законами природы, поскольку ее можно воспринимать чувствами. Итак, природа
строго подчинена правилам геометрии в отношении всех изложенных там свойств
пространства на основании гипотезы не вымышленной, а созерцательно данной в
качестве субъективного условия всех феноменов, в которых природа может
когда-нибудь открываться чувствам. Конечно, если бы понятие пространства не
было дано природой ума первоначально (таким образом, что тот, кто стал бы
выдумывать отношения, отличные от тех, что предписываются этим понятием, напрасно
бы трудился, так как был бы вынужден пользоваться этим же понятием для подкрепления
своего вымысла), то пользование геометрией в натурфилософии было бы малонадежным.
Ведь можно было бы усомниться, в достаточной ли мере согласно с природой само
это понятие, заимствованное из опыта, если, например, отрицать те определения,
от которых оно отвлечено; некоторым даже приходило на ум такое подозрение.
Итак, пространство есть абсолютно первый формальный принцип
чувственно воспринимаемого мира не только потому, что благодаря его понятию
объекты Вселенной могут быть феноменами, но главным образом по той причине, что
оно по существу своему есть единственный вообще принцип, охватывающий все, что
извне доступно чувствам, и потому составляет принцип всеобщности, т. е.
такого целого, которое не может быть частью чего-то другого.
406
Вывод
Таковы два принципа чувственного познания,
не общие понятия, как в рассудочном [познании], а единичные созерцания, но
чистые. В них в отличие от того, что предписывают законы разума, части, и особенно
простые, не содержат основания возможности сложного, а по образцу чувственного
созерцания бесконечное содержит в себе основание каждой мыслимой части
и, наконец, [основание] простой части или, вернее, [основание] границы.
Ведь только в данном бесконечном пространстве и времени любое определенное
пространство и время могут быть указаны посредством ограничения; и точка,
и момент не могут быть мыслимы сами по себе, а постигаются только в данном уже
пространстве и времени как их границы. Таким образом, все первоначальные свойства
этих понятий — вне пределов разума и потому никак не могут быть объяснены
рассудочно. Тем не менее они дают рассудку основания, когда он из первых
созерцательно данных по логическим законам делает выводы с величайшей
достоверностью. Из этих понятий одно касается собственно созерцания объекта,
а другое — состояния, главным образом состояния представлений.
Поэтому пространство применяется даже к понятию самого времени как прообраз,
причем время мы представляем в виде линии, а его границы (моменты) — в
виде точек. А время более близко ко всеобщему понятию, понятию разума,
так как охватывает своими отношениями вообще все, а именно само пространство и,
кроме того, акциденции, не заключающиеся в отношениях пространства, каковы
мысли духа. Кроме того, хотя время и не диктует законов разуму, однако составляет
основные условия, при поддержке которых [наш] ум может
сопоставлять свои понятия по законам разума; так, о невозможности
чего-то я могу судить, только приписывая одному и тому же субъекту в одно и
то же время предикаты а и не-A. И особенно если мы обратимся к опыту, то отношение причины и действия,
по крайней мере во внешних объектах, нуждается в пространственных отношениях,
но во всех объектах—и внешних, и
407
внутренних — только с помощью отношения времени ум может
решить, что прежде, что после, т. е. что есть причина и что есть действие. И
даже величина самого пространства может стать умопостигаемой, только если
мы отнесем ее к мере как единице и выразим ее числом, которое само есть
множество, отчетливо познаваемое с помощью счета, т. е. последовательным
прибавлением одной единицы к другой в данное время.
Наконец, как бы само собой у каждого возникает вопрос, врождены ли оба понятия или приобретены. Второе, правда, кажется уже опровергнутым предшествующими рассуждениями, а первое просто не следует допускать, так как оно пролагает путь для философии лентяев, которая, ссылаясь на первую причину, объявляет всякое дальнейшее исследование тщетным. Однако оба понятия без всякого сомнения приобретены, но не путем отвлечения от чувственных объектов (ведь ощущение дает материал, а не форму человеческого познания), а самим действием ума, координирующего свои ощущения по вечным законам как неизменный и потому созерцательно познаваемый прообраз. Ведь ощущения вызывают эту деятельность ума, но не влияют на созерцание и врожденным будет здесь только закон духа, на основании которого он определенным образом сочетает свои ощущения, получаемые в силу присутствия предмета.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
О ПРИНЦИПЕ
ФОРМЫ УМОПОСТИГАЕМОГО МИРА
§ 16
Те, кто считает пространство и время какой-то реальной и абсолютно необходимой связью всех возможных субстанций и состояний, полагают, что ничего другого не следует искать для понимания того, каким образом многим существующим вещам свойственно некоторое первоначальное отношение, как бы первичное условие возможности [взаимных] влияний и принцип сущностной формы Вселенной. В самом деле, так как все существующие вещи по необходимости находятся, по
408
их мнению,
где-то, то им представляется излишним исследовать, почему эти вещи находятся в
определенном отношении друг к другу, так как это определяется всеобщностью
всеохватывающего пространства. Но, не говоря уже о том, что это понятие, как
уже было доказано, скорее касается законов чувственного познания субъекта, чем
условий самих объектов, если и придать ему возможно большую реальность, то все
же оно указывает лишь на созерцательно данную возможность всеобщей координации,
а потому остается открытым вопрос, решить который может только рассудок: на
каком принципе покоится само это отношение всех субстанций, которое, если его
рассматривать созерцательно, называется пространством? Итак, сущность
вопроса о принципе формы умопостигаемого мира заключается в том, чтобы
выяснить, как это возможно, чтобы многие субстанции находились во взаимной
связи и таким образом относились к одному и тому же целому, которое
называется миром. Мир же мы здесь рассматриваем не в отношении материи, т. е.
природы субстанций, из которых он состоит (материальны они или нематериальны),
а в отношении формы, т. е. той связи, которая вообще существует между многими
[субстанциями], и той целостности, которая существует между всеми ими.
§ 17
Когда дано много субстанций, принцип возможного взаимодействия между ними покоится не только на одном их существовании, но для этого требуется еще нечто другое, из чего стали бы понятными и взаимные их отношения. Ведь в силу самого [их] существования необходимо у них, пожалуй, только одно отношение — к их собственной причине, но отношение действия к причине есть не взаимодействие, а зависимость. Итак, если они вступают в какое-либо взаимодействие, то для этого необходимо особое основание, точно определяющее это взаимодействие.
Основная ошибка [теории] физического влияния в ее обычном значении в том именно и состоит, что она необдуманно утверждает, что взаимодействие субстанций
409
и
переходящие силы достаточно объясняются одним их существованием; и потому эта
теория не столько система, сколько скорее пренебрежение ко всякой философской
системе, как будто излишней в этом доказательстве. Если мы освободим это понятие
от такой ошибки, то будем иметь вид взаимодействия, которое одно только может
быть названо реальным и благодаря которому мир заслуживает названия реального,
а не идеального или воображаемого целого.
§ 18
Целое из необходимых субстанций невозможно. В самом деле, так как каждой [субстанции] вполне достаточно ее существования вне всякой зависимости от какой-либо другой, а зависимость не согласна с [понятием] необходимого, то ясно, что взаимодействие субстанций (т. е. взаимная зависимость состояний) не только не вытекает из их существования, но и вообще не может относиться к необходимым [субстанциям],
§ 19
Итак, субстанциальное целое есть лишь целое из случайного и мир по существу своему состоит только из случайного. Кроме того, всякая необходимая субстанция находится в связи с миром только как причина со своим действием и потому не как часть с ее дополнениями до целого (так как связь сопринадлежащих частей есть взаимная зависимость, а она не свойственна необходимо сущему). Итак, причина мира есть вне его находящееся сущее, и притом она не душа мира, и присутствие ее в мире не локальное, а виртуальное.
§ 20
Мировые субстанции представляют собой сущее, происходящее от другого сущего, но не от разного, а все от одного. В самом деле, если предположить, что они произошли от многих необходимых существ, то они как действия, причины которых были бы чужды вся-
410
кого взаимного
отношения, не находились бы во взаимной связи. Следовательно, единство в соединении
субстанций Вселенной есть следствие зависимости всех от одного. Отсюда
форма Вселенной свидетельствует о [единой] причине материи, и единственная
причина всего есть причина всеобщности, и зодчий мира должен быть в
то же время творцом.
§ 21
Если бы было много первых и необходимых причин с их действиями, то произведениями их были бы миры, а не мир, так как они никаким образом не были бы связаны в одно целое, и наоборот: если бы было много действительных миров вне друг друга, то было бы много первых и необходимых причин, однако таким образом, что ни один мир с другим, ни причина одного мира с миром, созданным другой причиной, не находились бы ни в каком взаимодействии.
Итак, многие действительные миры вне друг друга невозможны не по самому их понятию (как неправильно сделал заключение Вольф из понятия совокупности или множества, которое он считал достаточным для целого, как такового), а при одном только условии: если бы существовала только одна необходимая причини всего. Если же допустить много причин, то будут возможны в самом строгом метафизическом смысле многие миры вне друг друга.
§ 22
Если бы можно было так же обоснованно, как мы заключаем от данного мира к единственной причине всех его частей, заключить наоборот — от данной общей для всех причины к их связи между собой, следовательно, к форме мира (хотя я признаюсь, что этот вывод не представляется мне таким же ясным), то первоначальная связь субстанций была бы не случайной, а необходимой благодаря поддержанию всего общим принципом и таким образом гармония, проистекающая от самого их существования и имеющая основу в общей причине, следовала бы общим правилам. Такую гармонию
411
я называю общеустановленной,
тогда как та, которая имеет место лишь в том случае, если какие-либо индивидуальные
состояния субстанции приспосабливаются к состоянию другой [субстанции], есть гармония
единично-установленная; взаимодействие, вытекающее из первой гармонии,
является реальным и физическим, а вытекающее из второй — идеальным и симпатическим.
Итак, всякое взаимодействие субстанций Вселенной есть внешне-установленное
(по общей для всех причине), и [притом] или вообще установленное физическим
влиянием (в его исправленном значении), или индивидуально согласованное с ее
собственными состояниями. Это последнее либо первоначально основано на
первом устройстве каждой субстанции, либо проявляется по случаю (occasione) любого изменения; первое называется предустановленной
гармонией, а второе — окказионализмом10.
Итак, если благодаря поддержанию всех субстанций одной [субстанцией] было бы необходимо
соединение [их] всех, благодаря чему они образуют единство, то
взаимодействие субстанций будет всеобщим через физическое влияние11 и мир будет реальным целым; в противоположном
случае взаимодействие будет симпатическим (т. е. гармонией без истинного
взаимодействия) и мир будет только идеальным целым. Для меня по крайней мере
первое хотя и не доказано, однако уже достаточно обосновано другими доводами.
Схолия
Если было бы позволено выйти за пределы аподиктической
достоверности, которая подобает метафизике, то стоило бы исследовать нечто относящееся не только к законам чувственного
созерцания, но также и к его причинам, познать которые может только рассудок.
Именно человеческий ум подвергается действию извне, и мир открывается его взору
до бесконечности лишь постольку, поскольку сам ум со всем другим поддерживается
одной и той же бесконечной силой единого. Отсюда ум воспринимает внешнее
только благодаря присутствию той же общей поддерживающей причины, и потому
пространство, которое есть чувственно позна-
412
ваемое всеобщее и необходимое условие соприсутствия всего,
может быть названо феноменом вездесущия. (Ведь причина Вселенной
присутствует во всем и в каждом отдельно не потому, что находится в их местах,
а, наоборот, места, т. е. возможные отношения субстанций, существуют потому,
что причина присуща всем внутренне.) Далее, возможность изменений и всех
последовательностей, принцип которой, насколько он познается чувственно,
содержится в понятии времени, предполагает постоянство субъекта, противоположные
состояния которого следуют друг за другом, а то, состояния чего текучи, продолжается
только благодаря поддержке другого. Вот почему понятие времени как единственного
бесконечного и неизменного*, в котором
все находится и пребывает, есть феномен вечности общей причины.
Впрочем, кажется более разумным при ограниченности нашего рассудка держаться
берега доступных нам познаний, чем пускаться в открытое море таких мистических
исследований, как это сделал Мальбранш, мнение которого ближе всего к излагаемому
[здесь], а именно: «Мы созерцаем все в боге».
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
МЕТОДЕ МЕТАФИЗИКИ, КАСАЮЩЕМСЯ ЧУВСТВЕННОГО И РАССУДОЧНОГО
§ 23
Во всех науках, принципы которых даются созерцательно — либо собственно чувственным (sensualis) созерцанием (опытом), либо чистым, хотя и чувственным (sensitiva), созерцанием (понятия пространства, времени и числа), т. е. в естественных науках и математике, метод создается применением. Изыскания и открытия, после того как наука приобрела известную
413
широту и
стройность, делают ясным, каким путем и на каких основаниях нужно идти вперед,
чтобы она достигла совершенства и, освободившись от ошибок и путаных мыслей,
засияла более чистым светом. Подобно этому и грамматика только после более
широкого пользования речью, а стиль после изящных образцов поэзии или
красноречия дали основание для правил и теорий. Применение же рассудка
в таких науках, в которых и первичные понятия, и аксиомы даются чувственным
созерцанием, есть только логическое, т. е. посредством него мы только
подчиняем друг другу познания по отношению к всеобщему согласно с законом
противоречия: феномены — более общим феноменам, следствия чистого созерцания —
созерцательным аксиомам. Но в чистой философии, какова метафизика, в которой применение
рассудка в отношений принципов реально, т. е. где первичные понятия
вещей и отношений и сами аксиомы даются изначально самим чистым рассудком и, не
будучи созерцаниями, не свободны от заблуждений, метод предшествует всей науке
и все то, что́́ пытаются [утверждать] до того, как его правила хорошо
исследованы и твердо установлены, по всей видимости, необдуманно и должно быть
отброшено как пустая игра ума. В самом деле, так как здесь правильное
применение разума устанавливает самые принципы и так как и объекты, и аксиомы,
прилагаемые к ним, впервые становятся известными только благодаря его
собственной природе, то изложение законов чистого разума есть сам генезис науки
и различение их от поддельных законов есть критерий истины. Так как в этой
науке до настоящего времени применяется лишь тот метод, который логика
предписывает всем наукам вообще, а tot метод, который соответствует особенной
природе метафизики, срвершенно неизвестен, то и не удивительно, что те, кто занимается
в этой области, вечно вкатывая свой сизифов камень, по всей видимости, до сих
пор мало чего достигли. Хотя у меня здесь нет ни желания, ни возможности подробнее
рассуждать о столь важном и обширном вопросе, однако вкратце я коснусь одной
немаловажной части этого метода, а именно вопроса о вредном смешении
чувственного познания с рассудоч-
414
ным, не только в смысле неосмотрительного применения
принципов, но и в том смысле, что ложные принципы изображаются аксиомами.
§ 24
Весь метод метафизики, касающийся чувственного и рассудочного, сводится главным образом к следующему: нужно всячески остерегаться того, чтобы принципы чувственного познания выходили за свои пределы и касались рассудочных [познаний]. В самом деле, так как предикат в любом суждении, выраженном рассудочно, есть условие, без которого ничего нельзя утверждать о субъекте как о чем-то мыслимом, то предикат есть принцип познания; чувственное же понятие есть только условие возможного чувственного познания и потому больше всего подходит к субъекту суждения, понятие которого также чувственно. Но если оно прилагается к рассудочному понятию, то такое суждение имеет силу только согласно с субъективными законами; поэтому о самом рассудочном понятии можно высказываться и утверждать не объективно, а только как об условии, без которого нет чувственного познания данного понятия*. а так как заблуждения рассудка, состоящие в наделении чувственных понятий рассудочными признаками (по аналогии с принятым значением [слова]),
415
могут быть
названы ошибкой подстановки (vitium
subreptionis), То смешение рассудочных и чувственных понятий будет метафизической
ошибкой подстановки (phaen
§ 25
Итак, вот принцип исправления любой подставной аксиомы: если какому-нибудь рассудочному понятию приписывается вообще какой-то предикат, касающийся отношений пространства и времени, то он не должен быть высказан объективно; он указывает только на условие, без которого данное понятие не может быть познано чувственно. Что подобного рода аксиома неправомерна и если не ложна, то по крайней мере неосновательна и сомнительна, вытекает из следующего: субъект суждения, если он постигается рассудочно, относится к объекту, а предикат, заключая в себе определения пространства и времени, относится только к условиям чувственного человеческого познания, которые не обязательно причастны ко всякому познанию данного объекта, и потому не может быть высказан всеобщим образом о данном рассудочном понятии. Но если рассудок столь легко впадает в эту ошибку подстановки, то это происходит оттого, что он вводится в заблуждение с помощью другого, в высшей степени верного правила. В самом деле, мы верно предполагаем: все, что не может быть познано никаким созерцанием, со-
416
вершенно
нельзя мыслить, и потому оно невозможно.
Но иного созерцания, кроме того, которое сообразуется с формой пространства и
времени, мы не можем постичь никакими усилиями и ухищрениями ума; вот почему мы
считаем невозможным всякое вообще созерцание, не связанное этими законами (мы
не говорим при этом о чистом интеллектуальном созерцании, не подлежащем законам
чувств, каково божественное созерцание, которое Платон называет идеей), и
потому все возможное мы подчиняем чувственным аксиомам пространства и времени.
§ 26
Все ошибки смешения чувственных познаний с рассудочными, из которых проистекают подставные аксиомы, можно разделить на три вида, общие формулы которых следующие:
1. То чувственное условие, при котором единственно возможно созерцание объекта, есть условие самой возможности объекта.
2. То чувственное условие, при котором единственно возможно сравнение между собой данных для образования рассудочного понятия объекта, есть также условие самой возможности объекта.
3. То чувственное условие, при котором единственно возможно подведение имеющегося объекта под данное рассудочное понятие, есть также условие возможности самого объекта.
§ 27
Подставная аксиома первого рода гласит: все, что существует, существует где-то и когда-то*. Но этот
417
неправомерный
принцип связывает существование всего сущего — даже если оно познается
рассудком — с условиями пространства и времени. Отсюда возникают пустые вопросы
о местопребывании нематериальных субстанций в телесном мире (хотя чувственное
созерцание их по этой именно причине невозможно и их нельзя представить себе в
этой форме), об обиталище души и т. п., и так как невероятно смешивается чувственное
с умопостигаемым, словно квадратное — с круглым, то большей частью бывает так,
что кажется, будто один из спорящих доит козла, а другой подставляет решето. Но
присутствие в телесном мире нематериальных вещей есть виртуальное, а не
локальное (хотя бы оно так неправильно называлось); пространство же заключает в
себе условия возможных взаимодействий только для материи; а то, что
устанавливает для нематериальных субстанций внешние отношения сил как между
собой, так и к телам, совершенно ускользает от человеческого рассудка, как
остроумно заметил (в письме к одной немецкой принцессе) проницательнейший
Эйлер, великий исследователь и истолкователь явлений. Когда же люди доходят до
понятия высшего и вне мира находящегося сущего, то они удивительно заблуждаются
из-за этого обволакивающего ум тумана. Присутствие бога они мыслят себе
как локальное и бога помещают в мире, как будто бог сразу охвачен бесконечным
пространством; это ограничение пытаются возместить тем, что эта локальность
мыслится в исключительном значении, т. е. как бесконечная. Но быть
одновременно во многих местах абсолютно невозможно, так как различные места
находятся вне друг друга, и потому то, что находится во многих местах, находится
вне самого себя и вне его присутствует то, что в нем содержится. Что же
касается времени, то, после того как они не только изъяли его из законов чувственного
познания, но и перенесли за пределы мира к самому вне мира находящемуся сущему
как условие его существования, они запутываются в безвыходном лабиринте. Здесь
они ломают себе голову над нелепыми вопросами вроде того, почему бог не
сотворил мир несколькими веками раньше. По их мне-
418
нию, легко
понять, каким образом бог обозревает настоящее, т, е. действительность того времени,
в котором он находится, но, каким образом он может предвидеть будущее, т.
е. действительность того времени, в котором он еще не находится, понять,
как они полагают, трудно. (Как будто бытие необходимого сущего проходит
последовательно все моменты воображаемого времени и, исчерпав уже часть своей
продолжительности, бог предвидит, какую вечность он проживет еще вместе с
одновременными событиями мира.) Все это исчезнет как дым, как только мы
правильно постигнем понятие времени.
§ 28
Предрассудки второго рода скрываются еще глубже, так как они обманывают рассудок чувственными условиями, которыми связан ум, когда он в некоторых случаях желает достигнуть рассудочного [познания]. Один из этих предрассудков касается познания количества, другой — познания качества вообще. Первый из них таков: всякое действительное множество может быть выражено числом; следовательно, всякое количество конечно; второй: все, что невозможно, противоречит себе. В том и другом случае понятие времени, правда, не входит в само понятие предиката и не считается признаком субъекта, однако служит средством для образования понятия предиката и таким образом, как условие, влияет на рассудочное понятие субъекта, поскольку мы достигаем этого понятия только с помощью понятия времени.
Итак, что касается первого [положения], то, так как всякое количество и любой ряд познаются отчетливо лишь посредством последовательной координации, рассудочное понятие количества и множества возникает только с помощью этого понятия времени и никогда не достигает полноты, если синтез не может быть завершен в конечное время. Отсюда следует, что бесконечный ряд координированных [вещей] вследствие ограниченности нашего рассудка не может быть отчетливо понят и потому из-за ошибки подстановки представляется невозможным. В самом деле, по законам чистого
419
рассудка
любой ряд действий имеет свой исходный пункт (principium), т. е. в ряду действий нет бесконечного
обратного движения, а по законам чувственного познания любой ряд
координированных [вещей] имеет свое определенное начало. Оба этих
положения, из которых второе включает в себя измеримость ряда, а первое
— зависимость целого, неверно считаются тождественными. Равным образом к
доводу рассудка, которым доказывается, что вместе с данным
субстанциальным сложным даются и элементы сложения, т. е. простые [части],
присоединяется подставленное чувственным познанием [положение], а именно что в
таком сложном целом обратное движение в сложении частей не бесконечно, т. е.
что в каждом сложном дается определенное число частей; смысл этого
[утверждения], конечно, не совпадает с первым и, таким образом, неосновательно
подменяет его. Итак, что величина мира ограничена (не есть maximum), что она предполагает свой исходный пункт, что
тела состоят из простых [частей] — все это можно узнать по несомненно верному
свидетельству разума. а что масса Вселенной математически ограничена, что
возраст Вселенной может быть выражен определенной мерой, что есть определенное
число простых [частей], составляющих тела, — все эти положения ясно указывают
на свое происхождение из природы чувственного познания, и хотя вообще-то могли
бы считаться истинными, однако источник их, несомненно, порочный12.
Что же касается второй подставной аксиомы, то она возникает вследствие произвольного обращения закона противоречия. Это первоначальное суждение держится на понятии времени, поскольку невозможность [суждения] становится ясной, когда в одно и то же время в одном и том же [предмете] даны противоречивые [признаки], что выражается так: все, что в одно и то же время есть и не есть, невозможно. Здесь суждение совершенно верное и в высшей степени очевидное, так как рассудок утверждает предикат в случае, который дан по законам чувственного познания. Напротив, если кто ту же аксиому подвергнет обращению и скажет так: все невозможное есть и не есть в одно и то же
420
время, т. е. заключает в себе противоречие, тот что-то утверждает
о предмете разума вообще при домощи чувственного познания и потому подчиняет
рассудочное понятие о возможном или невозможном условиям чувственного познания,
а именно отношениям времени; это, правда, совершенно верно в отношении законов,
которыми связан и ограничен человеческий рассудок, но объективно и в общем
смысле недопустимо. Действительно, наш рассудок видит невозможность только
там, где может заметить одновременное утверждение противоположного об одном и
том же, т. е. там, где имеется противоречие. Итак, везде, где нет такого
условия, человеческий рассудок не может составлять суждения о невозможности.
Напрасно, однако, принимая субъективные условия суждения за объективные, делают
отсюда вывод, что это совершенно недоступно никакому интеллекту и потому «все,
что не заключает в себе противоречия, возможно». Именно отсюда столько
пустых измышлений о каких-то по желанию создаваемых силах, которые, не
встречая препятствия в виде противоречия, бурно извергаются во множестве из
всякого изобретательного или, если угодно, склонного к химерам ума. В самом
деле, так как сила есть не что иное, как отношение субстанции а к
какому-то другому B (акциденции), а именно отношение
основания к следствию, то и возможность любой силы не основывается на тождестве
причины и действия или субстанции и акциденции, и, таким образом, невозможность
сил, ложно придуманных, также не зависит от одного только противоречия.
Итак, нельзя признать возможной никакую первоначальную силу, если она не
дана в опыте, и никакая проницательность рассудка не может а priori понять ее возможность.
§ 29
Подставные аксиомы третьего рода, произвольно переносящие на объекты условия, свойственные субъекту, возникают не потому, что единственный путь к рассудочному понятию идет через чувственные данные (как это происходит в [аксиомах] второго рода);
421
а потому,
что только с их помощью можно приложить рассудочные понятия к случаю,
данному в опыте, т. е. узнать, содержится ли что-то в определенном
рассудочном понятии или нет. Таково следующее, ходячее в некоторых школах
[положение]: все, что существует случайно, иногда не существует. Этот
подставной принцип возникает от скудости рассудка, который большей частью
постигает номинальные признаки случайности или необходимости и редко реальные.
Поэтому так как по признакам, взятым а priori,
вряд ли можно определить, возможно ли противоположное какой-то субстанции, то
это можно будет узнать, только если известно, что данная субстанция когда-то
не существовала; значит, скорее изменения свидетельствуют о случайности,
чем случайность об изменчивости, так что, если бы в мире ничего не было
текучего и преходящего, вряд ли появилось бы у нас какое-либо понятие о
случайности. И потому в высшей степени верно прямое положение: все, что
когда-то не существовало, случайно, а противоположное ему положение указывает
лишь на условия, при которых только и можно узнать, существует ли нечто по
необходимости или случайно. Итак, если бы это положение было выражено как субъективный
закон (каково оно на самом деле), оно должно было бы гласить так: наш рассудок
не имеет достаточных признаков случайности чего-либо, если неизвестно, было ли
время, когда оно не существовало. Это [условие] в конце концов молчаливо
переходит в объективное условие, как если бы без этого добавления случайность
была совершенно невозможна. Таким образом возникает неправомерная и ошибочная
аксиома. Этот мир, например, хотя и существует случайно, вечен, т. е.
существует во всякое время, так что неправильно утверждают, будто было время,
когда он не существовал.
§ 30
К подставным принципам примыкают некоторые другие, весьма к ним близкие, которые, правда, не искажают данного рассудочного понятия чувственным познанием, но которые тем не менее вводят в заблужде-
422
ние
рассудок так, что он принимает их за доводы, заимствованные от объекта, тогда
как они только рекомендуются нам в силу их сообразности со свободным и
широким пользованием рассудка в соответствии с его особенной природой. Поэтому
они, так же как и перечисленные выше положения, опираются на субъективные
основания, но не на законы чувственного познания, а на законы рассудочного
познания, именно на те условия, при которых рассудку кажется, что он может
легко и свободно пользоваться своей проницательностью. Здесь в виде заключения
я позволю себе несколько остановиться на этих принципах, которые, насколько мне
известно, нигде еще не были четко изложены. Принципами сообразности мы
называем те правила суждения, которым мы охотно подчиняемся и которых мы
придерживаемся как аксиом на том только основании, что, отказавшись от них,
наш рассудок не мог бы составить почти никакого суждения о данном объекте.
В число их входят следующие. Первый принцип — на основании которого мы признаем,
что все в мире происходит сообразно с естественным порядком. Этот
принцип Эпикур принимал без всякого ограничения, а все остальные философы
единодушно, за редкими исключениями, вызываемыми крайней необходимостью. Но мы
полагаем так не потому, что обладаем столь обширным познанием явлений в мире,
совершающихся по общим законам природы, или потому, что для нас очевидна либо
невозможность сверхъестественного, либо малейшая предположительная возможность
[его], а потому, что если мы отступим от естественного порядка, то у рассудка
совершенно не будет никакого применения, а необдуманные ссылки на
сверхъестественное только подушка для ленивого рассудка. По той же самой
причине мы при изложении феноменов старательно избегаем относительных чудес,
например влияния духов, так как, не зная их природы, наш рассудок был бы к великому
своему ущербу отвращен от света опыта, только благодаря которому у него есть
возможность создавать себе законы суждения, и был бы ввергнут во мрак неведомых
нам призраков и причин. Второй принцип — это та известная, столь свойственная
философскому
423
уму
склонность к единству, откуда возникло всем известное правило: не следует
принимать много принципов без крайней необходимости. С этим мы соглашаемся
не потому, что мы воспринимаем причинное единство в мире разумом или благодаря
опыту, а потому, что ищем его по внушению рассудка, которому кажется, что он
лишь настолько преуспел в объяснении феноменов, насколько ему удалось от одного
и того же принципа дойти до многих следствий. Третий подобного рода принцип
следующий: никакая материя вообще не возникает и не уничтожается, и все
изменения в мире касаются только формы. Этот постулат по указанию обыденного
рассудка проник во все философские школы не потому, что он считается
достоверным или а priori доказанным доводами,
а потому, что если признать материю текучей и преходящей, то совершенно не
останется ничего устойчивого и постоянного, что еще могло бы служить для
объяснения феноменов по всеобщим и неизменным законам, а следовательно, и для
применения рассудка.
Вот что я хотел сказать о методе, главным образом относительно различия между чувственным и рассудочным познанием. Если он когда-нибудь после более тщательного исследования будет изложен с совершенной точностью, то он будет служить пропедевтикой, принося огромную пользу всем, кто намеревается проникнуть в самые глубины метафизики.
Примечание. Так как исследование метода составляет все содержание этого последнего раздела, а правила, указывающие истинную форму доказывания относительно чувственного, сами по себе ясны и без пояснительных примеров, я упоминал о них только как бы мимоходом. Поэтому неудивительно, если многим покажется, что некоторые мои утверждения скорее смелы, чем истинны, и что именно они, если когда-нибудь можно будет заняться ими обстоятельно, потребуют более сильных доказательств. Так, приведенное мной в § 27 рассуждение о местопребывании нематериальных [существ] нуждается в разъяснении, которое, если угодно, можно найти у Эйлера в цитированном мной сочинении, том II, стр. 49—52. Ведь душа не
424
потому связана с телом, что она пребывает в определенном
месте тела, а потому ей дается определенное место в мире, что она находится с
некоторым телом во взаимной связи, по уничтожении которой исчезает и всякое
положение ее в пространстве. Итак, ее локальность — условие производное,
приобретенное ею случайно, а не первоначально и необходимо связанное с
ее существованием, так как все, что само по себе не может быть объектом внешних
чувств (какие есть у человека), т. е. нематериальное, совершенно свободно
от всеобщего условия для извне воспринимаемого чувствами, а именно от пространства.
Вот почему абсолютную и непосредственную локальность души можно отрицать, но
предположительная и опосредствованная [локальность] все же может быть ей
приписана.
ПИСЬМО К МАРКУ ГЕРЦУ
1772
![]()
Благородный господин, дорогой
друг!
Если Вы сердитесь оттого, что я
Вам не ответил, то Вы, конечно, правы. Но если Вы отсюда делаете неприятные
выводы, то я хотел бы воспользоваться правом сослаться по этому поводу на Ваше
знание моего образа мышления. Вместо всех извинений я хотел бы в немногих словах
рассказать Вам о том, чем именно заняты мои мысли и что́ даже в часы
досуга заставляет меня откладывать ответ. После Вашего отъезда из Кёнигсберга я
в промежутке между занятиями и отдыхом, в котором я очень нуждаюсь, рассмотрел
еще раз план тех исследований, о которых мы с Вами беседовали, чтобы
согласовать его со всей философией и всем остальным кругом знаний и чтобы
определить их объем и рамки. В различении чувственного и интеллектуального в
области морали и в отношении вытекающих отсюда принципов я уже и раньше достиг
довольно заметных результатов. Принципы чувства, вкуса и способности суждения с
их действиями — приятным, прекрасным и благим — я тоже уже давно выразил в
форме, более или менее удовлетворяющей меня, и теперь я составил план
сочинения, которое можно было бы озаглавить приблизительно так: «Границы чувственности
и разума». В этом сочинении я мыслил себе две части: теоретическую и
практическую. Первая содержит два раздела: 1) феноменологию вообще, 2)
метафизику, а именно о ее природе и методе. Вторая
429
часть
также содержит два раздела: 1) общие принципы чувства, вкуса и чувственного желания;
2) первые основания нравственности. Продумывая теоретическую часть во всем ее
объеме и во взаимоотношении всех ее частей, я заметил, что мне не хватает еще
кое-чего существенного, что я в своих долгих метафизических исследованиях,
точно так же как и другие, упустил из виду и что в действительности составляет
ключ ко всей тайне метафизики, до сих пор остававшейся еще скрытой для себя
самой. Я поставил перед собой вопрос: на чем основывается отношение того, что
мы называем представлением в нас, к предмету? Если представление содержит
только тот способ, каким предмет воздействует на субъект, то легко понять, как
он может соответствовать субъекту в качестве действия своей причины и как это
определение нашего сознания (Gemüt) может
что-то представлять, т. е. иметь предмет. Пассивные или чувственные
представления обладают, следовательно, доступным для понимания отношением к
предметам, и принципы, заимствуемые из природы нашей души, имеют вполне
понятную значимость для всех вещей, поскольку они должны быть предметами
чувств. Равным образом: если бы то, что в нас называется представлением, было в
отношении объекта аctio, т. е. если бы этим
порождался сам предмет, подобно тому как представляют себе божественные
познания в качестве прообразов вещей, то и соответствие представлений с
объектами могло бы быть понято. Таким образом понятна по крайней мере
возможность как intellectus аrchetypus[27], на созерцании которого основываются сами вещи, так и intellectus ectypus1.
почерпывающего данные для своей логической обработки из чувственного созерцания
вещей. Однако наш рассудок через посредство своих представлений не есть причина
предмета (кроме тех случаев, когда в области морали речь идет о добрых целях),
как и предмет не есть причина представлений рассудка (in sensu reali). Чистые рассудочные понятия не должны быть,
следовательно, абстрагируемы от ощущения чувств, как не должны они выражать восприимчивость
представлений посредством чувств; свои источники они должны иметь, правда, в
430
природе души, однако не в том смысле, что они испытывают воздействие объекта и что они порождают сам объект. В диссертации я ограничился тем, что выразил природу интеллектуальных представлений лишь негативно, а именно что они не могут быть видоизменениями души, обусловливаемыми предметом. Но как еще возможно относящееся к предмету представление без воздействия этого предмета, — это я обошел молчанием. Я тогда сказал: чувственные представления воспроизводят вещи так, как они являются, интеллектуальные — так, как ,они есть. Но посредством чего даются нам эти вещи, если не через тот способ, каким они на нас воздействуют; и если такие интеллектуальные представления основываются на нашей внутренней деятельности, то откуда проистекает соответствие, которое они должны иметь с предметами, не порождаемыми ведь этой деятельностью; и откуда аксиомы чистого разума об этих предметах, откуда проистекает их соответствие с этими предметами, раз это соответствие не может получить никакой помощи со стороны опыта? В математике это возможно, так как находящиеся здесь перед нами объекты в силу того только суть величины и могут быть в качестве величин представлены, что мы сами можем произвести их представление, поскольку мы единицу берем несколько раз. Понятия о величинах могут быть поэтому самодеятельными, и их принципы могут быть установлены а priori. Но вопрос о том, каким образом мой рассудок должен совершенно а priori сам образовать себе понятия о предметах, которым необходимо должны соответствовать вещи, как может он установить реальные принципы их возможности, которым в точности должен соответствовать опыт и которые от опыта, однако, не зависят, — этот вопрос всегда оставляет в отношении качеств некоторую неясность, касающуюся способности нашего рассудка, [а именно] откуда возникает для него это соответствие с самими вещами.
Платон признавал первоисточником чистых рассудочных понятий и принципов некоторое духовное, ранее имевшееся созерцание божества. Мальбранш признавал некоторое вое еще продолжающееся постоянное
431
созерцание этого первосущества2. Разные моралисты признавали это же созерцание в отношении первых моральных законов; Крузий — некоторые внушенные нам правила суждения и понятия3, которые бог внедрил в человеческие души уже в том их виде, какими они должны быть, чтобы быть в соответствии с вещами. Из этих систем первую можно было бы назвать influxum hyperphysicum [системой сверхфизического влияния], а последнюю — harmonia praestabilita intellectualis [системой интеллектуальной предустановленной гармонии]. Однако deus ex machina4 в определении источника и значимости наших познаний есть самое нелепое, что только вообще можно избрать и что помимо порочного круга в логической цепи выводов наших познаний вредно еще и тем, что поощряет всякую пустую мечту, как и всякую богобоязненную или фантастическую химеру.
Исследуя именно таким образом источники интеллектуального познания, без которых нельзя определить природу и границы метафизики, я разделил эту науку на существенно отличные друг от друга части и старался подвести трансцендентальную философию, а именно все понятия совершенно чистого разума, под определенное число категорий, но не так, как это сделал Аристотель, поставивший их в своих десяти категориях рядом друг с другом чисто случайно, в том виде, как он их нашел, а так, как они сами собой распределяются по классам согласно немногим основным законам рассудка. Не распространяясь здесь подробно о всей совокупности исследований, не доведенных еще до своего завершения, я могу сказать, что в отношении существа моего намерения мне это удалось и теперь я могу предложить критику чистого разума, которая рассматривает природу и теоретического, и практического познания, поскольку оно есть чисто интеллектуальное. Сначала я составлю первую часть этой критики, содержащую источники метафизики, ее метод и границы, а потом уже — чистые принципы морали. Что касается первой части, то я издам ее в течение ближайших трех месяцев.
В столь тонкой умственной работе ничто не может служить большей помехой, чем усиленные размышле-
432
ния, лежащие за пределами этой области. В спокойные или даже счастливые мгновения ум должен быть всегда и неизменно открыт для любого случайного замечания, которое может представиться, хотя он и не должен всегда быть в напряжений. Взбадривания и развлечения должны сохранять душевные силы в состоянии гибкости и подвижности, что позволяет рассматривать предмет со все новых сторон и расширять свой кругозор от наблюдения через микроскоп до общей перспективы, чтобы таким образом можно было воспринимать все возможные точки зрения, причем каждая поочередно проверяла бы очевидное суждение другой. Именно по этой причине, мой дорогой друг, задержался мой ответ на Ваши столь приятные для меня письма, ведь Вы, надо полагать, не ждете от меня бессодержательных писем.
Что касается Вашего небольшого сочинения, написанного с таким вкусом и глубоко продуманного, то оно во многих отношениях превзошло мои ожидания. Но по указанным уже причинам я не могу высказать свое мнение о нем подробно. Однако, друг мой, надо отметить влияние, которое подобного рода начинания, касающиеся состояния наук, оказывают на ученую публику: когда начинаю опасаться, что мое недомогание может помешать осуществлению большей части уже готового плана моих работ, кажущихся мне наиболее важными, я часто утешаю себя тем, что если бы эти работы появились в свет, то они были бы потеряны для пользы общества точно так же, как и в том случае, если бы они навсегда остались неизвестными. В самом деле нужно быть гораздо более видным и красноречивым писателем, чтобы побудить читателей серьезно размышлять над его сочинением.
На Ваше сочинение я нашел рецензию в бреславльской, а совсем недавно также и в гёттингенской газетах. Если публика так оценивает дух и главную цель сочинения, то тщетны были все старания. Автору, если рецензент взял на себя труд понять существо его усилий, даже порицание приятнее, чем похвала, основанная на поверхностном анализе. Гёттингенский рецензент останавливается на отдельных практических
433
выводах системы, которые сами по себе случайны и в отношении которых с тех пор кое-что само изменилось, причем главная цель от этого только еще больше выиграла. Одно письмо Мендельсона или Ламберта больше побуждает автора к проверке своих учений, чем десять таких легковесных рецензий. Славный пастор Шульц5 (лучший философский ум в нашей округе) хорошо понял цель [моей] системы; я хотел бы, чтобы он занялся также и Вашим небольшим сочинением. В его оценке встречаются два недоразумения, основанных на ложном истолковании рассматриваемой им системы. Первое состоит в том, что, по его мнению, пространство есть не чистая форма чувственного явления, а скорее подлинное интеллектуальное созерцание и, следовательно, могло бы представлять собой нечто объективное. Ясный ответ на это таков: пространство именно потому и не было [мной] признано объективным и, следовательно, интеллектуальным, что, когда мы подвергаем полному анализу представление о нем, мы не мыслим в нем ни представления о вещах (каковые могут существовать только в пространстве), ни какой-либо действительной связи (которой вообще не может быть без вещей), т. е. никаких действий, никаких отношений [в качестве его] оснований и, следовательно, вообще не имеем никакого представления о вещи или о чем-то действительном, что было бы присуще вещи, и, следовательно, пространство не есть нечто объективное. Второе недоразумение приводит Шульца к возражению, которое наводит меня на размышление; оно, по-видимому, наиболее существенное из всех, какие только можно привести против [моей] системы, и совершенно естественно приходит на ум каждому; Ламберт мне уже сделал такое возражение. Оно состоит в следующем: изменения суть нечто действительное (об этом свидетельствует внутреннее чувство), но они возможны лишь при условии, если есть время; следовательно, время есть нечто действительное, что присуще определениям вещей само по себе. Почему (сказал я самому себе) не умозаключают аналогично этому аргументу так: тела действительны (об этом свидетельствуют внешние чувства), но тела возможны только при условии, если есть пространство, следова-
434
тельно, пространство есть нечто объективное и реальное, что присуще самим вещам. Причина [здесь] заключается в том, что хорошо известно, что в отношении внешних вещей нельзя заключать от действительности представлений к действительности предметов, тогда как при внутреннем чувстве мышление или существование мысли и меня самого — это одно и то же. Ключ к устранению этой трудности состоит в следующем. Нельзя сомневаться в том, что я могу мыслить свое собственное состояние в категории времени и что, следовательно, форма внутренней чувственности являет мне изменения. То, что изменения суть нечто действительное, я не отрицаю, как не отрицаю, что тела суть нечто действительное, хотя под этим я понимаю лишь то, что нечто действительное соответствует явлению. Я даже не могу сказать: внутреннее явление изменяется, ибо как мог бы я наблюдать это изменение, если бы оно не являлось моему внутреннему чувству? Если бы сказали: отсюда следует, что все в мире объективно и само по себе неизменно, то я бы ответил: оно не изменчиво и не неизменно, как говорит Баумгартен в своей «Метафизике», § 18: абсолютно невозможное не есть ни гипотетически возможное, ни невозможное, так как его вообще нельзя рассматривать под каким-либо условием; точно так же: вещи в мире не объективны и не существуют сами по себе ни в одном и том же состоянии в разное время, ни в различном состоянии, так как в этом смысле они вовсе не представляются во времени. Однако довольно об этом. Нельзя, по-видимому, привлечь внимания одними только отрицательными положениями; нужно на месте разрушаемого [что-то] построить или по крайней мере, когда пустое измышление будет устранено, сделать чистое рассудочное воззрение догматически понятным и показать его границы. Этим я теперь и занят, и в этом причина того, почему в свободные часы, которыми мое шаткое здоровье позволяет мне пользоваться для размышления, я часто вопреки своему намерению воздерживаюсь от ответа на дружеские письма и отдаюсь течению своих мыслей. Откажитесь поэтому по отношению ко мне от своего права на возмездие и не лишайте меня
435
Ваших писем на том основании, что видите меня столь неаккуратным, когда дело касается ответа на них. На Вашу постоянную симпатию и дружбу ко мне я рассчитываю в такой же мере, в какой Вы всегда можете быть уверены в моей. И если Вы готовы довольствоваться краткими ответами, то в будущем не будете лишены их. Место формальностей должна в наших отношениях занять уверенность в нашей искренней симпатии друг к другу.
В знак Вашего искреннего миролюбия я ожидаю в ближайшее время Вашего столь приятного для меня письма. Наполните это письмо теми сведениями, в которых Вы, находясь в центре научной жизни, вероятно, не имеете недостатка, и простите мне ту бесцеремонность, с которой я Вас прошу об этом. Поклонитесь от меня господину Мендельсону и господину Ламберту, а также господину Зульцеру и принесите этим господам мое извинение за то, что и им я не ответил на их письма. Оставайтесь всегда моим другом, как я остаюсь Вашим.
И. Кант
Кёнигсберг, 21 февраля 1772 г.
РЕЦЕНЗИЯ HA СОЧИНЕНИЕ МОСКАТИ «О СУЩЕСТВЕННОМ РАЗЛИЧИИ В СТРОЕНИИ
ТЕЛА ЖИВОТНЫХ И ЛЮДЕЙ»
1771
![]()
«О существенном различии в строении тела животных и людей». Академическая речь, произнесенная в анатомическом театре в Павии доктором Петером Москати, профессором анатомии. Перевод с итальянского Иоганна Бекмана, профессора в Гёттингене.
Вот снова перед нами естественный человек на четвереньках, возвращенный к этому состоянию остроумным аналитиком, между тем как Руссо, такому проницательному философу, это сделать не удалось. Доктор Москати доказывает, что прямая походка человека вынужденна и противоестественна, что его строение, правда, таково, что он в состоянии держаться и двигаться в этом положении, но что если он такое положение превращает в необходимость и постоянную привычку, то для него отсюда проистекают неудобства и болезни, в достаточной мере свидетельствующие о том, что разум «человека и подражание соблазнили его отклониться от первоначального, свойственного животному положения. Внутренние органы человека устроены так же, как и у всех четвероногих животных. Если же он выпрямляется, то его внутренности, в особенности плод у беременных женщин, принимают висячее и наполовину перевернутое положение, которое, если человек часто меняет его на лежачее положение или становится на четвереньки, не может вызвать особенно дурных последствий, но если такое положение сохраняется постоянно, то оно вызывает уродства и множе-
439
ство болезней. Так, например, сердце, вынужденное находиться в висячем положении, растягивает кровеносные сосуды, с которыми оно связано, перекашивается, опираясь на диафрагму, и одним краем сдвигается в левую сторону — положение, которым взрослый человек отличается от всех животных и вследствие чего он неминуемо приобретает склонность к аневризмам, сердцебиению, одышке, грудной водянке и т. п. При вертикальном положении человека брыжейка (mesenterium), оттягиваемая внутренностями, опускается вниз, растягивается, ослабляется и часто рвется. В воротной вене, не имеющей клапанов, кровь, в силу того что по ней она должна подниматься в направлении, противоположном действию силы тяжести, двигается медленно и с бо́льшим затруднением, чем это происходило бы при горизонтальном положении туловища; отсюда возникают ипохондрия, геморрой и т. д., не говоря уже о том, что затруднение, испытываемое обращением крови, которая по венам ног должна подниматься прямо вверх к сердцу, нередко вызывает опухоли, расширения вен и т. п. В особенности заметным становится вред, проистекающий от этого вертикального положения у беременных, — и для плода, и для самой матери. Плод, который вследствие этого ставится на голову, получает кровь весьма неравномерно, поскольку она в гораздо большем количестве пригоняется к его верхним частям — к голове и рукам, отчего эти части растягиваются и растут в совершенно другой пропорции, чем у всех других животных. Из-за притока крови к голове возникают наследственные склонности к головокружению, к параличу, головным болям и проявлениям сумасшествия; из-за притока же крови к рукам и отвлечения ее от ног — удивительная и ни у какого другого животного не наблюдаемая диспропорция: руки плода становятся несоответственно длиннее, а ноги короче; правда, после рождения эта диспропорция благодаря вертикальному положению, в котором постоянно находится человек, устраняется, но все же она доказывает, что раньше в отношении плода было совершено насилие. Вредными изменениями в организме двуногой матери могут быть выдвинутое положение
440
матки, несвоевременные роды и тому подобные явления, вместе со многими другими недугами возникающие от ее вертикального положения, от которых четвероногие существа свободны. Таких доводов в пользу того, что мы от природы четвероногие животные, можно привести еще очень много. Нет ни одного четвероногого животного, которое не смогло бы плавать, если оно случайно попадет в воду. И только человек тонет, если он специально не научился плавать. Причина этого в том, что он отучился ходить на четвереньках: ведь именно благодаря такому передвижению он мог бы держаться на воде без всякого обучения и как раз оно дает возможность плавать всем четвероногим существам, обычно не любящим воды. Каким бы парадоксальным ни казалось это утверждение нашего итальянского доктора, она в руках столь проницательного и философствующего аналитика приобретает почти полную достоверность. Отсюда ясно видно: первая забота природы состояла в том, чтобы человек в качестве животного сохранился для себя и для своего рода, а для этого существовало то положение, которое всего более соответствует его внутреннему строению, положению плода и сохранению себя в случаях опасности, т. е. положение четвероногого; но заботой природы было также и то, чтобы в человеке был заложен еще и зародыш разума, посредством которого, если этот зародыш развивается, человек предназначается для общества и пользуясь которым навсегда принимает наиболее подходящее для этого положение, а именно положение двуногого, благодаря чему он, с одной стороны, бесконечно много выигрывает по сравнению с животными, но зато ему приходится мириться также с неудобствами, проистекающими от того, что он так гордо держит голову выше своих старых товарищей.
РАЗЛИЧНЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РАСАХ
1775
![]()
1.
О различии рас вообще
Объявленная мной лекция будет скорее полезной беседой, чем трудным занятием, а потому исследование, которым я сопровождаю это уведомление, будет, правда, содержать нечто и для рассудка, но скорее будет игрой мысли, чем глубоким изысканием.
В животном царстве естественное деление на роды и виды основывается на общем законе размножения и единство родов есть не что иное, как единство силы воспроизведения, действительной для определенного множества животных. Поэтому принцип Бюффона1, согласно которому животные, при совокуплении порождающие способных к продолжению рода детенышей (как бы они ни различались по своему внешнему виду), все же принадлежат физически к одному и тому же роду, — этот принцип, собственно говоря, до́лжно рассматривать всего лишь как дефиницию естественного рода животных вообще в отличие от всех школьных дефиниций родов животных. Школьное деление животных — это деление на классы по сходству; в природе же животные делятся на роды (Stämme), отличающиеся друг от друга способом размножения. Первая классификация создает школьную систему для запоминания, вторая — естественную систему для рассудка; единственная цель первой — разнести живые существа по рубрикам, цель второй — подвести их под законы.
Согласно этому мнению, все люди на всем пространстве земли принадлежат к одному и тому же естественному роду, ибо все они при совокуплении порождают детей, способных к продолжению рода, как бы сильно они
445
вообще ни различались по своему внешнему облику. Для этого единства естественного рода, которое есть, строго говоря, не что иное, как единство силы воспроизведения, действительной для всех вообще людей, можно привести лишь одну естественную причину, а именно что все люди принадлежат к одному и тому же основному роду (Stamm), из которого они произошли или по крайней мере могли произойти, несмотря на все их различия. В первом случае люди принадлежат не только к одному и тому же роду, но и к одной и той же семье; во втором случае они сходны, но не родственны между собой, и для объяснения этого сходства пришлось бы допустить много локальных актов творения — мнение, без нужды увеличивающее число причин. Род животных одного происхождения не содержит различных видов (виды означают ведь именно различия по происхождению); отклонения внутри этого рода, если они наследственные, называются видоизменениями (Abartungen). Наследственные признаки происхождения [от одного рода], если они находятся в согласии со своим общим источником, называются сходствами (Nachartungen); если же данное видоизменение уже не может служить выражением происхождения из общего первоначального рода, то оно называется вырождением (Ausartung).
Видоизменения (т. е. наследственные различия животных, принадлежащих к одному и тому же основному роду), которые постоянно сохраняются из поколения в поколение, в какие бы местности они ни были переселены, а в смешении их с другими видоизменениями того же основного рода всегда порождают помеси, называются расами2. Видоизменения, которые, в какие бы местности они ни были переселены, хотя и сохраняют свои отличительные черты и, следовательно, передают по наследству черты сходства, но в смешении с другими не обязательно порождают полукровных детей, называются разновидностями (Spielarten); те, наконец, которые, правда, часто, но не всегда передают по наследству черты сходства, называются разнородностями (Varietäten). Наоборот, такое видоизменение, которое С другими видоизменениями хотя и.дает полукровное
446
порождение, но вследствие переселения постепенно угасает, носит название особой породы (Schlag).
Соответственно этому негры и белые хотя и не представляют собой различных видов людей (так как они, надо полагать, одного происхождения), но все же они две различные расы: каждая из них продолжает свое потомство во всех местностях и при совокуплении обе необходимо порождают полукровных детей, или метисов (мулатов). Блондины же и брюнеты не представляют собой различных рас белых, так как муж блондин может от жены брюнетки иметь детей только со светлыми волосами, хотя каждое из этих видоизменений, куда бы оно ни переселилось, сохраняется в течение длинного ряда поколений. Поэтому они составляют разновидности белых. Наконец, свойства почвы (влажность или сухость ее), а также питание постепенно создают у животных одного и того же основного рода и расы некоторое наследственное различие, или породу, главным образом в отношении их размеров, пропорциональности конечностей (неуклюжесть или стройность), a также свойств характера, — породу, которая в смешении с чужими дает, правда, полукровных потомков, но в других местностях и при другом питании (даже при отсутствии климатических изменений) через немного поколений исчезает. Интересно наблюдать различия во внешнем облике людей (соответственно различию указанных причин), заметные в разных провинциях одной и той же страны (как, например, беотийцы, проживавшие в местности с влажной почвой, отличались от афинян, живших в местности, где почва сухая); такое различие, правда, часто бывает ясным лишь внимательному глазу, другим же кажется просто смешным. То, что относится только к разнородностям и, следовательно, само по себе (хотя, правда, и не всегда) наследственно, может посредством браков, заключаемых постоянно между членами одних и тех же семей, с течением времени породить то, что я называю фамильным сходством, в котором нечто характерное в конце концов так крепко укореняется в силе воспроизведения, что становится уже близким к разновидности и подобно ей передается по наследству. Говорят, что это можно было
447
наблюдать на старинных дворянских родах Венеции, особенно у их женщин. Во всяком случае на открытом недавно острове Таити все женщины благородного происхождения оказались ростом выше женщин простого происхождения. На возможности путем тщательного обособления детей, носящих на себе признаки вырождения, от тех, кто дает нормальное потомство, создать в конце концов прочное фамильное сходство основывалось мнение г-на Мопертюи3, поставившего задачу в какой-то местности культивировать благородные естественные свойства людей, где ясный ум, даровитость и честность могли бы стать наследственными. Замысел, по моему мнению, сам по себе, может быть, и выполнимый, но со стороны более мудрой природы встречающий решительное противодействие, так как именно в смешении зла с добром и заложены великие стимулы, приводящие в движение дремлющие силы человечества и заставляющие их развивать все свои способности и приближаться к предначертанному им совершенству. Если природа может беспрепятственно действовать через много поколений (при условии, что они не переселяются и не смешиваются с чужими), то она в конце концов всегда порождает такую породу (Schlag), которая навсегда становится характерной для данной народности и могла бы быть названа расой, если бы характерное в ней не оказалось слишком незначительным и слишком трудным для описания, чтобы сделать ее основанием для особого деления.
2. Деление человеческого
рода на различные расы
Я полагаю, что достаточно допустить наличие только четырех рас [человеческого рода], чтобы быть в состоянии вывести из них все с первого взгляда заметные и передающиеся по наследству различия. Это 1) белая раса, 2) негритянская раса, 3) гуннская (монгольская или калмыцкая) раса, 4) индусская, или индостанская, раса. К первой, сосредоточенной главным образом в Европе, я отношу еще и африканских мавров, арабов (по Нибуру)4, тюркско-татарское племя и персов, а также все остальные народы Азии, не исключенные из этой расы всеми другими подразделениями.
448
Негритянская раса северного полушария представлена только в Африке; что же касается южного полушария (вне Африки), то здесь она составляет коренное население (аборигенов), по всей вероятности, только в Новой Гвинее, на некоторых же соседних островах встречается лишь в виде переселенцев. Калмыцкая раса в наиболее чистом своем виде выражена, по-видимому, среди хошоутов, в известной мере среди торготов; среди джунгаров она в сильной степени смешана, как кажется, с татарской кровью и составляет ту самую расу, которая в древнейшие времена носила имя гуннов, позднее — монголов (в широком значении), а в настоящее время — ойратов.
Индостанская раса в стране того же названия представлена в весьма чистом виде и составляет здесь древнейшее население, отличаясь, однако, от народа, живущего на противоположной стороне полуострова Индии. Из этих четырех рас я считаю возможным вывести все остальные передаваемые по наследству характерные черты народов: или как смешанную расу, или как складывающуюся расу, из которых первая произошла из смешения различных рас, а вторая еще недостаточно долго жила в данном климате, чтобы полностью усвоить характер расы этого климата. Так, смешение татарской крови с гуннской в каракалпаках создало ногайцев и другие полурасы. Индостанская кровь, смешанная с кровью древних скифов (в Тибете и вокруг него) и в большей или меньшей мере также с гуннской кровью, породила, по всей вероятности, население по ту сторону полуострова Индии, а именно тонкинцев и китайцев в качестве смешанной расы. Жители северного побережья Азии в области вечной мерзлоты могут служить примером складывающейся гуннской расы, в которой уже наблюдается черный цвет волос, лишенный растительности подбородок, плоское лицо и небольшие продолговатые с узким разрезом глаза — действие ледяного пояса на народ, сравнительно недавно переселившийся в эти места из стран с более мягким климатом; сюда же относятся и лапландцы — потомки угров, в течение немногих столетий уже довольно хорошо сжившиеся
449
со своеобразными условиями холодного пояса, хотя и ведущие свое происхождение от уже развитого (wohlgewachsenen) народа из умеренного пояса. Наконец, американцы5 представляют собой, по-видимому, еще не вполне сложившуюся гуннскую расу. Действительно, на крайнем северо-западе Америки (куда население этой части света пришло, по всей вероятности, из северо-восточной части Азии, о чем свидетельствуют одинаковые виды животных и тут и там), у северных берегов Гудзонова залива, жители весьма походят на калмыков. Правда, далее к югу лица жителей становятся уже более открытыми и приподнятыми, однако лишенный растительности подбородок, черные волосы у всех, красно-коричневый цвет лица, а также прирожденную холодность и бесстрастность — все это, как мы увидим, следы влияния долгого пребывания в холодных зонах — можно наблюдать от самого крайнего севера этой части света до островных государств. Довольно продолжительное пребывание предков американцев на северо-востоке Азии и в соседней северо-западной части Америки привело к тому, что здесь в совершенстве был развит калмыцкий тип, а более быстрое распространение их потомков в южном направлении этой части света привело к образованию американского типа. Америка не дала начала никаким дальнейшим заселениям; об этом говорит то, что на островах Тихого океана все жители, за исключением нескольких негров, имеют бороды; скорее у них можно наблюдать некоторые признаки происхождения от малайцев, так же как и у жителей Зондских островов; а тот вид ленного управления, который открыли на острове Таити и который представляет собой обычное государственное устройство также и малайцев, подтверждает это предположение.
Причина, почему негров и белых следует признать основными расами, ясна сама по себе. Что касается индостанской и калмыцкой рас, то оливково-желтый цвет у представителей первой из этих рас, который служит основой для более или менее резко выраженного коричневого цвета кожи у населения жарких стран, а также своеобразные черты лица у второй расы нельзя
450
вывести из какого-либо другого известного нам национального характера, ведь эти признаки неизменно сохраняются при смешанных браках. То же самое можно сказать и об американской расе, оказавшей влияние на образование калмыцкого типа и связанной с ним одинаковой причиной. При смешении с белым житель Ост-Индии дает желтого метиса, а [коренной] житель Америки — красного метиса, белый с негром — мулата, американец с негром — кабугла, или черного караиба; все они представляют собой ясно выраженные помеси и [тем] доказывают свое происхождение от настоящих рас.
3. О непосредственных причинах происхождения этих различных рас
Основания для определенного развития, заложенные в природе каждого органического тела (растения или животного), в том случае если это развитие касается отдельных частей [тела], называются зародышами; если же это развитие касается только величины или взаимного отношения частей [тела], то я называю их природными задатками. У птиц одного и того же вида, которым, однако, предстоит жить в разных климатических условиях, имеются зародыши для развития нового слоя перьев на тот случай, если они будут жить в холодном климате; но эти зародыши задерживаются в своем развитии, если им приходится жить в умеренном климате. Так как в холодной стране пшеничное зерно должно быть более холодостойким, чем в стране сухой или теплой, то в нем заложена предопределенная способность, или природные задатки, к тому, чтобы постепенно образовывать более плотную оболочку. Эта предусмотрительность природы — посредством скрытых внутренних приспособлений так вооружить каждое свое создание на все случаи в будущем, чтобы оно могло сохранять себя и приспособляться к разным условиям климата или почвы, — достойна удивления и при переселении животных и растений на новые места создает как будто новые виды их, представляющие собой не что иное, как видоизменения и расы одного и того же основного рода, зародыши и природные задатки
451
которого лишь развились различным образом под влиянием тех или иных условий в течение долгого времени*.
Случай или всеобщие механические законы не в состоянии породить такие сочетания. Поэтому встречающиеся при тех или иных условиях результаты развития подобного рода мы должны рассматривать как предуготовленные6. Однако даже там, где не видно ничего целесообразного, одна только способность передавать по наследству свой особенный, приобретенный характер служит уже достаточным доказательством того, что для этого в живом организме должен быть особый зародыш или природные задатки. В самом деле, внешние вещи могут быть, правда, случайными, но не причинами порождения того, что с необходимостью наследуется и передается как сходное. Подобно тому как случай или физико-механические причины не могут породить какое-либо органическое тело, точно так же они не в состоянии что-либо прибавить к его силе воспроизведения, т. е. произвести нечто такое, что само передавалось бы по наследству, если бы только оно обладало особым сложением и соотношением частей**. Воздух, солнце и пища могут видоизменять развитие животного организма, но в то же время не могут сообщить этому изменению силу воспроизведения без такой причины; то, что должно передаваться по наследству, уже заранее
452
должно быть заложено в силе воспроизведения как предопределенное к раскрытию при известных условиях, в которых данное существо может оказаться, и должно затем постоянно сохраняться. Дело в том, что в силу воспроизведения не должно входить ничего чуждого животному, что было бы способно постепенно отдалять данное существо от его первоначального и главного предназначения и приводить к настоящему вырождению, продолжающемуся в последующих поколениях.
Человек был создан для жизни во всех климатах и на любой почве; в нем, следовательно, должны были быть заложены разного рода зародыши и природные задатки, чтобы при случае либо развернуться, либо не проявиться, дабы он мог приспособиться к своему месту в мире и в последовательности поколений казаться как бы рожденным и созданным для этого места. В соответствии с этими рассуждениями рассмотрим историю всего человеческого рода на всем земном шаре и укажем целесообразные причины его видоизменений там, где не видно естественных причин, и, наоборот, укажем естественные причины там, где не обнаружим целей. Здесь я замечу только, что воздух и солнце суть, по-видимому, причины, самым непосредственным образом влияющие на силу воспроизведения и вызывающие постоянное развитие зародышей и задатков, другими словами, способные создать расу; необычная же пища может, правда, содействовать появлению особого склада людей, но отличительные черты их скоро исчезают при смене местопребывания. Все присущее силе воспроизведения должно оказывать влияние не на сохранение жизни, а на источник ее, т. е. на первые принципы ее животного устройства и движения.
Человек, перенесенный в полярную зону, должен был постепенно стать меньше ростом, так как при меньшем росте, если только сила сердца остается той же, кровообращение происходит быстрее, и, следовательно, пульс учащается, и теплота крови увеличивается. И действительно, Кранц7 нашел, что гренландцы не только по своему росту гораздо ниже европейцев, но естественная температура их тела значительно выше. Даже несоразмерность между туловищем и корот-
453
кими ногами у народов севера весьма соответствует их климату, так как эти части тела ввиду их отдаленности от сердца подвергаются при холоде большей опасности. Однако большинство известных в настоящее время обитателей полярного пояса составляют здесь, по всей вероятности, лишь сравнительно поздние пришельцы, как, например, лапландцы, происходящие вместе с финнами от одного рода, а именно угорского, и лишь после переселения угров (из восточной части Азии) занявшие теперешнее место и, однако, уже успевшие в значительной мере приспособиться к этому климату.
Если, однако, северные народы в течение долгого времени вынуждены испытывать на себе влияние холода полярной зоны, то они должны претерпеть еще бо́льшие изменения. Всякое развертывание сил, только благодаря которому тело может расходовать свои соки, должно в этой иссушающей зоне постепенно замедляться. Поэтому рост волос с течением времени задерживается и остаются лишь те волосы, которые требуются для покрытия головы. В силу естественного предрасположения и благодаря предусмотрительности природы становятся постепенно более плоскими для лучшего своего сохранения выдающиеся части лица, менее всего допускающие покрытие их волосами из-за постоянного действия на них холода. Припухлости под глазами, полузакрытые и прищуренные глаза кажутся как бы нарочно устроенными для ограждения их отчасти от иссушающего холода воздуха, отчасти от блеска снега (против чего эскимосы пользуются даже защитными очками), хотя их можно рассматривать и как естественные действия климата, заметные даже в более мягких климатических поясах, правда в гораздо меньшей мере. Так постепенно возникают лишенный растительности подбородок, приплюснутый нос, тонкие губы, прищуренные глаза, плоское лицо, красновато-коричневый цвет кожи с черными волосами — одним словом, калмыцкий тип, через длинный ряд поколений в одном и том же климате закрепляющий признаки постоянной расы и сохраняющийся даже тогда, когда такой народ впоследствии переселяется в местность с более умеренным климатом.
454
Меня, конечно, спросят: на каком основании я вывожу из далекого севера или северо-востока калмыцкий тип, который в настоящее время в наиболее законченном виде встречается в более мягком климатическом поясе? Вот мои соображения: Геродот сообщает, что уже в его время аргиппеи, жители страны, расположенной у подошвы высоких гор в местности, которую можно считать областью Уральских гор, были безволосыми, плосконосыми и свои деревья покрывали белыми покрывалами (вероятно, он имеет в виду юрты). Этот тип в настоящее время встречается в северо-восточной Азии, в особенности же в северо-западной части Америки, которую удалось открыть, отправляясь от Гудзонова залива, где, согласно недавним сведениям, жители выглядят как настоящие калмыки. Это происхождение калмыцкой расы из холодной климатической зоны вовсе не покажется нам неестественным, если принять во внимание, что в древнейшие времена животные и люди этого края должны были постоянно менять места своего жительства между Азией и Америкой, о чем свидетельствует наличие одних и тех же животных в холодном поясе обеих этих частей света, и что эту человеческую расу впервые, приблизительно за 1000 лет до нашей эры, согласно Дегиню8, видели китайцы по ту сторону реки Амура и постепенно она вытеснила другие народы татарского, угорского и других племен.
Но самое важное, а именно происхождение американцев как еще не вполне сложившейся расы, народа, в течение долгого времени заселявшего самый северный край земли, в весьма сильной степени подтверждают незначительная растительность на всех частях их тела, кроме головы, а также красновато-бурый цвет кожи у обитателей более холодных и темно-медный цвет кожи у обитателей более жарких стран этой части света. Действительно, красно-бурый цвет кожи (как результат действия углекислоты), по всей вероятности, в такой же мере соответствует холодному климату, в какой оливково-коричневый цвет (как результат действия щелочно-желчного состава соков) — жаркому климатическому поясу, не говоря уже о природных свойствах американцев, обнаруживающих наполовину угасшую
455
жизненную силу*, которую всего естественнее можно рассматривать как результат действия на них холода.
Чрезвычайно жаркий и насыщенный влагой воздух теплого климата должен, напротив, оказывать на народ, который достаточно долго прожил там, чтобы полностью приспособиться к нему, действие, совершенно противоположное указанным выше. Здесь создается полный контраст калмыцкому типу. В жарком и сыром климате рост пористых частей тела должен был увеличиться, отсюда толстый вздернутый нос и толстые губы. Кожу в этом климате нужно было натирать маслом не только для того, чтобы уменьшить слишком сильное испарение, но также и для того, чтобы предохранить от вредного всасывания гнилостной влаги из воздуха. Избыток частиц железа, имеющихся вообще в человеческой крови, здесь благодаря испарению осевших в сетчатой субстанции фосфористых кислот (которыми всегда пахнет от негров) вызывает черноту, просвечивающую через верхний слой кожи, причем большое содержание железа в крови необходимо, по-видимому, для того чтобы предохранить все части тела от расслабления. Содержащееся в коже масло, ослабляющее питательную слизь, необходимую для роста волос, приводило к образованию курчавых волос на голове. Впрочем, влажная теплота вообще способствует сильному росту живых существ; словом, отсюда и происходит негр, хорошо приспособленный к своему климату, сильный, мускулистый, ловкий, но в тоже время, ввиду того что родина богато снабдила его всем, ленивый, изнеженный и склонный заниматься пустяками.
Уроженца Индостана можно рассматривать как происшедшего от одной из самых древних человеческих рас. Его страна, ограниченная на севере высокими горами и с севера на юг до оконечности этого полуострова перерезанная длинной цепью гор (куда на севере
456
я включаю и Тибет, представляющий собой, быть может, общее пристанище человеческого рода во время последнего великого катаклизма (Revolution), пережитого нашей Землей, и его рассадник — после него), обладает, находясь в счастливой климатической зоне, в высшей степени совершенным распределением вод (сток к двум морям), не встречающимся ни в какой другой части Азиатского материка, расположенной в той же счастливой климатической зоне. В древнейшие времена эта страна могла, следовательно, быть сухой и обитаемой, тогда как восточный полуостров Индии и Китай (поскольку реки здесь не расходятся в разные стороны, а текут параллельно) должны были быть в те времена частых наводнений еще необитаемыми. Здесь могла, следовательно, в течение долгого времени создаваться устойчивая человеческая раса. Оливково-желтый, истинно цыганский цвет кожи индийца, составляющий основу более или менее темного коричневого цвета кожи других восточных народов, столь же характерен и передается из поколения в поколение столь же постоянно, как и черный цвет кожи негров. Оливково-желтый цвет, как и все телосложение и природные свойства индийца, есть, по-видимому, такой же результат действия сухой жары, как цвет кожи негров — результат действия влажной жары. По мнению господина Айвеса9, закупорка желчных протоков и увеличение печени — обычные болезни индийцев; словно желтушный цвет кожи, свойственный им, свидетельствует, по-видимому, о непрерывном выделении поступающей в кровь желчи, а эта желчь подобно мылу, по всей вероятности, растворяет и заставляет испаряться сгустившиеся соки, охлаждая этим кровь, по крайней мере во внешних частях тела. Проявляющаяся в этом и в подобном этому самопомощь природы состоит в том, чтобы посредством определенного устройства (действие которого обнаруживается на коже) непрерывно удалять то, что возбуждает кровообращение и составляет, вероятно, причину того, что у индийцев руки обычно бывают холодными*, и, быть может (хотя это еще не установлено),
457
их кровь вообще менее теплая, что делает их способными легко переносить жару.
Здесь мы имеем дело с предположениями, имеющими достаточные основания, чтобы по крайней мере не уступать другим предположениям, согласно которым различия внутри человеческого рода представляются настолько несовместимыми, что они скорее готовы допустить множество локальных актов творения. Говоря словами Вольтера, тот же самый бог, который создал в Лапландии северного оленя для истребления мха в этих холодных краях, создал там же и лапландца, чтобы поедать этого оленя; это неплохая выдумка для поэта, но скверная отговорка для философа, не имеющего права отказываться от цепи естественных причин, кроме тех случаев, где он явно усматривает ее непосредственную связь с предначертаниями рока11.
В настоящее время правильно объясняют различные цвета растений наличием железа, осаждающегося в них благодаря различным сокам. Так как кровь всех животных содержит железо, то никто не мешает нам приписать различный цвет кожи упомянутых нами человеческих рас этой же причине. Так, вполне возможно, что соляная кислота, или фосфорная кислота, или летучая щелочь опорожняющих сосудов кожи осаждают железо сетчатой ткани либо красными частичками, либо черными, либо желтыми и что у белых это растворенное
458
в соках железо совсем не осаждается, чем доказывается полное смешение соков и большая крепость этой породы людей по сравнению с другими. Однако сказанное представляет собой всего только беглые замечания, которые могут лишь побудить к исследованию в области, слишком для меня чуждой, чтобы я мог решиться высказать здесь с маломальской уверенностью хотя бы только предположения.
Мы различили четыре человеческие расы, куда должно войти все многообразие человеческого рода. Но все эти видоизменения, несомненно, имели какой-то основной род, который мы либо считаем уже исчезнувшим, либо из числа существующих должны выбрать такой, с которым можно было бы с наибольшим основанием сопоставить этот основной род. Правда, в настоящее время вряд ли можно встретить где-либо в мире первоначальный человеческий облик неизмененным. Именно благодаря стремлению природы к тому, чтобы длинным рядом поколений всегда приспособляться к данной местности, внешний вид человека в настоящее время всюду имеет свои особенности, возникшие под влиянием данной местности. Однако полоса земли между 31-м и 52-м градусами широты в древнем мире (а она, по-видимому, и в отношении своего населения заслуживает названия древнего мира) справедливо признается за такую, в которой имеется наиболее счастливое сочетание воздействий более холодных и более теплых местностей, а также обилие животных и растений (Erdgeschöpfe). Именно в этой полосе земли человек должен был меньше всего отклоняться от своего первоначального облика, так как здесь он одинаково хорошо приготовился ко всем переселениям. И вот здесь жители — белые люди, но смуглые, и этот внешний вид мы и намерены считать наиболее близким к основному роду. Ближайшим северным видоизменением представляется нам светло-русый тип людей с нежно-белой кожей, рыжеватыми волосами и светло-голубыми глазами, заселявший в эпоху господства римлян северные области Германии, а (согласно другим данным) также и области, лежащие далее на восток до Алтайских гор, и повсеместно необозримые леса в довольно холодной
459
полосе земли. Наконец, влияние холодного и влажного воздуха, вызывающее в жизненных соках склонность к цинге, было причиной появления породы людей, которая могла бы привести к образованию постоянной расы, если бы в этой полосе земли посторонние примеси столь часто не мешали непрерывному процессу видоизменений. Указанные здесь видоизменения мы можем поэтому, по крайней мере приблизительно, отнести к числу подлинных рас, и тогда их можно будет, принимая во внимание естественные причины их возникновения, представить следующим образом.
Первоначальный род
Смуглые белые
Первая раса. Светло-русые (Северная Европа) — влажный и холодный
климат.
Вторая раса. Медно-красные (Америка) — сухой и холодный климат.
Третья раса. Черные (Сенегамбия) — влажный и жаркий климат.
Четвертая раса. Оливково-желтые (индийцы) — сухой и жаркий климат.
4. О случайных причинах образования различных рас
Чем бы ни объясняли многообразие рас на земной поверхности, самая большая трудность сострит здесь в том, что в сходных земных зонах и при сходных климатических условиях живут люди не одной и той же расы; что Америка в зоне своего самого жаркого климата не знает людей ни ост-индского, ни тем более негритянского типа как присущего этой стране и что в Аравии или Персии нет коренных жителей с индийским, оливково-желтым цветом кожи, несмотря на то что по своему климату и свойствам воздуха эти страны весьма сходны с Индией, и т. д. Что касается первой из этих трудностей, то преодолеть ее довольно легко, если исходить из характера населения этой климатической зоны. В самом деле, раз такая раса, как существующая в настоящее время, образовалась вследствие долгого пребывания коренного населения на северо-востоке Азии или в соседней с ней части Америки, то она уже затем никакими дальнейшими влияниями климата не
460
могла превратиться в другую расу: только основной род может преобразоваться в расу, а там, где раса уже пустила корни и подавила другие зародыши, она потому именно и противостоит всякому преобразованию, что характер расы стал уже преобладающим в силе воспроизведения.
Что же касается того, что негритянская раса географически связана только с Африкой* (в наибольшей чистоте она встречается в Сенегамбии), а индийская раса — с Индией (не считая тех мест, где эта раса, по-видимому в нечистом виде, распространена и дальше на восток), то я полагаю, что причина этого заключается в том, что внутреннее море, существовавшее в древние времена, обособляло как Индостан, так и Африку от других довольно близко расположенных к ним стран. Полоса земли, тянущаяся почти непрерывно от границы Даурии через Монголию, Малую Бухару, Персию, Аравию, Нубию и Сахару до Мыса Белого, в большей своей части походит на дно древнего моря. Страны, находящиеся в этой полосе земли, представляют собой то, что Бюаш12 называет плоскогорьем, т. е. высокие и по большей части горизонтальные равнины; горы же, возвышающиеся на этих равнинах, нигде не обнаруживают далеко простирающихся склонов, так как подошвы этих гор везде засыпаны горизонтально лежащими песками; поэтому немногочисленные реки там небольшие и теряются в песках. Эти страны похожи на бассейны древних морей, так как, окруженные возвышенностями, они во внутренней части, если рассматривать их в целом, сохраняют свой уровень и потому не принимают никаких рек и сами не дают им начала. Кроме того, они большей частью покрыты песком, представляющим собой осадок древнего спокойного моря. Отсюда становится понятным, почему индийский характер не мог пустить корни в Персии и Аравии, бывших в то время еще частями
461
морского бассейна, между тем как Индостан, надо полагать, был в то время давно уже заселен; становится также понятным и то, каким образом негритянская и индийская расы могли в течение столь долгого времени сохраняться несмешанными с северной кровью, ибо они были ограждены как раз этим морем. Описание природы (состояние природы в настоящее время) далеко не достаточно для того, чтобы указать причины, почему имеется столько видоизменений. Нужно, несмотря на всю, и притом вполне обоснованную, вражду к дерзким мнениям, решиться создать такую историю природы, которая представляла бы собой отдельную науку и была бы способна постепенно перейти от простых мнений к знаниям.
Физическая география, настоящим объявленная мной [как университетский курс], входит в содержание [развитой мной] идеи о полезном академическом преподавании, которое я могу назвать предварительным упражнением в познании мира. А это познание мира как раз и служит тому, чтобы всем другим приобретенным наукам и искусствам придать прагматический смысл, вследствие чего они становятся пригодными не только для школы, но и для жизни и благодаря чему ученик выходит на арену своего призвания, а именно в свет, вполне подготовленным. Здесь перед ним открывается двоякое поприще, предварительный очерк которого ему необходимо иметь, для тоге чтобы он был в состоянии упорядочить весь относящийся сюда последующий опыт; это двоякое поприще — природа и человек. Однако и то и другое должно быть здесь рассмотрено космологически, т. е. не с точки зрения тех достопримечательностей, которые содержатся в их предметах, отдельно взятых (физики и эмпирической психологии), а с точки зрения их соотношения внутри целого, в котором они находятся и в котором каждое занимает свое собственное место. Первый предмет обучения я называю физической географией, и ее я объявил в качестве курса лекций на летний семестр, второй предмет — антропологией, которую я откладываю на зиму. Остальные лекции этого полугодия были уже указаны в соответствующем месте.
ДВЕ СТАТЬИ ОТНОСИТЕЛЬНО «ФИЛАНТРОПИНА»
1776—1777
![]()
1
ДЕССАУ, 1776
В первом выпуске «Филантропического архива» искренние друзья юношества обращаются к опекунам человечества, в особенности к тем, кто приступает к улучшению школьного дела, а также к отцам и матерям, желающим послать своих детей в Дессауский Филантропин.
Никогда, быть может, к человеческому роду не предъявлялось более справедливого требования и никогда ему бескорыстно не предлагалось дела столь великой и все возрастающей пользы, как то, которое здесь предпринимает господин Базедов. Тем самым он вместе со своими достославными помощниками торжественно посвящает себя созданию благополучия для людей и их совершенствованию. То, над чем хорошие и плохие умы размышляли в течение веков, но что без пламенного и упорного рвения одного проницательного и энергичного человека оставалось бы в течение стольких же веков благим намерением, а именно подлинное, сообразное и с природой, и с гражданскими целями учебное заведение, теперь перед нами налицо и дает неожиданно быстрые результаты. Оно нуждается в помощи со стороны лишь для того, чтобы расширить его в том виде, в каком оно теперь существует, дабы рассеять его семена по всем странам и увековечить этот тип заведения. Развитие заложенных в человеке естественных задатков имеет в этом заведении то же свойство, что и общая наша матерь — природа: оно не растрачивает свои семена понапрасну, а само себя умножает и
465
поддерживает свой род. Для всякого общества, как и для каждого отдельного гражданина мира, бесконечно важно познакомиться с таким заведением, которое дает начало совершенно новому порядку человеческой жизни (сведения о нем можно почерпнуть из упомянутого «Архива», а также из сочинения Базедова «Чтение, необходимое для гражданина мира»). Если это заведение быстро расширится, то и в частной, и в гражданской жизни оно произведет столь великую и столь многообещающую реформу, что при беглом взгляде ее трудно даже представить себе. Поэтому настоящий долг каждого истинного друга человечества — заботливо культивировать и охранять, насколько возможно, этот нежный еще росток или по крайней мере настойчиво рекомендовать тем, чья добрая воля сочетается с возможностью покровительствовать ему. Если этот росток, как на то дает основание надеяться удачное начало, достигнет когда-нибудь полного своего развития, то плоды его скоро распространятся по всем странам и на самое отдаленное потомство. 13 мая в этом отношении знаменательный день. В этот день уверенный в успехе своего дела муж1 приглашает ученейших и просвещеннейших мужей соседних городов и университетов посмотреть собственными глазами на то, во что они едва ли могли бы поверить на основании одних только рассказов. Добро обладает неодолимой силой, когда его можно видеть воочию. Голос достойных и облеченных доверием представителей человечества (большое число которых мы хотели бы видеть на этом съезде) неизбежно должен был бы привлечь внимание Европы к тому, что так близко касается человечества, и побудить ее к деятельному участию в столь общеполезном заведении. Предметом величайшей радости и не менее прекрасной надеждой на то, что последуют столь благородному примеру, должно для каждого друга человечества служить то обстоятельство, что Филантропину (как это было сообщено в одной из последних газет) благодаря значительной помощи со стороны одной высокой особы2 обеспечено его дальнейшее существование. При таких обстоятельствах нельзя сомневаться, что из разных пунктов в Дессауский Филантрошш поспешат лица, желаю-
466
щие воспользоваться имеющимися стипендиями, чтобы обеспечить себе в этом заведении места, которых скоро может и не оказаться. Для тех же, кто горячо желает быстрого распространения этого благого дела, самой большой заботой должен быть отбор способных кандидатов и отправка их в Дессау в целях изучения метода воспитания в Филантропине. Это — единственное средство, для того чтобы в ближайшем будущем иметь везде хорошие школы, и это требует, по-видимому, незамедлительного внимания и великодушной поддержки прежде всего со стороны состоятельных покровителей. В ожидании, что это пожелание скоро осуществится, следует всем учителям частных и государственных школ усиленно рекомендовать пользоваться сочинениями Базедова, а также изданными им учебниками и для собственного уразумения, и для наставления вверенного им юношества. Таким образом они уже теперь могли бы, насколько это осуществимо при данных условиях, придать делу обучения филантропический характер. Цена книги в книжном магазине Кантера 15 грошей.
2
К ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В цивилизованных странах Европы нет недостатка в учебных заведениях и благонамеренном усердии учителей принести всем пользу в этом деле. Тем не менее в настоящее время можно считать вполне доказанным, что все эти учебные заведения испорчены уже в самом начале. Так как все в них делается против природы, то из человека извлекается далеко не все добро, предрасположением к которому наделила его природа. Мы принадлежим к животному царству и становимся людьми только через образование. Вот почему мы могли бы в короткое время увидеть вокруг себя совершенно других людей, если бы получил всеобщее применение тот метод воспитания, который мудро выводится из самой природы, а не рабски следует старым привычкам и не умудренному еще опытом веку.
Было бы, однако, напрасно ожидать этого блага человеческого рода от постепенного совершенствования
467
школьного дела. Школы надо преобразовать, если хотят получить от них что-то хорошее, так как само их устройство неправильно и даже учителям этих школ необходимо дать новое образование. Не медленная реформа, а только быстрая революция способна это осуществить. А для этого обязательно требуется единая школа, которая была бы совершенно заново построена на основе истинного метода людьми просвещенными, не корыстолюбивыми, а работающими в ней из благородного рвения и совершенствование которой было бы предметом внимательного наблюдения и оценки знатоков всех стран. В то же время ей следует оказывать всяческое содействие и поддержку объединенными усилиями всех друзей человечества, пока она не достигнет своего совершенства.
Не только для тех, кого она воспитывает, но, что неизмеримо важнее, благодаря тем, кому она дает возможность постепенно стать, и притом в большом числе, учителями на основе истинного метода воспитания, эта школа представляет собой семя, посредством тщательного ухода за которым можно в короткое время вырастить множество хорошо подготовленных учителей, которые скоро покроют всю страну сетью хороших школ.
Усилия общественности всех стран должны были бы прежде всего быть обращены на то, чтобы отовсюду оказать такой образцовой школе свою поддержку, дабы скорей помочь ей достигнуть полного совершенства, источник которого она уже содержит в себе самой. В самом деле, стремиться тотчас же подражать в других странах ее устройству и установлениям и в то же время задерживать при наличии в ней недостатков и препятствий прогресс самой этой школы, которая еще должна стать первым образцом и рассадником хорошего воспитания, — это значило бы сеять несозревшее семя, чтобы потом пожать плевелы.
Такое учебное заведение уже не есть только прекрасная идея; оно действенно и с полной очевидностью доказывает, что то, что давно уже стало предметом общего желания, исполнимо. Это, несомненно, такое явление нашего времени, которое, хотя его и не замечают заурядные люди, должно, однако, для каждого разумного
468
и заинтересованного в благе всего человечества наблюдателя быть более важным, чем пустой блеск и вечная суета большого света, где благом человеческого рода если и не пренебрегают, то во всяком случае ни на волос не продвигают его вперед.
Призыв общества и в особенности объединенные голоса добросовестных и проницательных знатоков из разных стран побудят читателей настоящей газеты признать Дессауский педагогический институт (Филантропин) единственным заведением, отмеченным вышеуказанными признаками превосходства. Немаловажное достоинство этого заведения состоит в том, что по самому своему устройству оно должно естественным путем, само собой устранить все вначале еще имеющиеся у него недостатки. Нападки, которым кое-где подвергается Филантропин, и появляющиеся иногда пасквили (один из них, принадлежащий перу Мангельсдорфа3, получил недавно достойную отповедь со стороны господина Базедова) —это обычные уловки придирчивости и погрязшей в своей косности традиции. Если бы подобного рода люди, всегда бросающие злобные взгляды на все, что дает о себе знать как доброе и благородное, проявляли спокойное безразличие, то это должно было бы вызвать некоторое подозрение относительно невысокой ценности этого возникающего добра.
Теперь как раз представляется возможность оказать некоторую помощь (помощь, исходящая от одного лица, ничтожна, от многих — может стать значительной) этому заведению, которое посвящает себя человечеству и, следовательно, интересам каждого гражданина мира. Если бы мы захотели напрячь силу своей фантазии, чтобы придумать такой случай, когда посредством незначительного вклада можно было бы содействовать достижению величайшего, самого прочного и общего блага, то это должен был быть тот случай, когда семя добра само себя может культивировать и поддерживать, дабы с течением времени получить распространение и непреходящее значение.
На основании сказанного и того высокого мнения, какое мы имеем о численности благомыслящих лиц
469
нашей общественности, мы сошлемся на 21-й выпуск этой «Ученой и политической газеты»4 вместе с приложением к ней и будем надеяться на многочисленные взносы всех господ духовного и педагогического звания, всех вообще родителей, всех тех, кому не безразлично то, что служит к улучшению образования их детей, кто, наконец, хотя и не имеет детей, сам, однако, в детском возрасте получил хорошее воспитание и именно потому осознает свой долг — содействовать если не увеличению числа людей, то по крайней мере делу их образования.
На настоящий ежемесячник, выпускаемый Дессауским учебным заведением под заглавием «Педагогические беседы»5, принимается подписка со взносом в 2 талера 10 грошей. Но так как число печатных листов нельзя определить заранее и к концу года может поэтому потребоваться некоторая доплата, то было бы, пожалуй, всего лучше (что, однако, предоставляется на благоусмотрение каждого) способствовать преуспеянию этого дела внесением одного дуката в виде аванса с условием, чтобы излишек был каждому, кто бы этого потребовал, аккуратно возвращен. Упомянутое заведение питает надежду, что во всех странах есть много благородно мыслящих лиц, которые охотно воспользуются данным случаем, чтобы по такому поводу к сумме аванса присовокупить еще небольшой добровольный дар в поддержку заведения, уже близкого к своему завершению, но еще не получившего заблаговременно ожидаемой помощи со стороны. Так как, согласно заявлению старшего коммерции советника господина Бюшинга6 («Wöchentlicне Nachrichten» за 1776 г., выпуск 16), власти не располагают в данное время деньгами для улучшения школьного дела, то в конце концов, поскольку такое улучшение все же должно произойти, нужно, чтобы состоятельные частные лица своим великодушным вкладом сами содействовали этому столь важному для всех делу.
Авансы от граждан нашего города принимаются господином проф. Кантом утром от десяти до часу дня, а также книжным магазином Кантера во всякое время дня с выдачей расписки о получении.
ПРИМЕЧАНИЯ
УКАЗАТЕЛИ
![]()
ПРИМЕЧАНИЯ
Работы, помещенные в этом томе, были опубликованы на русском языке во втором томе Сочинений Канта, изданном под общей редакцией Б. Ю. Сливкера (И. Кант, Сочинения 1747—1777 гг. в двух томах, т. II, М., Соцэкгиз, 1940). При подготовке настоящего издания переводы этих работ заново сверены с оригиналом М. И. Иткиным.
В основу примечаний к данному тому положены примечания, составленные Б. Ю. Сливкером.
ОПЫТ НЕКОТОРЫХ РАССУЖДЕНИЙ ОБ ОПТИМИЗМЕ
«Versuch einiger Betrachtungen über den Optimismus von M. Immanuel Kant, wodurch er zugleich seine Vorlesungen аuf das bevorstehende halbe Jahr аnkündigt» («Опыт некоторых рассуждений магистра Иммануила Канта об оптимизме с одновременным оповещением о его лекциях на предстоящее полугодие»). Работа служила приглашением на лекции, которые Кант собирался прочитать в Кёнигсбергском университете в зимнем семестре 1759/60 г. Кант выбрал эту тему в связи с происходившим тогда спором об оптимизме (о лучшем из миров). В 1753 г. Берлинская академия наук объявила премию за лучшее сочинение, посвященное исследованию учения английского поэта Попа, выражающегося в положении: все благо.
Сочинение Канта представляет собой по существу популяризацию доктрины об оптимизме, изложенной в «Теодицее» Лейбница (вышла в свет в 1710 г.).
1 Кант имеет здесь в виду прежде всего большинство древнегреческих философов, а из позднейших философов — Джордано Бруно и в особенности Лейбница, а также Лессинга, Шефтсбери и др. — 43.
2 Рейнгард (Reinhard, Аdolf Friedrich, 1728—1783) — последователь Крузия. Сочинение Рейнгарда, о котором упоминает Кант, было опубликовано в Берлине в 1755 г. вместе
473
с другими сочинениями,
представленными на соискание премии Прусской академии наук, под заглавием «Dissertation qui а remporté le
prix proposé par l’Académie royale des sciences et belles lettres
de Prusse sur l’optimisme». — 44.
3 Говоря о противниках оптимизма, Кант имеет
в виду прежде всего Крузия и особенно
его сочинение «Entwurf der notwendigen Vernunftwahrheiten», 2. аufl., 1753, § 386, цитируемое
обыкновенно под названием «Methaphysik». — 45.
4 Мейер (Meier, Georg Friedrich, 1718—1777) — профессор философии в Галле, ученик Баумгартена, защитник его учения об ощущениях, которое понимается им как низшая (по сравнению с интеллектом) способность человеческого духа. Кант имеет в виду весьма популярное в то время сочинение Мейера «Auszug аus der Vernunftlehre», Halle, 1762, которым Кант пользовался как руководством для своих лекций по логике. По обычаю того времени каждый профессор в основу читаемого им курса полагал какое-нибудь печатное руководство по данному предмету. Сочинение Мейера, писавшего не по-латыни, а по-немецки, отличалось ясным и изящным изложением. — 48.
5 Баумгартен (Baumgarten, Alexander Gottlieb, 1714—1762)
— самый выдающийся из учеников Вольфа, известен главным образом как основатель
эстетики. Баумгартен был творцом значительной части современной философской
терминологии. Сочинения его: «Metaphysica» (Halle, 1739); «Aesthetica аcroamatica» (Frankfurt, 1750—1758). —
48.
МЫСЛИ, ВЫЗВАННЫЕ БЕЗВРЕМЕННОЙ КОНЧИНОЙ ВЫСОКОРОДНОГО ГОСПОДИНА ИОГАННА ФРИДРИХА ФОН ФУНКА
«Gedanken bei dem frühzeitigen аbleben des Hochwohlgebornen Herrn,
Herrn Johann Friedrich von Funk, in einem Sendschreiben аn die Hochwohlgeborne Frau, Frau аgnes Elisabeth, verwitt. Frau
Rittmeisterin von Funk, geborne von Dorthösen,
Erbfrau der Kaywenschen und Kahrenschen Güter in Kurland, des selig
Verstorbenen Hochbetrübte Frau Mutter, von M. Immanuel Kant, Lehrer der
Weltweisheit аuf der аkademie zu Königsberg» («Мысли,
вызванные безвременной кончиной высокородного господина Иоганна Фридриха фон
Функа, изложенные в письме к высокородной госпоже Агнесе-Елизавете, вдове
славного предводителя дворянства фон Функ, рожденной Дортхёзен, наследнице
Кайвенских и Каренских поместий в Курляндии, постигнутой глубокой печалью
матери покойного, от магистра Иммануила Канта, преподавателя философии в Кенигсбергской
академии»).
1 Имеется в виду Тит Лукреций Kap, поэма «О природе вещей», V, 223. — 51.
2 Кант цитирует «Unvollk
474
3 Теске (Teske, Johann Gottfried, 1704—1772) — профессор физики в Кёнигсберге. — 56.
4 Функ (Funk, Johann Daniel, 1721—1764) — профессор права в Кёнигсберге. — 56.
ЛОЖНОЕ
МУДРСТВОВАНИЕ В ЧЕТЫРЕХ ФИГУРАХ СИЛЛОГИЗМА
«Die falschе Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren».
Работа служила приглашением на лекции Канта и появилась в свет к началу зимнего семестра 1762/63 г.
1 Кант имеет здесь в виду сочинение Крузия «Weg zur Gewissheit und Zuverlässigkeit der menschlichen Erkenntnis» («Путь К достоверности и надежности человеческого познания»), Leipzig, 1747, обыкновенно цитируемое кратко как «Логика». В этом сочинении Крузий под влиянием своего учителя Гофмана (А. F. Hoffmann, Vernunftlehre, 1737) следует традиционному (со времен Галена) различению первой и четвертой фигур силлогизма. Кант, напротив, следуя Аристотелю, сознательно избегает четвертой фигуры как лишней, указывая на совершенную относительность различия первой и четвертой фигур и на невозможность принципиального выделения последней как самостоятельной. — 69.
2 Сорит — в формальной логике цепь выводов, составленная из сокращенных силлогизмов, типа: «A есть B, B есть C, C есть Д[28], следовательно, A есть Д» (аристотелевский сорит, опускающий меньшие посылки) или: «C есть Д, B есть C, а есть B, следовательно, A есть Д (гоклиниевский сорит, опускающий бо́льшие посылки). — 75.
3 Кант имеет в виду Мейера
(см. прим. 4 на стр. 474), автора сочинения «Versuch eines neuen Lehrgebäudes von den
Seelen der Tiere»,
Halle, 1750 («Опыт новой системы знаний о душах животных»). — 76.
ОПЫТ ВВЕДЕНИЯ В ФИЛОСОФИЮ ПОНЯТИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН
«Versuch den Begriff der negativen Grössen in die Weltweisheit
einzuführen».
Относительно возникновения этого сочинения имеется краткое и
чисто официальное сообщениё в «Acta
facultatis philosophicae» (Кёнигсбергского университета), т. V, стр. 428: «3 июня
[1763] магистра Канта “Опыт введения в философию понятия отрицательных
величин с приложением гидродинамической задачи”».
1 Имеется в виду тот отдел логики, который со времени Лейбница, Гюйгенса и Бернулли разрабатывался как «теория
475
вероятностей» и которого не было в традиционной для того времени формальной логике Пор-Рояля. — 81.
2 Кант имеет здесь в виду
сочинение Л. Эйлера «Réflexions sur l’espace et le temps» в «L’Histoire de l’Académie royale des
sciences et belles lettres», 1748, p. 324—333. — 82.
3 Кант имеет здесь в виду сочинение Крузия «Anleitung, über natürlichе Begebenheiten
ordentlich und vorsichtig nachzudenken» (цитируемое обыкновенно
сокращенно как «Physik»), Leipzig, 1749.
Крузий отрицал за «силой притяжения» характер истинной основной силы в противоположность воззрению Ньютона, которому следовал Кант. — 83.
4 Кестнер (Kästner, аbraham Gotthelf, 1719—1800) — автор сочинений по математике и механике. — 84.
5 Имеется в виду, вероятно, Крузий. — 84.
6 Может быть, Кант имеет в виду свою работу «О степени ясности принципов естественной теологии и морали» (1764) или же другое сочинение, оставшееся ненаписанным. — 94.
7 Мопертюи (Maupertuis, Pierre Louis Moreau de, 1698—1759) — французский математик
и естествоиспытатель, член Академии наук в Париже, президент Берлинской академии
наук. Кант ссылается на сочинение Мопертюи «Essai de philosophie morale», Berlin, 1749, cap. 2. — 96.
8 Мысль Мушенбрука (Musschenbroek, Pieter van, 1692—1761), о
которой говорит Кант, изложена в главном сочинении голландского математика и физика «Grundlehren der Naturwissenschaft», Leipzig,
1747. — 100.
9 Эпинус (Äpinus, Franz Ulrich Theodor, 1724—1802) — профессор физики, член Российской академии наук и директор кадетского корпуса в Петербурге. Его сочинение о сходстве электрической силы с магнетической («Sermo аcademicus de similitudine vis electricae аtque magneticae») вышло в свет в Петербурге в 1758 г., немецкий перевод — в 1759 г. — 101.
10 Теория холода как
отрицательного тепла была подготовлена наблюдениями венгерского теолога Матиаса
Беля (Mathias Bel, 1684—1749)
и изысканиями голландского ученого Бургава (Boerhaave, Hermann, 1668—1738) в его статье «De Mercurio
expérimenta», опубликованной в журнале «Philosophical Transactions», 1733 и
1736 гг. (на немецком языке — в «Hamburgisches Magazin oder gesammlete Schriften zum
Unterrichо und Vergnügen», Bd. 4, Stück. 4, 1753). — 102.
11 Кант имеет в виду работу Якоби (Jacobi, Johann Friedrich,
1712—1791) «Sammlung einiger Erfahrungen und аnmerkungen über die Wärme und
Kälte in freier Luft», «Das Hamburgischе Magazin», XXI, 1758, S. 16 f. — 102.
12 Кант ссылается на § 35 сочинения
по логике немецкого деиста Реймаруса (Reimarus, Hermann Samuel, 1694—1768) «Vernunftlehre», Hamburg und Kiel, 1756. — 107.
13 Стагирит — прозвище Аристотеля, родившегося в г. Стагире. — 121.
476
НАБЛЮДЕНИЯ НАД ЧУВСТВОМ ПРЕКРАСНОГО И ВОЗВЫШЕННОГО
«Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen».
8 октября 1763 г. это сочинение было представлено для цензуры декану
философского факультета Кёнигсбергского университета, к 1 февраля 1764 г.
появилось в печати. По-видимому, оно было написано раньше «Опыта о
болезнях головы».
В «Наблюдениях над чувством прекрасного и
возвышенного» принципиальные проблемы практической философии затрагиваются
Кантом впервые. В это время, как и в ближайшие затем годы, Кант в решении этих
проблем находился под несомненным влиянием Руссо, которое нашло особенно яркое
выражение не столько в кантовском обосновании моральных принципов, сколько в
воздействии мысли Руссо о преодолении односторонне интеллектуалистической
оценки природы человека. Это именно имел в виду Кант (см. настоящий том, стр.
205), говоря, что Руссо направил его на надлежащий путь («Rousseau hat mich
zurecht gebracht»). Подобно Руссо Кант стремится сделать нравственное
значение человека независимым от каких бы то ни было метафизических умозрений,
обосновав его естественными свойствами и задатками человеческой природы. Однако
само понимание «природы» было у Канта существенно иным, чем у Руссо. В противоположность
Руссо, который исходил из понятия о природе, заимствованного им из философии французского
Просвещения, Кант стремился дать независимое от принятых понятий описание самой
природы чувства, рассматривая такое описание как единственное средство и путь к
раскрытию моральных задатков в человеческой природе. Стремлением к описанию и
непосредственному изучению самой природы чувства проникнуто все сочинение Канта
«Наблюдения
над чувством прекрасного и возвышенного».
1 Хассельквист (Hasselquist, Friedrich) — путешественник,
известен своей книгой «Путешествие в Палестину в 1749—1752 годах» («Reise nach
Palästina in den Jahren 1749—1752», Rostock, 1762). — 130.
2 Лабрюйер (La Bruyère, Jean de, 1645—1696) — французский писатель.
Юнг (Young, Edward, 1683—1765) — английский писатель. — 132.
3 Ганвей (Hanway, Jonas, 1712—1786) — автор «Unparteiischе Historie
des grossen Eroberers Nadir Kuli oder Kuli Chams», Hamburg und Leipzig, 1754,
2-ter Teil, S. 396. — 133.
4 Хогарт (Hogarth, William, 1697—1764) — знаменитый английский художник-сатирик и гравер. — 135.
5 Альцест и Адраст
— имена героев греческой мифологии, которыми Мольер назвал главных действующих
лиц своей комедии «Мизантроп». — 143.
6 Грандисон — главный герой романа
английского писателя Ричардсона (Richardson, Samuel, 1689—1761) «History of Sir Charles Grandison», 1753. — 147.
477
7 Дасье (Dacier, Аnna, 1654—1720) — супруга филолога Андре Дасье, перевела на французский язык Гомера, Анакреонта, Сафо и других античных поэтов, — 153.
8 Шатле (Chastelet, Gabriel du, 1706 — 1749)
— перевела на французский язык главное сочинение Ньютона «Philosophiae naturalis рrіnсіpіа
mathematica». — 153.
9 В словах «предоставить Картезию постоянно крутить свои вихри» отразилось пренебрежение Канта к рационалистической теории вихрей Декарта. Об этой теории см. настоящее издание, т. 1, прим. 6 на стр. 525. — 153.
10 Кант имеет в виду сочинение Фонтенеля (Fontenelle, Bernard le Bovier de) «Entretiens sur la pluralité des mondes», Paris, 1686, написанное в форме разговора Фонтенеля с одной дамой. — 153.
11 Альгаротти (Algarotti, Francesco, 1712-—1764) —
итальянский ученый, получил известность благодаря своему сочинению «Ньютонианство
для дам»
(«Newtonianisme pour les dames»,
аmsterdam, 1741). — 153.
12 Ланкло (Lenclos, Ninon de, 1620—1705) — известная своим умом и красотой француженка. Ее салон посещали знаменитые люди того времени. — 157.
13 Мональдеши — фаворит и любовник шведской королевы Христины, казненный по ее приказу в 1657 г. — 157.
14 Кант не был, конечно, расистом; он отстаивал принцип единого происхождения человеческих рас. Однако в данном случае Кант остается в плену предрассудков, свойственных в ту эпоху многим европейцам. — 179.
15 Имеется в виду «Essay of National Characters» Юма (см. D. Hume, Philosophical Works, ed. Green а. Grose, 1874/5, III, p. 252). — 179.
16 Лаба (Labat, Jean Baptist, 1663—1738) —
французский миссионер, автор сочинения «Voyage du père Labat аux îles de l’Amérique»,
Haye, 1724. — 181.
ПРИЛОЖЕНИЕ К «НАБЛЮДЕНИЯМ
НАД ЧУВСТВОМ ПРЕКРАСНОГО И ВОЗВЫШЕННОГО»
Это приложение к «Наблюдениям над чувством прекрасного и возвышенного» состоит из отдельных черновых набросков и заметок на полях основной рукописи и на отдельных листках. После выхода в свет «Наблюдений над чувством прекрасного и возвышенного» эти наброски и заметки были объединены, по-видимому самим Кантом, в одно, правда, довольно рыхлое и несистематизированное целое, так и не получившее окончательной обработки. Оно было напечатано в «Nachlass», т. е. в числе посмертно изданных трудов Канта, и заимствуется нами из собрания сочинений Канта, изданных К. Форлендером (т. VIII, стр. 257—291, аus der vorkritischen Zeit, etwa 1764—1775, Leipzig, 1922).
1 Александру Великому был подан письменный донос, в котором его врача Филиппа обвиняли в желании отравить
478
2 Имеется в виду Катон
Утический, ставший во времена Канта особенно известным в Германии благодаря
трагедии Готшеда (Gottsched, Johann
Christoph, 1700—1766) «Умирающий Катон». — 188.
3 «Неистовый Ионафан» — роман любимого Кантом английского писателя Фильдинга (Fielding, Henry, 1707—1754). — 188.
4 Имеется в виду роман Руссо «Эмиль, или О воспитании», в котором развиты принципы воспитания человека соответственно его естественным способностям и склонностям в противовес схоластическому воспитанию. — 198.
5 Очевидно, имеется в виду русский царь Петр I. — 200.
6 Теофраст (ок. 372—287 до н. э.) — древнегреческий философ и исследователь природы. — 207.
7 Альфонзус и Манес
признавали наличие в мире двух начал — добра и зла. Лейбниц, Ньютон, Руссо и
поэт Поп были сторонниками учения о едином божественном начале добра и
опирались на это учение в своей оценке мира и жизни. В докритический период
Кант также был склонен признать этот принцип «безраздельного могущества добра в мире». — 213.
8 Имеется в виду положение Попа о том, что наш мир — наилучший мир. — 213.
ОПЫТ О БОЛЕЗНЯХ ГОЛОВЫ
«Versuch über die Krankheiten des Kopfes».
Внешним поводом для написания этой статьи, появившейся анонимно в «Königsbergischе gelehrte und politischе Zeitungen» в № 4—8 от 13—27 февраля 1764 г., послужило свидетельство Боровского, ученика Канта, о появлении в окрестностях Кёнигсберга полупомешанного мечтателя, по имени Ян Павликович Здомозирских-Комарницкий. Человек этот переходил с места на место в сопровождении мальчика, помогавшего ему пасти стадо из коров, овец и коз. Странный вид бродяги-пастуха настолько привлек к себе внимание жителей Кёнигсберга, что издатель «Königsbergiscне gelehrte und politiscне Zeitungen» Гаман счел необходимым выступить перед публикой с сообщением об этом.
1 Клавий (Clavius — латинизация имени Шлюсселя; Schlüssel, Christoph, 1537—1612) — математик, известен как участник реформы календаря при папе Григории XIII. — 228.
2 Орбиль (по имени римского грамматика Орбилия Пупилля, учителя Горация) — тип педантически-тиранического учителя, часто встречавшийся в иезуитских школах. — 228.
3 Пиррон (ок. 365—270 до н. э.)
— скептик. Об эпизоде, который упоминается Кантом, см. Diogenes Laërtius, IX, 68. — 230.
479
4 Гольберг (Holberg, Ludvig, 1684—1754) — крупнейший датский драматург, писатель и историк. — 232.
5 Пятая монархия, т. е. после четырех мировых царств ассирийцев, персов, греков и римлян. — 232.
6 Террасон (Terrasson, Jean, 1670—1750) —
французский ученый, член Французской академии, автор ряда сочинений, наиболее
известными среди которых являются: «Dissertation critique sur l’Iliade d’H
7 Кант имеет в виду
сочинение Свифта (Swift,
Jonathan, 1667—1745) «Новейшее искусство стихосложения, или Искусство
подвизаться в поэзии». — 241.
ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ ЯСНОСТИ ПРИНЦИПОВ ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЕОЛОГИИ И МОРАЛИ
«Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der
natürlichen Theologie und der Moral. Zur beantwortung der Frage, welchе die
Königl. аkademie der Wissenschaften zu Berlin аuf das Jahr 1763 аufgegeben
hat» («Исследование степени ясности принципов естественной теологии и
морали. Ответ на вопрос, поставленный Королевской академией наук в Берлине в
1763 г.»).
Это сочинение, написанное Кантом на соискание премии Прусской академии
наук, было издано этой академией в 1764 г. вместе с трактатом М. Мендельсона («Über die
Evidenz in metaphysischen Wissenschaften»), получившего первую премию, под общим
названием «Dissertation qui а remporté le prix proposé par L’Académie
Royale des sciences et belles-lettres de Prusse, sur la nature, les
espèces et les degrés de l’évidence аvec les pièces
qui ont concouru. À Berlin… MDCCLXIV».
1 Кант ссылается здесь на сочинение Вольфа (Wolff, Christian, 1679—1754) «Elementa matheseos universae», Halae, 1717,
I, S. 96 (предисловие к «Elementa
ge
2 Варбертон (Warburton, William, 1698—1779) — епископ глочестерский, автор «TНе Divine Legation of Moses» и других богословских сочинений. — 254.
3 Августин (Augustinus,
аurelius, 354—430) в сочинении «Confessiones», lib. XI, cap. XIV, говорит: «Quid est ergo tempus? Si nemo ex me
quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio; fidenter tarnen dico,
scire me» («Итак, что же такое время? Пока никто меня о том не спрашивает, я
знаю; когда меня спросит кто-нибудь и я хочу дать объяснение спросившему — не
знаю. И все же с достоверностью утверждаю; знаю»). — 255.
480
4 Соваж (François Boissier de Sauvages de la Croix, 1706—1767) — медик и ботаник, автор «Betrachtungen über die Seele in der Erstarrung und Schlafwanderung» («Наблюдения над душой в состоянии оцепенения и сомнамбулизма») в журнале «Hamburgisches Magazin», VII, S. 489—512. — 263.
5 Кант имеет в виду
сочинения Крузия «Weg zur Gewissheit und Zuverlässigkeit der menschlichen Erkenntniss»
(Logik), Leipzig, 1747. — 267.
6 Хатчесон (Hutcheson, Francis, 1694—1746) — английский моралист и эстетик, ученик Шефтсбери, стремившийся обосновать на принципе интуиции учение о нравственности и прекрасном. — 275.
УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСПИСАНИИ ЛЕКЦИЙ НА ЗИМНЕЕ ПОЛУГОДИЕ 1765/66 г.
«М. Immanuel Kants
Nachricht von der Einrichtung seiner Vorlesungen in dem Winterhalbenjahre von
1765—1766».
Время написания этого сочинения определяется из самого его названия.
Все свои лекции, по свидетельству его слушателей и современников, Кант строил по своей оригинальной программе, привлекая новый и обширный материал. Лекции по физической географии он начал читать в 1756 г. и объявлял их в течение профессорской деятельности 47 раз. Затем с 1767 по 1788 г. Кант 9 раз читал лекции по естественному праву. С 1770 г. Кант начинает чтение лекций по логике и читает их 54 раза. С 1772 г. начинаются и лекции по метафизике, которые объявлялись 49 раз. Также с 1772 г. Кант начал чтение лекций по антропологии, которые объявлялись им 24 раза. Чтение лекций Кант прекратил летом 1796 г., когда почувствовал себя уже не в силах их вести.
1 Кант имеет в виду свое «Исследование
степени ясности принципов естественной теологии и морали». — 283.
2 Теренций (Terentius, Publius аfer, ок.
190—159 до н. э.) — римский комедиограф. Кант приводит слова из его комедии «Сам
себя наказывающий». — 289.
ГРЕЗЫ ДУХОВИДЦА, ПОЯСНЕННЫЕ ГРЕЗАМИ МЕТАФИЗИКИ
«Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der
Metaphysik».
Сочинение, написанное в конце 1765 г. и направленное против мистика Сведенборга, первоначально вышло анонимно, но авторство скоро было открыто, так как Кант не слишком старался сохранить свое инкогнито.
Сведенборг (Swedenborg, Emanuel, 1688—1772), сначала довольно крупный естествоиспытатель, в возрасте 57 лет объявил себя «духовидцем», способным непосредственно созерцать
481
мир «духов», и на основе своих «откровений» дал новое мистическое толкование первых книг Библии. Его мистическая система устанавливала существование трех областей бытия: рая, образуемого добродетельными человеческими «духами»; ада, состоящего из себялюбивых «духов», и промежуточного мира существ, не определившихся в добре или зле. Материальный мир рассматривался им как призрачный, и все явления в нем — как определяемые миром «духов». Выходило так, что вся Вселенная состоит из человеческих «духов», которые подчинены единому божеству — Христу, соединяющему в себе троицу христианской религии. Сведенборг всерьез и подробно рассказывал о своих беседах с «духами» других планет, о своем присутствии при одном из судов божества над «духами» и т. п.
1 Кант имеет в виду
Баумгартена, его «Metaphysica», § 742 и сл., а также Дарьеса (Daries) с его сочинением
«Elementa
metaphysices». — 298.
2 Подразумевается, в частности, Дарьес, в
сочинении которого «Psychologia rationalis» (§ 103,
Coroll.) находим и положение, приводимое Кантом: «Totam аnimam in toto corpore
3 Кант цитирует здесь сочинение Бургава «Elementa chemiae»,
1732, vol. I, p. 64. — 308.
4 Шталь (Stahl, Georg Ernst, 1660—1734) — известный ученый, создавший в медицине учение об
анимизме, родоначальник витализма. Автор сочинений: «Theoria medica vera», Halae, 1708; «De vera diversitate corporis mixti et vi vi
… demonstratio», Halae, 1707. — 309.
5 Гофман (Hofmann, Friedrich, 1660—1742) — профессор
медицины, изобретатель получивших мировую известность «гофманских
капель».
— 309.
6 По вопросу об основах научного объяснения
органической жизни Кант занимает здесь колеблющуюся и даже двойственную
позицию. Высказываясь принципиально против всякой ссылки на нематериальные
начала, служащей «убежищем для ленивой философии», и, следовательно, по существу дела
отказываясь от объяснения явлений органической жизни из нематериальных начал,
он в то же время склонен — в целях лучшего, как он думает, понимания изменений
животной жизни — признать относительную правоту и за Шталем, который в
противоположность Гофману и Бургаву объяснял эти изменения творческими воздействиями
«нематериальной
души». — 309.
7 Имеется в виду, по-видимому, Дарьес, Эмпирическая психология, § 26, и, быть может, также Баумгартен. — 316.
8 Приводимая Кантом цитата
есть изречение не Аристотеля, а Гераклита. См. Дильс, фрагмент 89: «У бодрствующих
один общий мир, из дремлющих же каждый обращается [только] к своему
собственному». — 320.
9 Под философом, который «отдает предпочтение порядку вещей, построенному Вольфом не столько из эмпирического
482
материала, сколько из хитростью приобретенных понятий», Кант понимает здесь не какого-нибудь одного определенного философа, а любого из правоверных вольфианцев, кроме Крузия, Кнутцена и некоторых других, которые были уже отчасти противниками Вольфа. — 321.
10 Говоря об изречениях о мыслимом и немыслимом, Кант имеет в виду учение о познании бытия и о методе философского познания, изложенное Крузием в трех его сочинениях: «Entwurf der notwendigen Vernunftwahrheiten etc.», Leipzig, 1745 («Metaphysik»); «Weg zur Gewissheit und Zuverlässigkeit der menschlichen Erkenntnis», Leipzig, 1747 («Logik»); «Anleitung, über natürlichе Begebenheiten ordentlich und vorsichtig nachzudenken», Leipzig, 1749 («Physik»). Для Крузия характерно противопоставление интуиции (немыслимого) проторенным путям рассудочного познания (мыслимому). — 321.
11 Имеются в виду так называемые животные духи, о которых говорит Декарт (см. прим. 10 на стр. 489). — 324.
12 Гудибрас — герой одноименного сатирического стихотворения английского роялиста Сэмуэля Батлера (Butler, Samuel, 1612—1680) в 9 песнях, направленного против пуритан и индепендентов времени Карла I. Кант ссылается на немецкий перевод этого сочинения, напечатанный в Гамбурге и Лейпциге в 1765 г., стр. 292—293. — 328.
13 Здесь уже явственно звучит мотив агностицизма, который развит Кантом в «Критике чистого разума» и который в более ранних его сочинениях лишь намечается. — 331.
14 Артемидор из
Эфеса (конец II в. до н. э.) написал книгу «’Ονειροχριτιχός» («Толкователь
снов»). —
337.
15 Филострат из Самоса (210—240) — софист, написал биографию Аполлония Тианского. — 337.
16 Аполлоний Тианский (I век) — неопифагореец, имел славу мага и прорицателя. — 337.
17 Имеется в виду «Неистовый Роланд» Ариосто (песнь 34, строфа 67 и сл.). — 340.
18 Имеется в виду Liskow, Sammlung satyrischer und ernsthafter Schriften, Frankfurt u. Leipzig, 1739. — 340.
19 Звериное число — 666. — 340.
20 Эрнести (Ernesti, Johann аugust), издатель «Neue theologischе
Bibliothek», Leipzig, 1760. — 340.
21 В данном месте Кант говорит о возможности двоякого понятия метафизики; первое значение этого понятия касается содержания метафизики как учения о бытии. В этом своем значении метафизика, по Канту, может быть лишь проблематическим знанием. Второе значение понятия метафизики касается уже не только содержания метафизического познания, но преимущественно его метода. В этом истолковании понятия метафизики ярко выступает агностицизм Канта: по Канту, метафизика должна стать прежде всего наукой о границах человеческого разума и должна больше заботиться о сохранении этих границ, чем о завоевании новых областей. — 349.
483
22 Это отрицание Кантом
возможности рационального доказательства существования причинности идет от
критики причинности у Юма,
агностическая теория познания которого оказала
большое влияние на автора «Критики чистого разума». Духом агностицизма
проникнуто также мимоходом брошенное здесь утверждение Канта, будто проблема
причинности или силы вообще не
подлежит решению при помощи разума и будто
эти отношения ограничиваются миром явлений, «опытом». — 351.
23 Здесь опять сказалось влияние Руссо на
Канта (в признании естественного нравственного закона у людей). — 355.
ПИСЬМО О СВЕДЕНБОРГЕ К ФРЕЙЛЕЙН ШАРЛОТТЕ ФОН КНОБЛОХ
Знакомая Канта Шарлотта фон Кноблох обратилась к нему с просьбой дать оценку деятельности Сведенборга. Это уже было после того, как Кант познакомился с рассказами о «чудесных» видениях Сведенборга. Биографы Канта датируют его письмо к фон Кноблох по-разному. Куно Фишер довольно убедительно доказывает, что письмо относится к 1763 г.
1 Шлегель (Schlegel, Gottlieb, 1739—1810) — профессор теологии и проректор университета в Грейфсвальде. — 357.
ПИСЬМО К МОИСЕЮ МЕНДЕЛЬСОНУ
Мендельсон (Mendelssohn, Moses, 1729—1786) — представитель философии немецкого Просвещения, идеалист, автор весьма популярных в его время сочинений «Phädon» (1767), «Morgenstunden» (1785) и др., посвященных главным образом доказательству бессмертия и бытия бога. Кант высоко ценил Мендельсона и поддерживал с ним переписку по самым важным философским вопросам. Эта переписка началась в 1766 г.; в 1777 г. Мендельсон посетил Канта в Кёнигсберге и присутствовал на его лекциях. Кант в переписке с Мендельсоном пытался уточнить характеристику своей философии, особенно ее взаимоотношений с метафизикой, которая наиболее интересовала Мендельсона.
Одной из постоянных тем кантовской мысли было все вновь возобновляемое им обсуждение проблемы о связи и взаимоотношении чувственно воспринимаемого и умопостигаемого мира. В целом ряде писем Канта (к Линднеру, Гердеру, Мендельсону, Герцу и др.) можно проследить развивающийся (вплоть до 1776 г.) интерес Канта к этой проблеме. Этой же проблемы касался Кант и в письме к Мендельсону от 8 апреля 1766 г.
1 Под небольшим сочинением
Кант имеет в виду пересланные им Мендельсону «Грезы духовидца, поясненные грезами метафизики». — 363.
484
2 Выражение «stultitia caruisse» взято Кантом из «Посланий» Горация: «Virtus est Vitium fugere et sapientia prima stultitia caruisse» («Шаг к добродетели первый — стараться избегнуть порока, к мудрости — глупость отбросить». Гораций, Полн. собр. соч., аcademia, M. — Л., 1936, стр. 286). — 365.
3 По мнению Канта,
разоблачение тщеты и ложности догматической метафизики имеет прежде всего
отрицательную (негативную) пользу, устраняя с пути научного исследования
преграду предвзятых мнений и мнимых истин. Это разоблачение имеет также и
положительное значение, так как ум, очищенный от ошибок и заблуждений, может воспользоваться
затем разработанным орудием научного познания, для того чтобы воздвигнуть
здание метафизики как науки. Таким орудием стала для Канта впоследствии (1781)
его «Критика
чистого разума», которая вместе с «Пролегоменами» мыслилась им также и как пропедевтика «ко
всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в качестве науки». — 365.
О ПЕРВОМ ОСНОВАНИИ РАЗЛИЧИЯ СТОРОН В ПРОСТРАНСТВЕ
«Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im Räume».
Каких-либо определенных данных или указаний на конкретные условия возникновения этого сочинения не имеется.
1 Эту мысль Бургав высказывает в своей книге «Elementa chemiae», I, p. 2. — 371.
2 аnalysis situs — «геометрия положения» — отрасль математики, созданная Лейбницем и Эйлером и получившая впоследствии большое развитие под именем топологии. аnalysis situs исследует такие вопросы геометрии, для решения которых нет необходимости измерять входящие в исследование величины. Теоремы «геометрии положения» отличаются от теорем обыкновенной геометрии «тем, что они являются чисто качественными, и тем, что они остались бы справедливыми, если бы фигуры копировались неискусным чертежником, который бы грубо изменял их пропорции и заменял прямые линии более или менее кривыми» (Анри Пуанкаре, Наука и гипотеза, М., 1904, стр. 44). Так, Эйлер показал, что в произвольно выбранном сомкнутом многограннике, несмотря на произвольность его формы, т. е. произвольность числа его граней и произвольность вида плоских многоугольников, образующих его грани, существует замечательное, не зависящее от вида многогранника соотношение между числом а ребер, числом F граней и числом S вершин многогранника, а именно: а + 2 = F + S (см. Д. Граве, Энциклопедия математики, Киев, 1912, стр. 315—316). — 371.
3 Под понятием «абсолютного мирового пространства» Кант мыслит здесь, следуя Ньютону и в противоположность Лейбницу, пространство не в смысле системы пространственных
485
отношений, т. е. не как «систему мест» (Stellensystem), а как единую, абсолютно реальную сферу, в которой отдельные отношения пространства и его положений могут существовать как в некоторого рода абсолютном вместилище. — 372.
4 Эйлер выступил против господствовавших ньютоновских воззрений на пространство и движение. Он исходил из несостоятельности ньютоновской теории света как «истечения» частиц в абсолютной пустоте и доказывал необходимость признания заполненности мирового пространства тончайшей материей, эфиром, придерживаясь волновой теории света. Различными формами движения в эфире Эйлер пытался объяснить также явления электричества, магнетизма, теплоты, тяготения.
Говоря о сочинений Эйлера, Кант имеет в виду его «Réflexions
sur l’espace et le temps». — 372.
5 Кант имеет в виду сочинение Мариотта «De la nature de l’air». — 375.
6 Уллоа (Ulloa, don аntonio de, 1716—1795) —
испанский морской офицер, член Королевского общества Англии. Автор книги «Relation
historica del viage а la аmerica meridional». — 375.
7 Борелли (Borelli, Giovanni аlfonso, 1608—1679) — известный итальянский физик, автор корпускулярной теории и физической теории спутников Юпитера. Пытался применить принципы математики для объяснения физиологии животных. — 375.
8 Боннэ (Bonnet, Charles, 1720—1793) — швейцарский зоолог, ботаник и философ. — 375.
О ФОРМЕ И ПРИНЦИПАХ ЧУВСТВЕННО ВОСПРИНИМАЕМОГО И УМОПОСТИГАЕМОГО МИРА
«De mundi sensibilis аtque intelligibilis forma et principiis. Dissertatio pro loco
professionis log. et metaph. Ordinariae rite sibi vindicando, quam exigentibus
statutis аcademicis publice tuebitur Immanuel Kant. Respondentis munere fungetur Marcus Herz,
Berolinensis, Gente iudaeus, medicinae et philosophiae cultor, contra
opponentes Georgium Wilhelmum Schreiber, Reg. Bor. аrt. Stud. Iohannem аugiistum Stein, Reg. Bor. I U. C. et
Georgium Danielem Schroeter, Elbing. S. S. theol. C. in аuditorio maximo horis matutinis et p
486
аудитории в обычные утренние и
послеобеденные часы 21 августа 1770 года»).
Диссертацию предваряет следующее посвящение: «Августейшему,
светлейшему и самодержавнейшему королю и государю господину Фридриху, королю
прусскому, маркграфу Бранденбургскому, имперскому архикамерарию и великому
герцогу Силезскому, и пр., и пр., и пр. Отцу отечества, кротчайшему королю и
государю своему всемилостивейшему, этого первенца доверенной ему должности
благоговейно посвящаю, верноподданнейший Иммануил Кант».
31 марта 1770 г. Канту, тогда приват-доценту Кёнигсбергского
университета, была предоставлена ординарная профессура логики и метафизики. В
письме к Иоганну Ламберту от 2 сентября 1770 г. Кант по поводу взглядов,
выраженных в диссертации, пишет: «Уже год, как я пришел к этим взглядам». Хотя при этом Кант и
упоминает «утомительную академическую работу» как мешавшую его творческой работе, однако
ясно видно, что тема диссертации была для него в основном совершенно
продуманной еще за год до ее защиты. Уже в сентябре 1770 г., т. е.
непосредственно после защиты диссертации, Кант думал пополнить ее несколькими
печатными листами, чтобы по возможности устранить недостатки, обусловленные
спешностью ее написания, и лучше выразить основной смысл ее содержания в целом;
в особенности разделы второй, третий и пятый он считал заслуживающими более
подробной и тщательной разработки. В июне 1771 г. Кант занят более радикальным
планом уже не частичной переработки, а полной замены диссертации совсем новым сочинением
под заглавием: «Границы чувственности и разума».
Марк Герц, рецензировавший диссертацию Канта, написал о ней
нечто вроде ее комментария (около 150 страниц) под заглавием «Betrachtungen аus der
spekulativen Weltweisheit» («Рассуждения из области умозрительной философии»), Königsberg, 1771.
1 Под понятием «актуального
математического бесконечного» в данном контексте следует, по-видимому,
разуметь: «непрерывно все дальше и дальше продолжающийся процесс синтеза
математической величины». Будучи ограничен человеческим рассудком
(интеллектом), процесс этот, по Канту, фактически никогда не может быть
завершен и, следовательно, не может стать предметом обозрения в целом. И все же
существует, по его мнению, само по себе некоторое бесконечное целое, доступное,
быть может, для рассудка абсолютного, следовательно, нечеловеческого, т. е. для
рассудка, «который мог бы одним взором ясно обозревать множество без
последовательного приложения меры». Ср. Kant,
Handschriftlicher Nachlass, Bd. XVII, аk. аusg. — 384.
2 Под «материей в трансцендентальном смысле» Кант идеалистически понимает здесь материю, мыслимую не как абстракция от эмпирических данных природы, а как сверхчувственная субстанциальная основа чувственно воспринимаемого внешнего
487
мира. Ср. Kant, Handschriftlicher Nachlass, Bd. XVII, аk. аusg. — 386.
3 Под чувственностью Кант понимает здесь способность познающего субъекта иметь дело с предметами, как они даются познающему субъекту, через посредство впечатлений, производимых на него воздействием объектов. Непосредственным объектом чувственности всегда служит нечто чувственное, некоторый результат действия или явление (феномен) объектов. При этом, однако, Кант, в отличие от того, что впоследствии было развито им в «Критике чистого разума», почти не касается вопроса о том, каким образом из разрозненных чувственно данных впечатлений складывается восприятие целостного объекта как явления. «Чувственность» оказывается здесь у Канта не только отличной от рассудка по своей функции, но и совершенно оторванной и изолированной от него. В диссертации нет еще характерного для «Критики чистого разума» учения о схематизме категорий, нет и учения о синтетических принципах рассудка как основном условии возможности научного познания природы. Проводимое Кантом различение чувственности и рассудка ставится под влиянием Платона в параллель и даже в зависимость от деления бытия на мир феноменов, познаваемый посредством чувственности, и мир ноуменов, познаваемый рассудком через посредство «интеллектуального созерцания». Дуализму двух миров соответствует, таким образом, дуализм также и двух родов, или способов, познания. — 389.
4 Термином «умопостигаемое» Кант в диссертации 1770 г. пользуется прежде всего для обозначения того особого мира, который в отличие от чувственно воспринимаемого мира феноменов, или явлений, может познаваться только чистой деятельностью рассудка. Умопостигаемыми оказываются в диссертации 1770 г. не только сверхчувственные вещи (ноумены), но и постигающие их, от всякой чувственной примеси освобожденные категории, которые именно в силу этой своей несмешанности ни с чем чувственным и получают значение и название идей в более или менее точном соответствии этого термина с тем, что под идеями понимал Платон.
В ином смысле понимается этот термин в позднейшей трансцендентальной философии Канта, начиная с «Критики чистого разума» (1781 г.).
Что касается роли, которую рассудок и разум играют в познании умопостигаемых объектов, то в диссертации 1770 г. сколько-нибудь четкое различие между рассудком и разумом отсутствует. — 390.
5 Это понимание метафизики Кант положил в основу всего последующего, так называемого критического периода. — 393.
6 Под «эмпирической психологией» Кант понимает здесь науку о явлениях внутреннего опыта. С конца 70-х годов XVIII в. Кант уже решительно отрицал возможность такой «науки» на том основании, что к явлениям внутреннего чувства, поскольку они берутся вне связи с пространством и миром
488
внешних явлений, не приложимы ни категория субстанции, ни категория причинности. — 396.
7 Полное заглавие сочинения
Кестнера гласит: «Anfangsgründe der höheren Mechanik, welchе von der Bewegung
fester Körper besonders die praktischen Lehren enthalten», Göttingen, 1766. Место, о
котором речь идет в диссертации Канта, находится в третьем разделе, стр.
353—354, и гласит: «Закон непрерывности в геометрии неуклонно принимается во внимание
при кривых линиях; но может ли он быть удержан также и для прямолинейных фигур?
Если безусловно невозможно, чтобы точки внезапно изменяли свой путь, то ни одна
точка не может двигаться по линиям, обозначающим объем (in dem Umfange) четырехугольника или
треугольника. Поэтому если закон непрерывности подвержен в геометрии столь
большим исключениям, то уже одно это может вызвать сомнение, является ли он
также совершенно всеобщим и в механике?» — 399.
8 Время, как и пространство, не есть, по Канту, эмпирическое или общее (абстрактное) понятие, а необходимое представление а priori. — 402.
9 Это утверждение Канта о том, что «по отношению ко всему чувственно воспринимаемому» пространство «в высшей степени истинно», имеет здесь тот смысл, что пространство, по Канту, составляет необходимое условие возможности всех чувственных явлений и даже всякого вообще внешнего восприятия. Понятия пространства и времени рассматриваются здесь главным образом как условия возможности всеобщего и необходимого познания особого рода предметов в геометрии, арифметике и механике. — 406.
10 Под предустановленной гармонией Лейбниц, автор этой гипотезы, понимал взаимную согласованность рядов представлений в каждой монаде, которую могло создать только божество, поскольку действовать друг на друга монады, по учению Лейбница, не могут. При посредстве этой гипотезы Лейбниц надеялся разрешить проблему взаимодействия между душой и телом более удовлетворительным образом, чем его предшественник Декарт, а также представители окказионализма. Согласно лейбницевской гипотезе предустановленной гармонии, физические и душевные процессы должны так же строго соответствовать друг другу, как показания времени на хорошо устроенных и одновременно заведенных часах.
Под окказионализмом понимается учение о так называемых случайных причинах, возникшее из попыток решения проблемы о взаимодействии души с телом. Если Декарт пытался решить эту проблему допущением «жизненных духов», действующих в крови, и действиями «духа» на шишковидную железу, то окказионалисты (Гейлингс и Мальбранш) вовсе отказались от идеи взаимодействия как несогласной с дуализмом субстанций и учили, будто существование душевных или телесных процессов является для бога только поводом вызывать соответствующие движениям тела представления в душе или соответствующие представлениям души движения в теле. — 412.
489
11 Учение о физическом
влиянии — influxus physicus (подразумевается влияние тела и души друг на друга)
— было первоначально сформулировано некоторыми схоластиками и развито затем
Декартом. Сущность этого учения состояла в признании непосредственного
воздействия одних субстанций на другие вследствие первоначального объединения
всех их в одной универсальной субстанции (божестве). Кант дал следующее выражение
этому принципу взаимодействия субстанций: «Всякое действие и противодействие отличных
друг от друга субстанций возможно только постольку, поскольку многое образует
единство, без чего состояние одного не может иметь отношения к состоянию
другого; и два противоположных определения противоречат друг другу только
постольку, поскольку они находятся в одном; если бы, таким образом, ряд субстанций
не был соединен в единство, то никогда бы состояние одной не противоречило
состоянию другой» (Kant, Handschriftlicher Nachlass, Bd. XVII, аk. аusg.). — 412.
12 Кант имеет здесь в виду то, что впоследствии (в «Критике чистого разума») было им определено как первая и вторая космогонические (математические) антиномии, связанные с понятием величины мира.
Проблема этих антиномий занимала Канта с давних пор. С особенной силой она встала перед Кантом в 1769 г., когда он пришел к убеждению в существенном различии между чувственным и рассудочным познанием. Окончательная формулировка Кантом всех четырех антиномий (двух математических и двух динамических) сыграла важную роль в возникновении его учения о различии между явлениями и вещами в себе, учения, лежащего в основе всего здания его трансцендентальной философии. — 420.
ПИСЬМО К МАРКУ ГЕРЦУ
Знакомство Канта с врачом и философом Марком Герцем (Herz, Marcus, 1747—1803) началось в 1770 г., когда тот выступил в качестве рецензента при защите Кантом диссертации «О форме и принципах чувственно воспринимаемого и умопостигаемого мира». Затем Герц переехал в Берлин, где его дом стал литературным центром. Переписка его с Кантом началась в том же 1770 г. Письма Канта к нему дают некоторые сведения о ходе подготовительных работ Канта к «Критике чистого разума», которую он мыслил как продолжение диссертации. Герц, поклонник Лессинга, в своей работе «Versuch über die Ursachen der Verschiedenheit des Geschmacks» (Mitau, 1776) приравнял Канта к Лессингу, но Кант остался этим недоволен. Кант написал Герцу наибольшее количество писем — двадцать одно.
1 Под «intellectus аrchetypus» Кант понимает такой рассудок (интеллект), понятия которого являются не отображениями (ectypa), а первообразами предметов (archetypa), следо-
490
вательно, творческий, непосредственно созерцающий, божественный рассудок в противоположность человеческому, ограниченному, всегда дискурсивному рассудку. Под «intellectus ectypus» Кант понимает такой рассудок, понятия которого являются всего лишь отображениями познаваемых предметов. Это обычный человеческий дискурсивный рассудок, способный к познанию только явлений, но не вещей в себе. — 430.
2 Имеется в виду «De la recherchе de la vérité» Мальбранша, кн. III, гл. 6 и 7. — 432.
3 О правилах суждения Крузий
говорит в своем сочинении «Weg zur Gewissheit und Zuverlässigkeit der
menschlichen Erkenntnisse 2. аufl., Leipzig, 1762, § 431, 432. — 432.
4 «Deus ex machina» — термин средневековой схоластики, служивший для обозначения внезапной высшей (божественной) причины, недоступной предвидению и действующей в нарушение всех естественных условий и законов. Первоначальный смысл этого термина можно найти уже в теории древнегреческой драмы о естественном развитии действия и его художественно неправомерных нарушениях, которые и разумелись под этим термином. — 432.
5 Шульц (Schultz, Johann, 1739—1805) — пастор в Лёвенхаге около Кёнигсберга, написал отзыв на диссертацию Канта, опубликованный в «Königsbergiscне gelehrte und politiscне Zeitungen» от 22-го и 25-го ноября 1771 г. — 434.
РЕЦЕНЗИЯ
НА СОЧИНЕНИЕ МОСКАТИ «О СУЩЕСТВЕННОМ РАЗЛИЧИИ В СТРОЕНИИ ТЕЛА ЖИВОТНЫХ
И ЛЮДЕЙ»
«Recension von Moscatis Schrift: Von dem körperlichen wesentlichen
Unterschiede zwischen der Structur der Thiere und Menschen».
Статья была напечатана анонимно 23 августа 1771 г. в «Königsbergischе gelehrte und politischе Zeitungen», No. 67. Авторство Канта подтверждается рукописным примечанием Крауса (Kraus, Christian Jacob, 1753—1807), ученика и друга Канта, к речи теолога Вальда (Wald, Samuel Gottlieb, 1762—1828), посвященной памяти Канта (см. Reicke, Kantiana, 1860), где на стр. 66—68 была впервые перепечатана и сама рецензия.
О РАЗЛИЧНЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РАСАХ
«Von den verschiedenen Racen der Menschen».
Статья эта появилась первоначально как уведомление о расписании лекций Канта в Кёнигсбергском университете по физической географии на летний семестр 1775 г. В дальнейшем Кант нашел нужным подвергнуть статью переработке и поместил ее в новом, расширенном виде во второй части издававшегося И. Я. Энгелем журнала «Der Philosoph für die Welt» (1777 г.). Сочинение Канта о расах является предметом ожесточенных нападок реакционеров, которые не могут простить Канту его
491
мысли об общем и едином для всех людей и наций происхождении.
1 Этот
принцип сформулирован Бюффоном в его «Histoire naturelle: histoire de l’âne», Ed. par C. S. Sonnini, Paris, 1808, XXII, p. 279. — 445.
2 В определение понятия расы Кант, по-видимому под влиянием научных идей XVIII в. (развитых в сочинениях Бюффона, Мопертюи, отчасти также Вольтера и др.), ошибочно вводит здесь признак таких видоизменений, которые, в какие бы местности они ни были переселены, сохраняют свои отличительные черты. Представление о таких неизменно сохраняющихся видоизменениях, как некоторая устойчивая основа для образования расы, современной наукой отвергается как несогласное с данными опыта и с теорией дарвинизма. См. об этом подробнее Ernst Haeckel, Natürlicне Schöpfungs-Geschichte, Berin, 1889, лекции I, XV, особенно VIII, IX. — 446.
3 Упоминаемое Кантом мнение
Мопертюи высказано в «Systeme de la nature, thèse LVI, Oeuvres, Lyon,
1756, II, 159. — 448.
4 Нибур (Niebuhr, Garsten, 1733—1815) — отец известного историка, совершил по поручению Датского общества (1761—1767) большое путешествие по Аравии, которое он и описал затем в 1772—1778 гг. — 448.
5 Американцами Кант называет индейцев, древнейшее коренное население Америки. — 450.
6 Положение Канта о «предуготовленности» результатов
органического развития есть ошибочная метафизическая идея, отразившая влияние
преформистских теорий XVIII в. (Галлера, Боннэ, Готье, Мопертюи и др.), от
которого Кант не был свободен, несмотря на тенденцию к признанию теории
трансформизма и даже заметные у него зачатки ее развития. Ср. особенно
сочинение Канта 1788 г. «Ueber den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der
Philosophie», первоначально напечатанное в «Wieland's teutscher Merkur», Januar und Februar
1788, S. 36—52 u. 123—136. — 452.
7 Кранц (Cranz, David, 1723—1777) — путешественник,
пробыл в течение года в Гренландии, которую описал в своем сочинении «Historie von
Grönland», Leipzig, 1765. — 453.
8 Дегинь (Deguignes, Joseph, 1721—1800) — французский
ориенталист, автор «Histoire générale des Huns», Paris, 1756. — 455.
9 Айвес (Ives, Edward, ум. 1786) — английский корабельный врач, совершил путешествие по Индии и Персии, которое он описал в 1773 г. — 457.
10 Парсы — племя иранского происхождения, представители которого живут преимущественно в Индии и Персии. Кант имеет здесь в виду персидскую ветвь парсов. — 458.
11 В естественнонаучных работах Канта его метод научного исследования природы состоит в том, чтобы по возможности избегать при объяснении явлений природы понятия цели и давать строго причинное объяснение. Но совсем элиминировать это понятие Кант все же не считал возможным, допуская его даже и в своих натурфилософских сочинениях как «предна-
492
чертание рока», или надмирового разума. Впоследствии (особенно в «Критике способности суждения», 1790 г.) понятие цели у Канта выдвигается на первое место. — 468.
12 Бюаш (Buache, Philippe, 1700—1773) — видный французский географ. — 461.
ДВЕ СТАТЬИ
ОТНОСИТЕЛЬНО «ФИЛАНТРОПИНА»
Статьи эти хронологически (1776—1777) следуют за сочинением Канта «О различных человеческих расах» и посвящены возникшему тогда отчасти благодаря влиянию педагога Базедова (Basedow, Johann Bernhard, 1723—1790) движению за реформу педагогического дела в Европе.
Известно увлечение Канта романом Руссо «Эмиль» (1762), посвященным вопросам воспитания. Горячий интерес Кант проявил также и к первому возникшему в Германии на новых принципах педагогическому институту «Филантропину», учрежденному Базедовым в 1774 г. в Дессау.
Кант старался поддержать своим влиянием и рекомендациями вновь возникшее учебное заведение, с духом и принципами воспитания которого он был вполне согласен. Первая статья Канта о «Филантропине», первоначально вышедшая анонимно в «Königsbergischе gelehrte und politischе Zeitungen» от 28 марта 1776 г., не имела успеха, и институт продолжал испытывать серьезные материальные затруднения. Это побудило Канта через год (27 марта 1777 г.) выступить со второй статьей, подписанной буквой К. Но и вторая статья Канта имела лишь весьма незначительный успех. Однако интерес Канта к вопросам о целях и форме воспитания не ослабевал и в дальнейшее время. В Кёнигсбергском университете Кантом был прочитан не менее четырех раз (зимой 1776/77 г., летом 1780, зимой 1783/84 и зимой 1786/87 г.) курс практической педагогики.
1 Имеется в виду Базедов с
его идеей «Филантропина». — 466.
2 Кант имеет в виду принца Леопольда фон
Ангальт-Дессау, который, увлеченный идеями Базедова, пригласил его в Дессау для
создания «Филантропина». — 466.
3 Мангельсдорф (Mangelsdorf, Karl Ehreggott, 1748—1802) — в средине 70-х годов преподаватель «Филантропина», позднее профессор риторики и истории в Кёнигсберге. — 469.
4 Имеется в виду «Königsbergiscне gelehrte und politiscне Zeitungen» от 13 марта 1777 г. — 470.
5 «Педагогические беседы» — «Pädagogischе Unterhandlungen» — периодическое издание, выходившее в Дессау (1777—1779) под редакцией И. Б. Базедова и И. Г. Кампе (Campe, Joachim Heinrich, 1746—1818). — 470.
6
Бюшинг (Büsching, Аnton Friedrich, 1724—1793) — геолог, географ и статистик.
В 1773—1787 гг. издавал в Берлине еженедельник «Wöchentliche Nachrichten
von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und historischen
Büchern und Sachen». — 470.
![]()
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Августин, Аврелий 255
Айвес, Эдвард 457
Александр Македонский 41, 187, 230
Альгаротти, Франческо 153
Антисфен 223
Аполлоций Тианский 337
Ариосто, Людовико 340
Аристид 236
Аристотель 121, 190, 320, 432
Артемидор из Эфеса 337
Базедов, Иоганн Бернард 465—467, 469
Баумгартен, Александр Готлиб 48, 283, 286, 435
Бейль, Пьер 128
Бекман, Иоганн 439
Бель, Матиас 102
Боннэ, Шарль 375
Борелли, Джованни Альфонсо 375
Браге, Тихо де 320
Бургав, Герман 102, 308, 309, 371
Бюаш, Филипп 461
Бюффон, Жорж Луи Леклерк 162, 371, 445
Бюшинг, Антон Фридрих 470
Варбертон, Уильям 254
Вергилий 133, 136, 306, 332, 339, 348
Вольтер, Франсуа Мари (Аруэ) 355, 458
Вольф, Христиан 48, 247, 320, 393, 411
Галилей, Галилео 104
Галлер, Альбрехт 53, 131
Ганвей, Джонас 133
Ганнибал 211
Гераклит 137
Герике, Отто 104
Геродот 455
Герц, Марк 427
Гольберг, Людвиг 232
Гомер 133, 136
Гораций, Квинт Флакк 291, 337
Гофман, Фридрих 309
Гюйгенс, Христиан 104
Д’Аламбер, Жан 173
Дасье,
Дегинь, Жозеф 455
Декарт, Рене 153, 303, 324
Демокрит 349
Диоген Синопский 349
Домициан, Тит Флавий 128
Евклид 281
Зенон 223
Зульцер, Иоганн 367, 436
Иоанн Лейденский 236
Исократ 289
Карл XII 148
Картезий см. Декарт
Катон Утический 147, 188
494
Кеплер, Иоганн 128
Кестнер, Абрахам Готгельф 84, 399
Кинеад 231
Клавий (Шлюссель, Христофор) 228
Клопшток, Фридрих 136
Кноблох, Шарлотта фон 355
Кранц, Давид 453
Кромвель, Оливер 131
Крузий, Христиан 69, 70, 83, 84, 122, 267—269, 321, 432
Лаба, Жан Батист 181
Лабрюйер, Жан де 132
Ламберт, Иоганн Генрих 434, 436
Лейбниц, Готфрид Вильгельм 41, 44, 118, 247, 304, 305, 318, 371, 399, 401, 405
Ликург 180
Лисков, Христиан Людвиг 340
Лукреций, Тит Kap 243
Мальбранш, Никола 413, 431
Мангельсдорф, Карл Эрегот 469
Мариотт, Эдм 375
Мейер, Георг Фридрих 48, 286
Мендельсон, Моисей[29] 361, 434, 436
Мильтон, Джон 128, 132, 136
Монтескье, Шарль Луи 173
Мопертюи, Пьер Луи Моро 96, 308, 448
Москати, Петер 437, 439
Мушенбрук, Питер ван 100
Надир-шах 133
Нерон 231
Нибур, Карстен 448
Ньютон, Исаак 83, 103, 104, 154, 213, 222, 245, 257, 260, 313, 401
Овидий, Публий Назон 136
Орбиль, Пупилль 228
Пирр 231
Пиррон 230
Платон 395, 417, 431
Полибий 281
Поп, Александр 54, 213
Реймарус, Герман Самуэль 107
Рейнгард, Адольф Фридрих 44
Ричардсон, Семуэль 190
Руссо, Жан-Жак 172, 190, 192, 194, 197, 198, 205, 213, 236, 439
Сведенборг, Эммануэль 333—335, 337, 339—347, 355—359, 364, 367
Свифт, Джонатан 241
Сенека, Люций Эней 190
Сен-Жермен, Клод Луи 357
Сервантес, Мигуэль 190
Симонид 119, 166
Сократ 216, 350
Соваж де ла Круа, Франсуа Буассье 263
Стагирит см. Аристотель
Теофраст 207
Террасон, Жан 239
Теренций, Публий Афер 289
Теске, Иоганн Готфрид 56
Торичелли, Еванджелиста 104
Уллоа, Антонио де 375
Филострат из Самоса 337
Фонтенель, Бернар ле Бовье де 153, 336
Функ, Иоганн Даниэль 56
Функ, Иоганн Фридрих фон 49, 56
Хассельквист, Фридрих 130
Хатчесон, Френсис 275, 286
Хогарт, Уильям 135
Шатле, Габриель дю 153
Шефтсбери, Антони Эшли Купер 286, 395
Шлегель, Готлиб 357
Шталь, Георг Эрнст 309
Шульц, Иоганн 434
Эйлер, Леонард 82, 372, 373, 418, 424
Эпиктет 148, 236
Эпикур 223, 394, 423
Эпинус, Франц Ульрих 101, 102, 104
Эрнести, Иоганн Аугуст 340
Юм, Давид 179, 222, 286
Юнг, Эдуард 132
Якоби, Иоганн Фридрих 102
![]()
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ*
Абстракция 82, 262, 296, 373
Аксиома 257, 402, 406, 414—416, 422, 423
— подставная 416, 417, 420, 421
— созерцательная 414
— чувственная 417
— геометрии 403, 405
— чистого разума 431
Акциденция 386, 400, 401, 404, 407, 421
Алгебра 265
Анализ 384, 434
Аналогия 119, 272, 298—300, 315, 317
Арифметика 397
— предмет 253
— общая 248, 253
— чисел 248
Бесконечное 385, 407, 412, 413, 418, 420
— определение 385
— математическое 384, 385
— одновременное 389
— последовательное 389
— и непрерывное 384
Бесконечность 51, 121, 389
— математическая 45
Бог 41—48, 61—63, 114, 119, 122, 130, 194, 195, 200, 212—214, 221, 270—272, 284, 315, 317, 394, 395, 411, 413, 418, 419, 430, 432, 458
— бесконечный 119
— вечность 317
— воля 115, 120—122, 215, 273, 275, 315
— доказательства его бытия 213
— дух 195
— понятие 41, 212
Бытие 271, 345
— действительное 298
— понятие 394
Вечность 131, 388, 389, 413, 422
Вещество 306
Взаимодействие 409, 410, 412
— идеальное, симпатическое 412
— реальное, физическое 412
— принцип 409
Возвышенное и прекрасное 127—183, 187, 188, 191, 197, 215, 279, 429
— и их мера 134 (см. чувство)
Возможность 262, 271, 298 —300, 353
— понятие 394
Возникновение 109, 111
— и исчезновение 105, 108
Воля 47, 214, 218, 219, 227, 229, 240, 312, 313, 326, 343, 351, 352
496
— общая 313
— свободная 314
— частная и всеобщая 314
Воображение 54, 105, 134, 187, 234, 296, 318, 319, 321, 322, 324, 325, 330, 385, 405, 417 (см. ощущение, представление)
Восприятие 149, 161, 180, 220, 233, 238, 260, 284, 324, 396, 404
— внешнее 403
— действительное и мнимое 327
— чувственное 232—234, 319, 321, 322, 389, 390, 406
— и представление 324 (см. ощущение)
Время 62, 63, 255, 262 , 317, 383, 389, 395, 396, 398—402, 407, 408, 413, 416—422, 434, 435
— бесконечное 317, 407, 413
— неизмеримое 398
— чистое 402
— вездесущность 401
— категория 435
— мера 401
— момент 399—401, 407, 413, 419
— объективная реальность 401
— понятие (идея) 246, 247, 251, 255, 388, 389, 396, 398—402, 407, 408, 413, 419, 420
— как формальный принцип мира феноменов 398, 402 (см. пространство)
Вселенная 112, 114, 118, 272, 301, 305, 306, 314, 338, 397,399,406,408,411—413, 420
— возраст 420
Всеобщность 388, 405, 411
— принцип 406
Гармония 150, 202, 212, 315, 366, 367, 411
— единично-установленная 412
— общеустановленная 412
— предустановленная 412, 432
География 374
— моральная и политическая 287
— физическая 48, 287, 462
Геометрия 82, 245, 247, 249, 253, 258, 261, 262, 265, 269, 281, 392, 393, 396, 403—406
Гилозоизм 308
Гипотеза 103, 245, 352, 406
— метафизическая 319
Движение 44, 82, 83, 85, 91—94, 106, 109, 111,113, 116, 122, 123, 351, 352, 373, 375, 400—402, 453
— непрерывное 400
— свободное (произвольное) 308, 309
— в нервной ткани 324
Дефиниция 246—248, 250—253, 255, 257, 260, 261, 264, 266, 270, 386, 388 (см. определение, понятие)
Добро 98, 120, 145, 190, 200, 201, 286, 448
— понятие 274
Добродетель 98, 99, 131, 136—139, 155, 158, 180, 191, 195, 199, 206, 213, 214, 227, 317, 354
— адоптированная 139, 141, 155
— домашняя 160
— истинная 138—141
— показная 145
— и вкус 208
Доказательство 63, 246, 252, 253, 260, 264, 269, 281, 293, 307, 321, 353, 367, 384, 404
— геометрическое 258
— математическое 248, 313
— круг в 63
— и недоказуемые положения 252, 253, 268, 270, 274
Долг 194, 195, 201, 203, 206, 214, 224, 313
— принцип 118
497
Долженствование 272
Дух 61, 62, 66, 67, 69, 70, 107, 117, 247, 266, 295—298, 301, 305, 306, 313, 314, 316, 325, 330, 342, 406
— бесконечный 297
— конечный 121
— внутренняя деятельность 118
— понятие 296, 297
— и тело 304, 305
Душа 62, 65, 66, 75, 105—108, 113, 114, 118, 136, 138, 142, 148, 161, 169, 177, 189, 191, 223, 233, 235, 240, 241, 251, 262, 263, 266, 283, 297, 298, 301, 302, 310—312,. 314—319, 323, 328, 346, 352, 354, 366, 407, 418, 424, 431, 432
— высшая способность 391
— деятельность 108
— местонахождение 235, 301, 302
— мыслительная способность 118
— основная сила 75
— природа 303, 354, 367, 430, 431
— как субстанция 311
— и тело 304, 310, 425
Единство 216, 314, 346, 372, 411, 412, 424
— моральное 313
— и единение 188, 216
— и многообразие 151
Естествознание 245, 352, 413
Жизнь 306, 308, 309, 331, 367, 453
— принцип 304
Заблуждение 73, 121, 285, 296, 318, 341, 364, 385, 394, 414—416
Закон 104, 108, 145, 213, 218, 233, 258, 264, 307, 352, 375, 390, 391, 394, 396, 399—402, 406—408, 417, 418, 432, 445
— вечный 408
— внутренний 98
— врожденный 408
— всеобщий 424
— механический 452
— моральный 432
— неизменный 402, 424
— неизменный врожденный 391
— пневматический 307, 314, 315, 352
— поддельный 414
— субъективный 415, 422
— физический 352
— воображения 417
— восприятия 353
— движения материи 309, 314, 373
— достаточного основания 153
— духа 397, 408
— инерции 113
— Лейбница 399
— общей воли 313
— опыта 353, 392
— природы 160, 202, 314, 315, 405, 406, 423
— противоречия (см. принцип)
— равновесия 117
— размножения 445
— согласия 121
— соприкосновения 306
— тождества (см. принцип)
— толчка (удара) 296,297,306
— феноменов 392 (см. логика, познание чувственное, понятие, разум, рассудок, созерцание, суждение, ум)
Зло 41, 48, 97, 99, 203
— внешнее 196
— моральное 192
— наивысшее в человеческой природе 220
Зоология эмпирическая 284
Идеал 395
Идеализм 396
Идеальное 187, 387
Идея 317, 352, 395, 396, 417
498
— абстрактная (отвлеченная) 330, 385
— всеобщая (общая) 383, 398
— единичная 398
— истинная 317
— материальная как копия чувственных впечатлений 303, 324
— объективная 388
— чистая 393
— и ощущение 399
— и понятие 247, 249
— и представление 303, 311, 316
— и чувство 201, 398 (см. понятие)
Изменение 111, 112, 402, 422, 424
— немеханическое 113, 116
— непрерывное 399, 417
— органическое 309
— в материальном мире 113
Интеллект см. рассудок
Истина 97, 207, 222, 267, 269, 301, 312
— недоказуемая основная 77, 252
— твердая, основанная на опыте 245
— критерий 414
История 281, 288
— естественная (природы) 452, 462
— человеческого рода 453
Исчезновение 108 (см. возникновение)
Качество 43, 44, 99, 120, 134, 141, 311, 317, 390, 396, 419
— абсолютное 396
— внутреннее 145, 297, 396
— моральное (нравственное) 136 195
Количество 99, 384, 385, 388, 395, 396, 401
— понятие 419
Космология 283, 462
Критика 285
— и предписания здравого ума 285
— разума 286
— чистого разума 432
Лишение (privatio) 93, 96—101, 108, 117, 119
Логика 48, 59—77, 81, 282, 285, 286, 341, 392, 393
— полная 285
— законы 341, 407
— цель 71, 72
Масса 101, 318
— материальная 266
— мертвая 308
— Вселенной 420
Математика 81—84, 92, 97, 171, 203, 229, 246, 248, 264, 281, 282, 371, 385, 431
— предмет 253
— высшая 254
— прикладная 248
— чистая 48, 396, 397 (см. алгебра, арифметика, геометрия, метод, философия)
Материализм 308
Материя 64, 67, 100, 101, 103, 104, 108, 251, 260, 266, 283, 296—300, 303—305, 307, 309—311, 319, 345, 352, 353, 366, 372, 378, 390, 391, 395, 409, 418, 424
— грубая 153, 310
— мертвая (безжизненная) 306, 307
— движение 219
— отличительный признак 304
— понятие 298
— причина 411 (см. элементы, непроницаемость, субстанция)
Метафизика 81, 82, 207, 245, 251, 252, 254—258, 260, 261, 263—265, 267, 269, 270, 283, 285, 286, 306, 328, 332, 336, 338, 348—350, 364, 365, 372, 383, 393, 394, 412—416, 424, 429
499
— ложная 84
— границы 432
— задача 261
— источники 432
— природа 429, 432
— тайна 430
— как наука о границах человеческого разума 349
Метод 81, 245, 246, 254, 257, 261, 280, 338, 339, 413, 414, 424
— аналитический 192, 261, 283
— математический 90, 283
— синтетический 192, 262, 263, 283
— метафизики (философии) 123, 249, 257, 258, 261, 283, 285, 309, 351, 364, 365, 383, 413—415, 424, 429, 432
— обучения в философии 282, 284, 285
Механика 48, 112, 116, 153, 373
— чистая 113, 396
Мир (мироздание) 41—48, 52, 54, 55, 111, 112, 114—116, 121, 122, 160, 222, 258, 271, 272, 284, 301, 310, 315, 385, 388, 397, 402, 409—412, 419, 420, 422—425, 462
— внешний 118, 120
— материальный (видимый) 107, 112, 113, 117, 301, 307, 309—311, 315, 316, 343, 418
— нематериальный (невидимый) 307, 309, 313, 314, 316, 318, 320, 343
— органический и неорганический 215
— отдельного Я 386
— умопостигаемый (и его форма) 381, 397, 408, 409
— бесконечность 136
— бесчисленность 130, 155
— величина 420
— вечность 422
— дефиниция 386
— понятие 383, 385
— природа 387
— причина 398, 410, 411, 413
— реальное основание его существования 121
— совершенство 116
— сущностная форма 387
— сущность 115
— феноменов 398, 401, 402
— чувственно воспринимаемый ( и его форма) 381, 397, 406
— и место человека в нем 206
Множество 45, 385, 387, 408, 419
— бесконечное 385
— конечное 45
— определенное 45
— понятие 45, 385, 411, 419
Монады 153, 247, 318
Мораль (моральное) 96, 97, 119, 136, 139, 140, 142, 144, 151, 154, 157, 159—162, 170, 171, 180, 188—197, 199—201, 203, 205, 207—209, 212, 214, 217, 222—224, 236, 270—273, 282, 286, 287, 288, 313, 317, 354, 429, 430, 432
— ложная и здоровая 197
— показная 213
— понятие 393
— и религия 221 (см. нравственность, принцип)
Мышление 106—108, 117, 118, 249, 252, 262, 263, 280, 299, 302, 303, 327, 351, 352, 417, 435
— абстрактное 82
— дискурсивное 395
— по аналогии 299
— способ 72 (см. метод)
Необходимость 47, 48, 61, 62, 213, 218, 257, 273, 274, 305, 410
— понятие 394
— как основание неизменности 121
Непрерывность 45, 399, 402
— закон 399, 400
— и бесконечное 384
500
Непроницаемость 93,
94, 123, 259, 260, 261, 266, 296—299, 305
— сила 259—261
Ничто 47, 92, 112, 114, 120, 204
— относительное 86
Ноумен 390, 393—395, 405
Нравственность 98, 99, 118, 132, 136, 144, 148, 152, 154, 155, 158, 160, 162, 163, 166, 167, 171, 174, 180, 182, 183, 192, 195, 196, 200, 204, 207, 212, 217, 221, 275, 286, 313—315, 354, 367, 394
— естественная 194
— основание 430
— и законы природы 314
— и метод ее исследования 287
Окказионализм 412
Онтология 284, 285, 394
Определение 77, 84, 246, 255, 257
— аналитическое 248
— философское 248, 253
— понятий 247, 250, 251 (см. дефиниция)
Оптимизм 39, 44, 45
Опыт 100, 233, 237, 238, 245, 248, 255, 258, 279—283, 287, 296, 298, 299, 301, 323, 324, 327, 332, 337, 338, 349, 351-354, 366, 367, 379, 392—394, 405, 407, 413, 422—424, 431, 462
— внутренний 106, 107, 258
— мнимый 341, 353
Основание 63, 64, 81, 82, 86, 89, 93, 97, 106, 107, 111—115, 117-120, 252, 409, 434
— внутреннее 377
— достаточное 153, 294
— идеальное 122
— логическое 121, 122, 205, 387
— материальное 273
— метафизическое 113
— моральное 205
— первое 258, 369, 371
— положительное 90, 92—94, 96—98,100, 105, 106, 114, 115
— противоположные реальные 109—111, 114, 116, 117
— реальное 106, 114, 115, 117, 118, 121—123, 387
— субъективное 423
— формальное 273
— делимости 121
— неизменности 121
— понятие 121
— и следствие 108, 109, 111—113, 121—123, 200, 279, 384, 421 (см. также причина)
Отрицание 44, 86, 90, 92, 93, 98—101, 106, 107, 110, 111, 114,.267, 268
— истинное 92
— простое 95, 96, 97, 98
— реальное 109
— в природе 116
— в смысле отсутствия 118
Отсутствие (defectus, аbsentia) 93, 94, 97—100, 106, 109, 116, 118
Отталкивание 83, 84, 94, 101, 102, 109, 117
Ощущение 76, 97, 127, 141, 163, 200, 233, 239, 256, 280, 301, 303, 318, 319, 322, 323, 331, 375, 376, 390, 396, 403
— внешнее 238, 403
— действительное 323
— извращенное 237
— логическое 207
— мнимое 234
— обманчивое 326
— простое 274
— зависимость от природы субъекта 390
— и воображение 324
— и восприятие 324
— и представление 234, 322, 324, 395
501
— и ум 401, 406, 408 (см. идея, понятие)
Познание 75, 77, 109, 115, 122, 251, 254, 255, 258, 264, 269, 274, 279, 297, 312, 350, 390—398, 413—424, 432, 462
— адекватное 391
— априорное и апостериорное 338, 339, 421
— математическое 250, 253, 254, 265
— метафизическое 105, 267, 269, 272
— отчетливое 253, 391, 393, 397, 419
— практическое 274, 432
— рассудочное (интеллектуальное) 390—394, 407, 414—419, 423, 424
— смутное 393
— созерцательное 252, 384, 385, 397
— философское 265
— чувственное 383, 390—398, 404, 407, 409, 412—424
— его достоверность в математике 246, 263—270
— его достоверность в философии 246, 251, 258, 263—270
— единство 288
— естественный прогресс 279
— источник 432
— как способность 75, 77
— неисчерпаемость 331
— основание 122, 254
— природа 123, 420, 432
— и врожденные законы ума 391 (см. метод)
Покой 83—85, 93, 94, 99, 100, 117, 122, 192, 223
Понятие 44, 63, 83, 118, 212, 247, 255, 279, 281, 296, 299, 317, 318, 326, 327, 329, 337, 351, 383, 385, 388, 391, 392, 394, 396, 402, 406, 418, 431, 432
— абстрактное (отвлеченное) 45, 84, 258, 261, 262, 265, 306, 338, 383, 392—395, 403
— врожденное 394, 408
— высшее 317, 338, 391
— гипотетическое 311
— единичное 396, 403
— казуистическое 296
— логическое 396
— математическое 82, 83, 87, 264, 281
— моральное 393
— неразложимое (нерасчленимое) 123, 250, 251, 274
— низшее 64, 280, 391
— общее 109, 238, 246, 247, 249, 265, 298, 338, 383, 391, 392, 395, 396, 399, 403, 404, 407
— обыденное 227, 388
— основное (первичное, первоначальное, простое) 251, 253, 254, 383, 414
— отчетливое 74—76, 253, 255
— полное 74, 75, 253, 264, 385
— приобретенное опытом (эмпирическое) 233, 237, 296, 298, 317, 349, 353, 392, 398, 406
— противоречивое 45
— рассудочное 315, 389, 392—394, 396, 415—417, 419, 421, 422, 430, 431
— самодеятельное 431
— смутное (темное) 262, 405
— умопостигаемое 395
— философское 246
— чувственное 396, 415, 416
— возникновение (образование) 212, 253, 260, 264, 274, 279, 296, 298, 304, 373, 383, 398, 417, 419, 422, 431
— законы ассоциации 317
— определение 250
— расчленение (разложение) 77, 121—123, 246—248, 250—252, 254, 268, 274, 386
— систематизация наукой 279, 280
502
— и дефиниция 246, 247, 253, 255
— и ощущение 403
— и представление 248, 311, 317 383
— и суждение 123, 279, 280, 374
— и умозаключение 296, 317 (см. признак)
Порок 98, 132, 161, 199, 206, 317, 354
Представление 250, 255, 256, 203, 316—319, 322, 324, 351, 387, 430, 431
— единичное 403
— интеллектуальное 431
— конкретное 120
— наглядное 311
— неразложимое 274
— основанное на опыте 299
— отчетливое (ясное) 75, 106, 316
— произвольное 246
— рассудочное 390
— смутное 247, 262, 305, 316, 342, 343
— созерцательное 402
— чувственное 390, 391, 394, 430, 431
— понятие 251
— и воображение 324
— и образы 318, 319
— и умозаключение 317
— и чувства 390, 391 (см. восприятие, идея, ощущение, понятие)
Прекрасное см. возвышенное
Признак 61—63, 66, 75—77, 252, 264, 267, 268, 386, 398, 403, 415, 419, 420, 422
— абстрагированный 247
— непосредственный 61, 62, 268
— номинальный 422
— опосредствованный 61, 62, 77
— первоначальный 253
— производный 253
— реальный 422
— и понятие 247, 250, 252, 258, 264, 265, 296, 391, 399
Принцип 118, 136—143, 146, 150, 155, 158, 173, 177, 236, 272, 304, 305, 381, 387, 388, 395, 399, 406, 409, 411, 413—416, 423, 424, 429—432, 445, 453
— внутренний 387, 391
— моральный 207, 243, 275, 432
— объективный 397, 406
— подставной 422
— эмпирический 394, 405
— (закон) противоречия 77, 85, 123, 267—269, 391, 401, 402, 414, 420
— (закон) тождества 77, 121, 122, 268, 269
— непосредственно достоверный и недоказуемый 267
— сообразности 423
— формальный 268, 269, 395, 397, 398, 402, 406 (см. пространство, разум)
Природа 166, 167, 193, 406, 441, 451, 452, 462
— цель 150, 158, 159,163, 165, 202 (см. закон, человек)
Притяжение (тяготение) 83, 84, 94, 101—103, 113, 117, 153, 260, 313, 353
— отрицательное 94 (см. закон, сила)
Причина 98—100, 109, 114, 138, 197, 214, 284, 305, 351, 385, 387, 397, 409, 411—413, 430
— внешняя 108
— внутренняя 108
— движущая 100
— действующая 100
— естественная 212, 446, 453, 458, 460
— механическая 309, 452
— необходимая 411
— первая 408, 411
— посредствующая 307
— случайная 284, 288, 460
— понятие 394
— и действие 122, 240,
503
300, 351, 352, 366, 386, 407—411, 421, 430 (см. также основание)
Пространство 82, 93, 94, 101—103, 123, 247, 248, 252, 253, 258—262, 266, 296, 300, 302, 305, 317, 369, 372, 377, 378, 392, 395, 396, 403—409, 412, 416—418, 425, 434
— абсолютное 372, 373, 376, 378
— бесконечное 407, 418
— всеобщее 372, 376, 409
— мировое 306, 310, 367, 372
— неконгруэнтное 377
— телесное 373
— чистое 378
— бесконечная делимость 249
— граница 404, 407
— понятие 248, 250, 251, 373, 388, 396, 403—406, 413
— свойства 82, 405, 406
— и время 317, 388, 404, 407, 408, 416—418
— как формальный принцип мира феноменов 398, 406
Противоположность 85—87, 89—91, 99, 104, 109, 110, 112, 114—116, 118, 119, 257, 392
— действительная 110, 112—114
— контрадикторная 90, 91,119
— логическая 85, 110, 122
— потенциальная (oppositio potentialis) 91, 110, 112—114, 116
— реальная 85, 87, 89—93, 95, 96, 98—100, 108—111, 113, 114, 117, 119, 122, 123
Противоречие 63, 122, 267, 268, 351
— логическое 91
— реальное 92 (см. принцип)
Психология
— рациональная 284, 394
— эмпирическая 283, 284, 396, 462
Равновесие 101
— закон 117
Разум 75, 100, 133, 189, 219, 222, 227, 230, 232, 238, 247, 266, 280, 282, 285, 286, 295—298, 304, 310, 315, 317, 327, 329, 330, 332, 336—338, 340, 341, 348, 350, 353, 355, 366, 367, 379, 383, 385, 388, 401, 402, 404, 405, 407, 414, 420, 424, 439, 441
— божественный 42, 44, 272
— практический 287
— чистый 385, 414, 431, 432
— границы 349, 351, 355, 367, 429
— единство 312
— законы 385, 386, 407, 414
— принципы 232, 268, 269
Рассудок (интеллект) 48, 72, 75, 135, 144, 193, 203, 207, 211, 223, 227, 228, 237, 261, 267, 274, 279, 280, 315, 317, 327—329, 337, 349, 354, 383—385, 389—392, 398, 409, 412, 415, 416, 418—424, 430—432, 445, 452
— общечеловеческий 312
— обыденный (обыкновенный) 41, 205, 424
— чистый 265, 393, 394, 414, 419, 420
— законы 384, 421, 432
— ограниченность 413, 419, 421
— реальное и логическое применение 391, 392, 414
— как высшая способность души 391
Реальность 43—45, 47, 114—116
Религия 176—178, 182, 194, 197, 199, 212, 221, 339
— естественная 199, 212, 270
— христианская 221
— откровения 223
— и мораль 221
504
Рефлексия 392
Ряд 389, 399, 401, 413, 419, 420
— бесконечный 388, 399, 419
— математический 83
— целый 389
— измеримость 420
Свобода 210, 214, 218—220, 350
— понятие 254
— и необходимость 47, 213
Связь всеобщая 388
Сила 83, 92—94, 99, 100, 103, 107, 110, 113, 118, 123, 151, 259, 297, 299, 304, 308, 312, 313, 351—353, 366, 412, 418, 421, 456
— движущая 90, 91, 93, 94, 100, 106, 107, 109, 110, 116, 117, 229, 375
— живая 119
— магнетическая 101, 104
— материальная 314
— нематериальная 309
— переходящая 387, 410
— противоположные 94
— электрическая 101
— борьба 116, 312
— воспроизведения 445, 446, 452, 453, 461
— отталкивания 117, 299, 300
— притяжения 101, 103, 117, 118, 153, 353 (см. непроницаемость, притяжение)
Силлогизм 59, 69
— модусы 68—70, 72
— фигуры 66—74, 136
Силлогистика 73 (см. также умозаключение)
Синтез 384, 419
Следствие 109—112, 238, 379, 385—387, 406, 421, 424
— действительное и потенциальное 112
— логическое 121
— полагание по закону тождества 122 (см. основание)
Случайность (случайное) 62, 386, 410, 422
— и необходимость 262, 422
Созерцание 111, 195, 252, 316, 372, 383—385, 395, 397, 399, 404, 407, 414, 416—418, 431, 432
— божественное 395, 417, 430
— врожденное 401
— единичное 398, 404, 407
— интеллектуальное 395, 396, 417, 434
— чистое 392, 396, 399, 400, 403, 404, 407, 413, 414
— чувственное 389, 404, 407, 412—414, 418, 430
— формальный принцип 395, 397
— закон 383—385, 412
Справедливость 196, 201
Субстанция 247, 249, 250, 252, 297—299, 305, 307, 311, 317, 351, 366, 386, 387, 399 —401, 404, 408—413, 417, 421, 422, 456
— бесконечная и абсолютно необходимая 297, 410
— духовная 284, 297, 300, 314, 366
— материальная 284, 300, 409
— мировая 410
— нематериальная (бестелесная) 304, 305, 307, 398, 409, 418
— простая 249, 250, 258, 297, 298, 300, 386
— протяженная 417
— сложная 385
— понятие 258, 394
Суждение 61, 62, 64, 65, 69, 71, 74—77, 154, 206, 233, 237, 238, 240, 256, 260, 267, 268, 273, 288, 341, 391, 421, 423, 429
— априорное 366
— доказуемое и недоказуемое 77
— логическое и нравственное 207
— опирающееся на созерцание 372
— основанное на опыте 238, 280
505
— отвлеченное 372
— отрицательное 61—63, 67, 76, 77, 97, 267, 268
— первоначальное (первое основное) 253, 420
— утвердительное 61, 77, 267, 268
— законы (правила) 423, 432
— принцип 394 (см. понятие)
Сущность 108, 266, 385, 394
— мира 115
Теология естественная 270
Тождество 77, 121, 122, 265, 267, 268, 351, 387, 391, 420, 421 (см. принцип)
Ум 128, 148, 229, 252, 264, 269, 306, 329, 331, 343, 349, 385, 387, 393, 395, 398, 412, 419
— здравый (рассудок, смысл) 46, 199, 234, 238—240, 262, 285, 286, 301, 349, 356, 364, 365, 401
— метафизический 85
— философский 423, 424
— границы (пределы) 385, 386
— деятельность 408
— законы 264, 390, 394, 401, 408, 417
— природа 383, 400, 404, 406
Умозаключение 42, 43, 46, 61, 63—65, 70, 74, 75, 234, 266, 269, 296, 317, 332, 366, 391
— отрицательное 62, 66, 69
— простое (несмешанное) 72, 74, 75
— сложное (смешанное) 64—68
— утвердительное 62, 63
— чистое 64—66, 72
— определение 62
— основа 269
— понятие 71
— правила 63, 64, 66—69, 71—74, 77 (см. понятие, представление)
Умопостигаемое 381, 389, 390, 394, 395, 397 (см. мир)
Феномен 390, 392, 393, 396—398, 401, 402, 405, 406, 414, 423, 424
— всеобщая форма 402 (см. также явление)
Феноменология 429
Физика 396, 462
Философия 81, 83,84, 89, 93, 104, 136, 223, 245, 246, 248, 266, 281—285, 327, 332, 429
— высшая 115
— моральная (нравственная) 286, 394
— первая 393
— практическая 98, 99, 272, 273, 275, 286
— теоретическая (умозрительная) 275
— трансцендентальная 432
— чистая 394, 414
— задача 351
— природа 281, 282
— и математика 223, 247—256, 261—267, 269, 270, 283, 321, 393 (см. также метафизика, метод)
Форма 386, 388, 390—392, 397, 400, 403, 404, 409, 424, 434, 435
— случайная и преходящая 388
— сущностная 387, 408 (см. мир умопостигаемый и чувственно воспринимаемый, феномен)
Целесообразное 452, 453
Целое 48, 216, 249, 285, 297, 298, 305, 307, 315, 386—388, 397, 409, 420, 462
— мировое 386
— реальное 410, 412
— сложное 298
— субстанциальное 410
— формальное 402
506
— понятие 384, 388, 389
— и часть 302, 307, 310, 383, 384, 386—388, 402, 406, 410 (см. также часть)
Часть 302, 305, 306, 309, 310, 372, 378, 383, 384, 386—389, 394, 398, 399, 404, 407, 452
— сопринадлежащая 388, 410
— понятие 388 (см. целое)
Человек 127, 138, 139, 143, 150, 158, 197, 200, 208, 212, 213
— и природа 462
Число 44, 45, 385, 408, 419
— бесконечное 385
— понятие 45, 397, 413
Чувственность 389, 390, 396, 406
— предмет 390
— внутренняя 435
— границы 429
— форма 396
Чувство 97, 127, 129, 131, 132, 134, 136—139, 141, 148, 149, 153, 187, 192, 194, 199, 208, 224, 236, 251, 256, 274, 286, 299, 303, 317—319, 321, 324, 327, 329—331, 385, 390—398, 400—403, 417, 429, 430
— внешнее 235, 306, 308, 316, 317, 319, 322, 323, 326, 396, 398, 404, 406, 425, 434
— внутреннее 330, 342—344, 379, 396, 434, 435
— деятельное 224
— моральное (нравственное) 99, 139, 140, 144, 154, 161, 162, 166, 183, 193, 200, 207, 217, 224, 236, 275, 313
— непосредственное 133, 146
— прекрасного и возвышенного 125, 127—132, 135—137, 142, 144, 145, 147, 149, 159, 160, 165, 168—171, 173,177, 180, 187, 251
— как первооснова всякого суждения 341
— органы 318, 322, 353
— и вкус 189
— и способность 187 (см. восприятие, представление)
Электричество 102, 104
Элементы 101, 103, 117, 259, 260, 304, 305
— простые 259
— сложные 420
— материи 251, 259, 266, 297, 299, 300, 303, 305
Эстетика 207, 286
Этика 48, 286
— и практическая философия 286 (см. также мораль, нравственность, чувство)
Явление 309, 351, 352, 388, 390—392, 423, 435
— внутреннее 435 (см. также феномен)
![]()
СОДЕРЖАНИЕ
A. Арсенъев и а. Гулыга. Ранние работы Канта 5
ОПЫТ НЕКОТОРЫХ РАССУЖДЕНИЙ ОБ ОПТИМИЗМЕ. 1759 39
МЫСЛИ, ВЫЗВАННЫЕ БЕЗВРЕМЕННОЙ КОНЧИНОЙ ВЫСОКОРОДНОГО ГОСПОДИНА ИОГАННА ФРИДРИХА ФОН ФУНКА. 1760 49
ЛОЖНОЕ МУДРСТВОВАНИЕ В ЧЕТЫРЕХ ФИГУРАХ СИЛЛОГИЗМА. 1762 59
§ 1. Общее понятие о природе умозаключений 61
§ 2. О высших правилах всех умозаключений 63
§ 3. О чистых и смешанных умозаключениях 64
§ 4. Лишь в так называемой первой фигуре возможны чистые умозаключения, в трех остальных — только смешанные 66
§ 5. Логическое деление на четыре силлогистические фигуры есть ложное мудрствование 71
§ 6. Заключительное рассмотрение 73
ОПЫТ ВВЕДЕНИЯ В ФИЛОСОФИЮ ПОНЯТИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН. 1763 79
Предисловие 81
Раздел первый. Объяснение понятия отрицательных величин вообще 85
Раздел второй, в котором приводятся примеры из философии, заключающие в себе понятие отрицательных величин 93
Раздел третий содержит некоторые размышления, могущие служить подготовкой для применения упомянутого понятия к предметам философии 104
Замечания к параграфу второму 115
Общее замечание 120
508
НАБЛЮДЕНИЯ НАД ЧУВСТВОМ ПРЕКРАСНОГО И ВОЗВЫШЕННОГО. 1764 125
Раздел первый. О различных объектах чувства возвышенного и прекрасного 127
Раздел второй. О свойствах возвышенного и прекрасного у человека вообще 131
Раздел третий. О различии возвышенного и прекрасного у мужчин и женщин 151
Раздел четвертый. О национальных характерах, поскольку они основываются на разном чувстве возвышенного и прекрасного 168
ПРИЛОЖЕНИЕ К «НАБЛЮДЕНИЯМ НАД ЧУВСТВОМ ПРЕКРАСНОГО И
ВОЗВЫШЕННОГО». 1764 185
ОПЫТ О БОЛЕЗНЯХ ГОЛОВЫ. 1764 225
ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ ЯСНОСТИ ПРИНЦИПОВ ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЕОЛОГИИ И МОРАЛИ. 1764 243
Введение 245
Рассуждение первое. Общее сравнение того способа, каким достоверность познания достигается в математике, с тем способом, каким она достигается в философии 246
Рассуждение второе. Единственный метод достигнуть в метафизике максимальной достоверности 254
Пример применения единственно достоверного метода в метафизике к познанию природы тел 258
Рассуждение третье. О природе достоверности в метафизике 263
Рассуждение четвертое. Об отчетливости и достоверности, доступных первым основаниям естественной теологии и морали 270
УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСПИСАНИИ ЛЕКЦИЙ НА ЗИМНЕЕ ПОЛУГОДИЕ 1765/66 г. 277
ГРЕЗЫ ДУХОВИДЦА, ПОЯСНЕННЫЕ ГРЕЗАМИ МЕТАФИЗИКИ. 1766 291
Предисловие, очень мало обещающее для решения задачи 293
Часть первая. Догматическая 295
Глава первая. Запутанный метафизический узел, который по желанию можно распутать или разрубить —
Глава вторая. Фрагмент тайной философии, для того чтобы вступить в общение с миром духов 306
Глава третья. Антикаббала. Фрагмент обычной философии, для того чтобы прекратить общение с миром духов 320
Глава четвертая. Теоретический вывод из всех рассуждений, изложенных в первой части 328
509
Часть вторая. Историческая 332
Глава первая. Рассказ, об истинности которого пусть как угодно осведомляется сам читатель —
Глава вторая. Экстатическое путешествие мечтателя по миру духов 337
Глава третья. Практический вывод из всего сочинения 350
Приложение. Письмо о Сведенборге к фрейлейн Шарлотте фон Кноблох. 1763 355
ПИСЬМО К МОИСЕЮ МЕНДЕЛЬСОНУ. 1766 361
О ПЕРВОМ ОСНОВАНИИ РАЗЛИЧИЯ СТОРОН В ПРОСТРАНСТВЕ. 1768 369
О ФОРМЕ И ПРИНЦИПАХ ЧУВСТВЕННО ВОСПРИНИМАЕМОГО И УМОПОСТИГАЕМОГО МИРА. 1770 381
Раздел первый. О понятии мира вообще 383
Раздел второй. О различии между чувственно воспринимаемым и умопостигаемым вообще 389
Раздел третий. О принципах формы чувственно воспринимаемого мира 397
Раздел четвертый. О принципе формы умопостигаемого мира 408
Раздел пятый. О методе метафизики, касающемся чувственного и рассудочного 413
ПИСЬМО К МАРКУ ГЕРЦУ. 1772 427
РЕЦЕНЗИЯ НА СОЧИНЕНИЕ МОСКАТИ «О СУЩЕСТВЕННОМ РАЗЛИЧИИ В СТРОЕНИИ ТЕЛА
ЖИВОТНЫХ И ЛЮДЕЙ». 1771 437
О РАЗЛИЧНЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РАСАХ. 1775 443
1. О различии рас вообще 445
2. Деление человеческого рода на различные расы. 448
3. О непосредственных причинах происхождения этих различных рас 451
4. О случайных причинах образования различных рас 460
ДВЕ СТАТЬИ ОТНОСИТЕЛЬНО «ФИЛАНТРОПИНА». 1776—1777 463
Примечания 473
Указатель имен 494
Предметный указатель 496
Кант, Иммануил
СОЧИНЕНИЯ В ШЕСТИ ТОМАХ. [Под общ. ред. В. Ф. Асмуса, А. В.
Гулыги, Т. И. Оиземана.] М., «Мысль», 1964.
(Философ. наследие. Акад. Наук GGGP. Ин-т философии.)
Т. 2. 611 с, 1 л. портр.
Редактор М. Иткин
Младшие редакторы M. Кельнер и Ю. Митин
Оформление художника В. Максина
Художественный редактор Г. Чеховский
Технический редактор В. Корнилова
Корректоры С.
Игнатова, Ю. Старикова, Л. Севастьянова
Сдано в набор 23 декабря 1963 г. Подписано в печать 13 марта 1964 г. Формат бумаги 84 × 1081/32. Бумажных листов 8,03. Печатных листов 26,34. Учетно-издательских листов 23,6 (с вклейкой). Тираж 17000 экз. Цена 1 р. 80 к. Заказ № 1188. Темплан Соцэкгиза 1963 г., № 55
Издательство
социально-экономической литературы «Мысль»
Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.
Первая Образцовая типография имени а. а. Жданова Главполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров СССР по печати.
Москва, Ж-54, Валовая, 28.