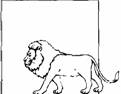письма Фридриха Ницше
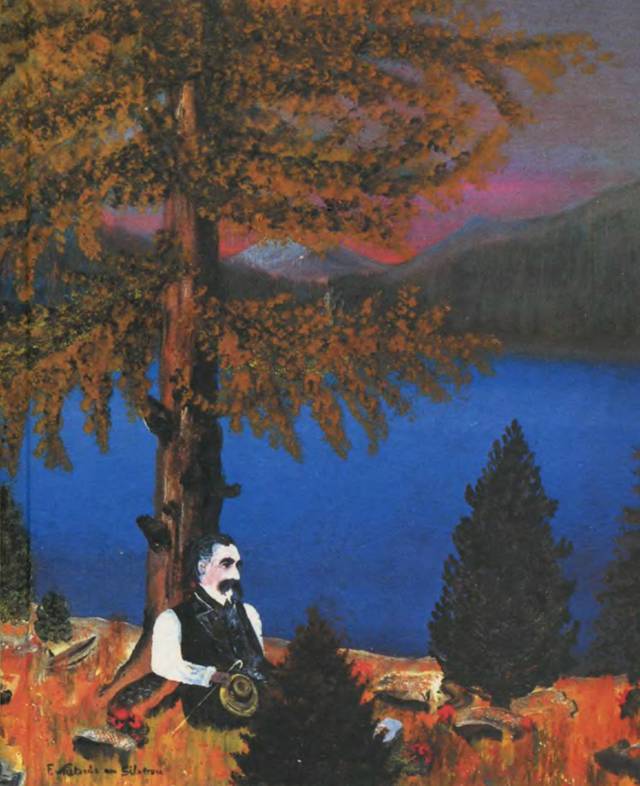
составление и перевод Игоря Эбаноидзе
письма
Фридриха Ницше
составление и перевод
Игоря Эбаноидзе

ББК 87.3 Герм
11 70
Составление, перевод, комментарии и послесловие
И. А. Эбаноидзе
Оформление
И. Э. Бернштейн
Ницше, Фридрих.
Н 70 Письма / Сост., пер. с нем. И. А. Эбаноидзе. — М: Культурная революция, 2007. — 400 с.: ил.
ISBN
978-5-250-06020-2
В книге представлены 337 писем немецкого мыслителя Фридриха Ницше (1844—1900), охватывающие практически всю его сознательную жизнь, начиная с 14-летнего возраста. В издание включены также фрагменты других писем философа, некоторые письма его корреспондентов, а также переписка его ближайших друзей Генриха Кезелица и Франца Овербека, относящаяся к первому году безумия Ницше.
На русском языке издается впервые.
Книга подготовлена при поддержке «Альфа-Банка», Московского Литературного фонда и президента Московско-Парижского банка.
В оформлении переплета использована картина Самуэле Джованьоли «Ницше на озере Зильзерзе».
В оформлении книги использована графика Т. Казанцевой.
© Эбаноизде И. А. Составление, перевод, комментарии, предисловие, 2007
© Культурная революция, 2007
© Бернштейн И. Э. Оформление, 2007
Содержание*
От составителя 5
Предисловие 7
Часть первая 1859—1877 19
Часть вторая 1877—1885 139
Часть третья 1885—1889 241
Вместо эпилога 1889—1890 369
из переписки Франца Овербека и Генриха Кезелица
Указатель адресатов 389
Именной указатель 393
Список иллюстраций 398
От составителя
Эта книга представляет собой первую в России попытку освоения эпистолярного наследия Фридриха Ницше. Не претендуя на то, чтобы полностью охватить это наследие (в книге представлена примерно девятая часть написанных Ницше писем), издание тем не менее стремится подробно осветить все наиболее значимые и выразительные свидетельства внутренней биографии философа, нашедшие отражение в его переписке. Во многих случаях для пояснения или расширения контекста используются фрагменты других, не вошедших в книгу писем Ницше, а также ответы его корреспондентов.
Целиком корпус известной на сегодняшний день переписки Ницше, включающий в том числе чуть менее 3
000 писем самого философа, опубликован в многотомном издании Nietzsche Friedrich. Briefwechsel: Kritische Gesamtausgabe, hrsg. v. G. Colli und M. Montinari. Berlin; New York 1974 f. (KGB)[1]. В 1922 году был издан неоднократно переиздававшийся с тех пор том избранных писем, подготовленный в Архиве Ницше дальним родственником философа Рихардом Олером. Однако при всех достоинствах первого из этих изданий и при всех его недостатках второго ни одно из них не удовлетворяло задачам данной книги — предложить читателю объективное, динамичное, композиционно связанное и обозримое по своему объему повествование.
Так, олеровскую редакцию отличает внутрисемейная тенденциозность, продиктованная в первую очередь интересами возглавлявшей Архив Элизабет Фёрстер-Ницше, сестры философа, а также текстологическая недостоверность. В частности, в создании содержатся сфальсифицированные письма Ницше сестре, скомпилированные на самом деле из писем другим адресатам. Также в издание Рихарда Олера не включен ни один из черновиков писем Ницше, меж тем они, особенно в сопоставлении с отправленными адресатам чистовиками, подчас вносят чрезвычайно существенные нюансы в его психологический портрет.
5
Таким образом,
отбор писем для данной книги было необходимо провести практически с нуля, чем и
занялся составитель, опираясь, в частности, на сами оригиналы писем, хранящиеся
в Веймарском Архиве Гете и Шиллера (GSA) и по мере необходимости сверяясь с изданием Колли и Монтинари (KGB). По ходу работы родилась идея трехчастной композиции книги с
эпиграфами из «Так говорил Заратустра», а также эпилога, составленного из
переписки ближайших друзей Ницше — Франца Овербека и Генриха Кезелица — п времени непосредственно примыкающего к последним письмам
философа.
В
книге приняты следующие текстологические знаки:
… означает сделанные составителем купюры
объемом до одного предложения (у самого Ницше многоточие встречается очень
редко; в случаях, когда этот знак поставлен им, мы воспроизводим его без
пробела, слитно с предыдущим словом[2]),
<> конъектуры переводчика,
[] датировка
писем, приведенная в издании KGB,
[+++] несохранившиеся окончание или начало письма,
[— — —] нечитаемые слова в рукописи.
Предисловие
Что-то я ношу в себе, чего нельзя почерпнуть из моих книг[3]. — говорит Ницше в письме Лу Саломее (см. письмо № 151 в этом издании). Это не похоже на признание человека литературного, стремящегося выразить себя без остатка в произведениях и сожалеющего, что это еще не вполне удалось. Эти слова — об обладании чем-то не превращаемом в литературу, о том внутреннем послании, которое несет в себе человек помимо своих произведений. Было бы опрометчиво утверждать, будто в письмах как раз и обнаруживает и раскрывает себя это внутреннее послание и ядро личности мыслителя. Ведь каждое письмо — это в конечном счете тоже маленькое произведение, которое даже может показаться выстроенным своим автором. И лишь когда мы видим весь тот путь, который, начиная от самых первых посланий друзьям, проделало самоосознание Ницше, за письмами начинает проступать движущая сила его судьбы, ее скрытый посыл.
«Это так интересно потому, что речь здесь идет не о книгах, а о жизни» — хоть мы и ведем сейчас речь о книге, эти простодушные слова датского студента, слушавшего в 1888 году лекции Брандеса о Ницше, в точности схватывают суть дела. Письма Ницше, дающие нам слепок его судьбы, — гораздо больше, чем просто литературный или историко-философский памятник; они имеют отношение не только к жизни их автора, но к каждому из нас. Жизнь Ницше как пример (или антипример), как исключительный опыт, как трагедия, как притча (или скрытое послание) имеет отношение к каждому интеллектуально честному человеку, ставя перед ним серьезнейшие вопросы и провоцируя не только на выработку определенного отношения к опыту Ницше, но и на выстраивание определенных взаимоотношений с ним. Что, пожалуй, труднее всего, поскольку опыт Ницше есть в том числе опыт смещения привычных координат, примирения непримиримого и раскалывания целостного. Стоит нам хотя бы на шаг сойти с узкой тропы интеллектуальной честности, как мы судорожно начинаем хвататься за отдельные грани
введение 7
этого опыта, за привычные нам самим координаты, уже не замечая того, что у Ницше они успели полностью поменять свое направление[4]. Именно вследствие такого судорожного хватания за спицы вращающегося колеса ницшевских идей возникают все эти в разной степени увечные и одиозные интерпретации Ницше — от символистской до постмодернистской, от национал-социалистической до леворадикальной. Все эти способы «экспроприации ницшеанства»1 свидетельствуют в сущности лишь о безнадежном непоспевании за мыслью Ницше[5].
Однако столь же провокативным является и жизненный опыт философа, в котором одиночество провоцирует нас на жалость, болезнь — на сострадание, наконец, безумие — на отстраненную снисходительность. Все это — чувства, из которых никак не складывается адекватное отношение к Ницше; ведь и одиночеству, и болезни, и даже безумию он своим опытом сообщает новые векторы, придает новое значение. Чтобы приблизиться к этому опыту, нужно попытаться попасть внутрь вращающегося колеса его мысли и его судьбы. И если что-то может дать такую возможность, то это в первую очередь его письма. Именно они дают нам три важнейших ключа для понимания внутреннего опыта Фридриха Ницше и в конечном счете его роли в опыте всемирно-историческом: 1) я нахожусь вне любой устоявшейся системы, 2) я должен стать самим собой, 3) я делаю лишь то, что продиктовано жизненной необходимостью. Эти три формулы соотносятся с тремя человеческими трагедиями, прожитыми в опыте Ницше, — с одиночеством, безумием и болезнью. Эти три вещи — суть прижизненный опыт смерти, и едва ли найдется мыслитель столь амбивалентный в своем жизнеотрицании и жизнеутверждении[6].
Вначале об одиночеств. На протяжении всей жизни Ницше постоянно стремится вывести себя за пределы любой социальной, профессиональной, эстетической парадигмы, откреститься от любой, избранной им же самим роли, которую он уже отыграл. Знаменитая фраза: юмор моего положения в том, что меня путают с бывшим базельским профессором доктором Фридрихом Ницше. Что мне за дело до этого господина! лишь подытоживает эту череду отрицательных дефиниций. Единственную свою карьерную (если, разумеется, не говорить, пользуясь словами Гете, о «карьере в невозможном») удачу — чудесным образом обретенную профессуру в Бадене — он с самого же начала видит пагубным соблазном, а спустя несколько лет в письме к Элизабет назовет главным бедствием своей жизни (см. № 96). И нельзя
введение 8
даже сказать, что к слову «бедствие»
прибегнуто нарочито, для парадокса (хотя, безусловно, тогда, к 1877 году, Ницше
уже научился дразнить свою сестру, переворачивая с ног на голову очевидные для
той вещи и парируя таким образом
ее нервирующую опекунскую наставительность). Посыл Ницше, с годами выражаемый
им во все более категоричной форме: «я не тот, за кого вы меня принимаете»[7],
— не филолог, не ученый, не литератор, не немец, не антисемит, не юдофил, не
христианин, не Антихристианин, не идеалист, не вольнодумец, «не пугало», «не
моральное чудовище», нет, нет и нет — и адресуется он с равной убежденностью
начальству, учителям, читателям, критикам, друзьям, родственникам, «возлюблено»
Лу. Как он напишет в письме последней: Что мне дух?!
Что мне познание?» не стройте иллюзий на мой счет. Не думаете же Вы, что
«вольный дух» — мой идеал? Я –. Как же характерно, что за этим «я», за
которым уже не поставишь очередного «не», следует обрыв, прочерк! Что же стоит
за этим прочерком — может быть, незнание, неумение назвать самого себя? Применительно
к тому, кто так глубоко, «слишком глубоко» (выражаясь языком обывательских
масштабов) заглядывал в человеческую душу, такой ответ будет выглядеть уж очень
сомнительно. Скорее, это нежелание и даже принципиальная невозможность называть
каким-либо именем собственное становление и становление вообще, философом
которого он был. «Я» не называемо ни одним утвердительным образом потому, что в
каждый момент оно еще не стало, в каждый момент оно есть цель и называнием этой
цели может быть только приближение к ней. Весь перечень многообразных, и в том
числе весьма достойных, целей и задач[8]
человеческого существования оказывается в данном случае совершенно ни при чем.
Называнием цели, как и достижением ее, всякая цель обессмысливается; смысл ей
придает лишь путь к ней или перешагивание через нее (как в афоризме Ницше о
ступенях, «на которые я вставал, чтобы потом переступить через них. А они
воображали, что я хотел усесться отдыхать на эти ступенях»). Вспомните замечательный
фрагмент «Мы — воздухоплаватели духа», которым заканчивается «Утренняя заря»: Все эти отважные птицы, улетающие ввысь и вдаль, однажды
просто не смогут лететь дальше, опустятся где-нибудь на мачту или голую скалу,
— и при том будут еще благодарны за это жалкое пристанище! Но кто посмеет заключить
из этого, что перед ними не лежит беспредельный, свободный путь и что они залетели
так далеко, как только можно залететь! Все наши великие учителя и
предшественники останавливались в конце концов, а поза человека, остановившегося
в изнеможении, — не самая благородная и привлекательная; то же случится и со
мной, и с тобой! Но что нам до этого?
введение 9
Другие
птицы полетят дальше! Наше предчувствие и вера в них влечет нас за ними,
возносится над нами и нашим бессилием в высоту, смотрит оттуда вдаль и предвидит
стаи других птиц, более могучих, чем мы, которые будут стремиться туда же, куда
стремились и мы, и где пока виднеется одно только море, море и море!
Но куда же мы стремимся? Или мы мечтаем перелететь через море? Куда влечет нас эта могучая страсть, которая нам дороже всех наших радостей? Отчего именно в этом направлении — туда, где до сих пор исчезали все светила человечества? Не скажут ли однажды и про нас, что мы тоже, направляясь на запад, надеялись достигнуть Индии, но что судьба обрекла нас на крушение в бесконечности? Или же, братья мои? Или?.
Как же это по-ницшевски: закольцевать свою лестницу становления, усомниться под конец даже в нем, дабы не останавливать становление, не обессмысливать его пафосом утверждения, запретным фаустовским «Остановись, мгновенье!».
Впрочем, для этого фаустовского опыта, проживание которого он для себя избрал, у Ницше была другая формула, взятая у древнегреческого лирика Пиндара: «Стань самим собой». Что больше всего поражает в Ницше, так это безошибочное чутье, с которым он еще в ранней юности начинает распознавать свою неповторимую жизненную задачу, та цепкость, с которой он ни на миг не выпускает ее из виду, и та стойкость, с которой он ей следует. Такое ощущение, что у этого человека особый инстинкт — инстинкт, которого не хватает столь многим: инстинкт становления собой. Это чутье своего пути мыслитель сравнивает с инстинктом горовосходителя, и, надо сказать, чем более отчетливо видится ему свой путь, тем менее охотно он говорит о том, что впереди. Еще в августе 1875 он пишет Марии Баумгартнер: Сейчас кое-что в моей жизненной задаче из месяца в месяц становился для меня все яснее, но у меня еще не хватает мужества высказать это кому бы то ни было. Спокойный, но очень решительный путь от ступени к ступени — вот что позволит мне продвинуться еще довольно далеко. У меня такое чувство, будто я прирожденный горовосходитель. Неудивительно, что весной 1888 года на него такое впечатление произвел Турин, где посреди города видишь снежные Альпы! Так, будто улицы прямиком уходят в них! (см. № 280). Этот пейзаж будто дает идеально выправленную и выровненную топографию внутреннего, пути Ницше. И если Туринская катастрофа с неотвратимостью входила в его план» (а он не раз замечал по поводу тех или иных персонажей и моментов своей биографии, что они «входят в план» его жизни), но не случайно и то, что катастрофа эта оказалась именно Туринской, произо-
введение 10
шедшей в аллегорически ясных декорациях его судьбы. Впрочем, мы неминуемо вернемся к тому, что произошло тогда в Турине; путь от начала до конца будет пройден в книге писем. Здесь же важно лишь обозначить, насколько един и целостен этот путь, перед лицом которого кажется нестерпимо поверхностным общераспространенное до недавних пор суждение о разных периодах творчества Ницше. На самом деле различие между этими «периодами» примерно такое же, как между пролетами лестницы: каждый новый пролет вроде бы и впрямь разворачивает идущего в противоположную сторону, однако по сути направление остается тем же — вверх. Этот рисунок восхождения, этот горный серпантин играет в движении восходящего одну совершенно незаменимую роль — он позволяет экономить силы, и в этом смысле все эти поражавшие окружающих повороты на 180 градусов были для Ницше жизненно необходимы (и лишь там, повторимся, где ему открылась и увлекла за собой перспектива прямого, как стрела вознесения, там, «где улицы будто бы прямиком уходят в горы», жизненные, духовные силы изменили ему).
Здесь мы вплотную подошли к третьей важнейшей формуле внутреннего опыта Ницше: я делаю лишь то, что продиктовано жизненной необходимостью». Читатель наверняка обратит внимание на тог, как Ницше постоянно, с юношеских лет (см., например, № 19) оценивает свои жизненные обстоятельства, обязанности, интересы, даже произведения искусства и метафизические конструкции с точки зрения того, насколько они полезны или вредны для его творческой продуктивности, эмоционального равновесия, физического самочувствия. Постоянное применение этого критерия к своим обстоятельствам можно сравнить с тем, как восходитель ориентируется на местности, вернее, как, ориентируясь, он выбирает маршрут наибольшей экономии внутренних ресурсов во время подъема. В действительности критерий пользы и вреда Ницше делает универсальным не только в своей жизни, но и в творчестве, и заголовок второго из его «Несвоевременных размышлений» — «О пользе и вреде истории для жизни» — в более или менее переиначенном виде могло бы носить множество афоризмов из его более поздних книг.
Хотя критериями пользы и вреда Ницше начинает оперировать еще до своей болезни, именно болезнь делает их для него все более актуальными, заставляя разрабатывать их иной раз, как он пишет, «до педантизма». В применении этих критериев можно усмотреть подчас логические противоречия, однако противоречия эти на самом деле снимаются ницшевской техникой перспективизма (или, как ее называют некоторые философы, например, Ортега-и-Гассет, «учением о перспективе») — ис-
введение
11
кусством видеть ситуацию, место человека или явления на карте жизни одновременно в разных измерениях и, складывая эти измерения в одну картину, выявлять жизненную необходимость.
Так, например, в 1877 году Ницше буквально в течение месяца дает в письмах две взаимоисключающие оценки своей ситуации и предшествовавшего ей опыта: Я очень серьезно колеблюсь, не оставить ли мне совсем мою базельскую службу… Эта скороспелая базельская профессура оказывается прямо-таки главным бедствием моей жизни» (см. № 96) и тут же: «До тех пор пока я действительно был ученым, я был здоров, но тут на меня свалились расшатывающая нервы музыка с метафизической философией и заботы о тысяче вещей, до которых мне самому нет никакого дела. Так что я хочу снова быть преподавателем, если я этого не выдержу, то пускай уж упокоюсь в своем ремесле (см. № 98). Можно, конечно расценить это как проявление слабости, колебания и сомнения в выборе пути. И лишь при взгляде на весь маршрут судьбы Ницше становится очевидным, что этот момент его биографии — как абсолютно ровная площадка перед новым витком спирали подъема, на которой взаимоуравновешиваются противоположные тенденции и, следовательно, не требуется ни приложения внутренних усилий, ни их экономии. Взаимоуравновесившись, они взаимоуничтожаются, и при новой оглядке вниз с новой крутизны подъема Ницше будет одинаково скептичен по отношению и к своей базельской профессуре, и к «расшатывающей нервы музыке с метафизической философией». Атмосфера новой высоты потребует отрицания и того, и другого.
Жизненная необходимость, диктующая Ницше его стратегию
восхождения, — это, как было сказано, в том числе и его борьба с болезнью.
Однако по ходу восхождения также меняется и перспектива видения самой болезни:
она сама начинает восприниматься как движущая причина восхождения и отказа от
прежних ориентиров и ценностей и в какой-то момент Ницше заговорит не о ее
вреде, а о принесенной ею пользе[9]:
В конце концов, болезнь принесла мне величайшую
пользу: она высвободила меня, она возвратила мне мужество быть самим собою
(см. № 279). Как пишет немецкий исследователь Вальтер Гебхарт, происходит «психологическая перемена знака в
исходно негативных категориях. Так болезнь превращается в «причину» здоровья,
оценка своих обстоятельство позитивизируется, в конце концов болезнь и
здоровье, одиночество и счастье становятся синонимами»1
12
Этот последний кульбит ницшевского перспективизма снова подводит на с к туринской катастрофе, которую совершенно невозможно вычленить, сепарировать из внутреннего опыта Ницше, равно как неверным будет считать ее и логическим итогом этого опыта (чего первым делом по получении известия о безумии философа с такой непосредственностью испугался его ученик Кезелиц: «Самым ужасным во всей этой истории будет, если придут филистеры и скажут: “полюбуйтесь-ка, вот вам и результат! И так будет с каждым, кто и т. д.”»). Охвативший Ницше на рубеже 1888—1880 годов паралич, за которым закрепилось имя «туринской катастрофы», и впрямь нельзя назвать несчастным случаем, непредсказуемым, форс-мажорным стечением обстоятельств. Скорее это событие на грани поступка, в последние десятилетия XX века нередко интерпретировавшееся как подаваемый нам эзотерический знак и даже поиск иных способов философской коммуникации либо выражение невозможности дальнейшей интеграции в существующую культурную систему. Однако моя задача и здесь — по возможности оставаться в рамках внутреннего опыта Ницше; и если прибегнуть к оптике его писем, то мы увидим, что на этом последнем этапе Ницше «рвет темп» своего «восхождения», то предельно ускоряя, форсируя шаг, пренебрегая собственной техникой «безопасности» и экономии ресурсов, то останавливаясь и «останавливая мгновение» в какой-то блаженной умиротворенности. Но на той высоте, на которую он забрался, такие вольности могут оказаться смертельно опасными.
Письма
1888 года представлены в этой книге особенно подробно, и читатель может шаг за
шагом проследить его подъем по этой последней тропе. Уже с начала года очевидно,
что Ницше начинает последовательно обрубать свои немногочисленные связи с
окружающим миром. Но по сути последнее его открытое признание, последнее
объяснение, сделанное так, чтобы его поняли, мы встречаем в черновике июльского
письма Овербеку. Здесь Ницше говорит, что в его последних книгах больше страсти, чем во всем, что я вообще до сих пор
написал. Страсть оглушает. Она идет мне на пользу, она позволяет немного
забыться… Я, с изрядной долей произвола, сочинил для себя таких персонажей,
которые свой дерзостью оставляют мне удовольствие, к примеру, «имморалиста» —
неслыханного до сих пор типа… Я и в самом деле очень много смеюсь, производя
такое на свет.
Находить развлечения, которые действуют достаточно сильно,
становится все трудней. Временами на меня нападает неописуемая тоска.
Но
то, что Ницше прячется под масками от жгучего духовного одиночества, что он
оглушает себя весельем, сквозь которое все равно
введение 13
проступает неописуемая тоска, далеко
не так зловеще, как то, что он больше уже никогда не признается ни в чем
подобном. В оставшиеся месяцы мы увидим лишь как эти причудливые маски намертво
срастаются с ним; теперь из-под пера Ницше будут следовать декларации
собственного величия, восхитительного самочувствия, поразительного умиротворения,
озорного расположения духа, зашифрованные в которых краткие сигналы SOS, увы, останутся для его
друзей незамеченными. Едва вернувшись в Турин, он словно попадает в совершенно
иное, эйфорически-восхитительное пространство: Самым
опасным был ночной переход через затопленную местность по узенькому мостику из
деревянных балок в Комо — при свете факелов!.. Обессиленный затхлым и гнетущим
воздухом Ломбардии приехал я в Турин. И тут, что удивительно, все будто бы
разом встало на свои места. Волшебная ясность, осенние краски, редкостная
удовлетворенность всеми нюансами (№ 296), и не надо
обладать особой фантазией, чтобы усмотреть в этом «ночном переходе при свете
факелов» переход символический — в иной мир, в иную реальность сознания или же
сжигание за собой всех мостов.
В любом случае Ницше переходит теперь на совершенно иной
язык коммуникации. Первое, что бросается в глаза и настораживает нас в осенних
письмах из Турина, — это внезапная перемена в оценке его физического
самочувствия, вернее, безразличие к нему, присущее полной сил молодости. Куда
только подевались его бесконечные жалобы и безнадежные вздохи? Так, походя, он
бросает пару раз, что немного болят глаза — и это все[10].
Это не его привычные интонации, это интонации уверенного в себе человека в
самом расцвете творческих сил. Он описывает свои прогулки по берегу По в
предзакатных лучах, свои театрально-музыкальные впечатления, туринские кофейни,
пьемонтскую кухню с каким-то совершенно неожиданным для него гурманством, и
невольно представляешь себе этакого жизнелюбивого эстета в пенсне, едва ли не
жуира, любителя оперетты и балета из некрасовского стихотворения («Качнулась
ножка влево — мы влево подались»); эдакого французика, одним словом, антинемца,
, каковым он так хочет себя ощущать. При этом мыслит он по-прежнему
блистательно, разве что сменил матовый отблеск на глянцевый, от которого несколько
рябит в глазах и даже нельзя сказать, что он неадекватен в этой роли —
тревожаще неестественна сама роль, и особую тревогу вызывают то и дело
прорывающиеся сквозь эту буффонаду опереточного «фельетониста» комментарии
вроде: Прошу это письмо также воспринимать
трагически (№ 303) или Я
выкидываю сам с собой такие дурацкие фокусы… что подчас по полчаса скалюсь…
прямо на виду у прохожих
14
…Думаю, в
таком состоянии я уже гожусь в «спасители»? Приезжайте» (№
305; должно быть, именно это письмо имел в виду Кезелиц, раскаиваясь в том,
что не приехал в Турин, когда Ницше его звал).
В эти месяцы в Турине Ницше работает над своей
автобиографией «Ecce H
«Философу такого сорта»! О чем он говорит?! О своей комнате за 25 франков в Турине? Или о палате в йенской клинике для душевнобольных? Или же о своем месте в истории мировой мысли? Быть может, как
введение 15
раз
это обретенное безмятежное равновесие и есть та вершина, к которой он так
неуклонно шел? И путь его становления собой завершается именно здесь, а
не в сумасшедшем доме и не в инвалидном кресле на балконе веймарской виллы? А
выделение себя из любой устоявшейся системы, о котором мы говорили вначале, —
из любой социальной среды, из любого сообщества, за исключением идеального
сообщества не могущих совпасть во времени единомышленников, — ведет не к
демоническому одиночеству, но к укрупнению единственности до божественных
масштабов? «Или же, братья мои? Или?» Вспомним еще раз заключительные слова
«Утренней зари», выделив некоторые из них: Все эти
отважные птицы, улетающие ввысь и вдаль, однажды просто не смогут лететь
дальше, опустятся где-нибудь на мачту или голую скалу[11], , — и при том будут еще благодарны за это жалкое пристанище!
Все наши великие учителя и предшественники останавливались в конце концов, а
поза человека, остановившегося в изнеможении, — не самая благородная и
привлекательная; то же случится и со мной, и с тобой! Но что нам до этого?
Кто посмеет заключить из этого, что перед ними не лежит беспредельный, свободный
путь, и что они залетели так далеко, как только можно залететь!
* * *
Эта книга завершается фрагментами переписки Овербека с Кезелицем, относящейся к первому году безумия Ницше. Здесь эти письма выполняют роль эпилога, но на самом деле это лишь начало — начало разговора и спора о Ницше, который едва ли когда-нибудь закончится и едва лине все полюса которого были намечены[12] в 1889—1890 годах письмами его друзей. Основательный Овербек ратует за крайнюю осмотрительность в отношении публикации наследия и не допускает даже мысли о том, что в безумие Ницше можно вкладывать какой-либо смысл; увлекающийся Кезелиц желает публиковать все и сразу и не может устоять перед искушением поспекулировать на тему безумия, причем в таком духе, который в конце XX века единодушно поддержат многие корифеи западной философской мысли. На первый взгляд больше доверия заслуживает Овербек, видевший Ницше в Турине и потому имеющий все основания не только говорить, но и молчать об очень многих вещах, что он с честью и делает (уж Кезелиц бы не заставил так тянуть себя за язык). Однако приглядевшись, можно заметить странную вещь: у добросовестнейшего и разумнейшего Овербека явно нечиста совесть перед Ницше. Так, упорство, с которым он с самого начала называет данный случай безнадежным, Овербек обосновывает с помощью эпизода, не говорящего ни о чем, кроме его собственного чувства
16
вины: «Судите сами по такой детали: Н. не смог даже воспылать ко мне ненавистью, которую я, чувствуя себя повинным в том, что лишил его свободы, предполагал встретить в нем. последними его словами, прежде чем закрылась дверь его вагона, были пылкие заверения в дружеских чувствах ко мне. Вот так обстоит теперь с этим героем свободы, что о свободе он даже и не помышляет».
Мы не вправе судить Овербека, который наверняка и вправду видел в Турине нечто, поразившее его до глубины души. Однако совершенно очевидно, что во внутренних мотивах Ницше он разбирается хуже некуда, предполагая встретить в нем мстительную ненависть[13]. Обращенные к нему в одном из последних писем Ницше (№ 321) слова Честно говоря, я уже и не знаю, как выглядит то, что называют гневом он либо не помнит, либо попросту не способен воспринять. И Кезелиц с его простодушной первой реакцией («он имел право на манию величия») и его фантастическим предположением, что Ницше лишь «симулирует безумие», оказывается ближе если не к истине, то уж во всяком случае к живому мифу — к тому маршруту, который прочертил во внутреннем опыте человечества «прирожденный горовосходитель» Фридрих Ницше.
Игорь Эбаноидзе
17
Что есть тяжесть? Так вопрошает выносливый дух, так, подобно верблюду, опускается он и хочет, чтобы хорошенько навьючили его. (…) Все самое тяжкое берет на себя выносливый дух: подобно навьюченному верблюду, который спешит в пустыню, спешит и он в свою пустыню.
Ф. Ницше «Так говорил
Заратустра» («О трех превращениях»)
1859
1877

1 Вильгельму Пиндеру в Наумбург [Пфорта, середина февраля 1859]
Дорогой Вильгельм,
шлю тебе продолжение моей биографии. Потом будет несколько страничек. Пожалуйста, сбереги ее.
I
Было утро вторника, когда я вышел из ворот города Наумбурга. Поля вокруг еще тонули в предрассветных сумерках, и лишь на горизонте несколько тускло освещенных облаков возвещали приближение дня. Эти сумерки царили и во мне; в моем сердце пока не взошла настоящая солнечная радость. Страхи робкой ночи окружали меня, и, наполняя меня предчувствиями, лежало передо мной будущее, укрытое серой завесой. Впервые приходилось мне на долгий, долгий срок разлучиться с родительским домом. Я шел навстречу незнакомым опасностям; разлука вселяла в меня робость, и я дрожал при мысли о своем будущем. К тому же меня чрезвычайно угнетали предстоящий экзамен, который я расписывал себе в самых мрачных красках, и мысль, что отныне я никогда уже не смогу предаваться своим мечтам, а школьные товарищи станут преградой между мной и моими любимыми занятиями. В особенности же сжималась моя грудь от мысли, что я должен оставить любимых друзей и из уютного окружения вступить в новый незнакомый непреклонный мир. С каждой минутой мне становилось все страшней, так что, когда впереди замаячила Пфорта, я готов был признать в ней скорее тюрьму, чем alma mater. Я вступил в ворота. Священные чувства переполняли мое сердце; я вознесся к Богу в безмолвной молитве, и глубокий покой наполнил все мое существо. Господи, благослови входящего сюда и огради меня телесно и духовно в этом обиталище Святого Духа. Ангела своего пошли, чтобы тот победоносно провел меня через все искушения, коим я иду навстречу, и да послужит мне это место ко спасению во веки веков. Помоги мне в этом, Господи!
Аминь
21
2 Густаву Кругу
и Вильгельму Пиндеру в Наумбург [Пфорта, 14 января 1861]
Дорогие друзья
(…) Что мне сообщить о моей теперешней жизни? что у нас
много дел. Что от работы при этом отвлекают мысли о каникулах. Что для любимых
занятий остается мало, увы, слишком мало времени. Это все вы уже и сами
испытали и еще испытаете. Зачем же я буду огорчать вас еще больше? Право же,
куда как приятнее бежать из деспотического царства принуждения на просторы
свободной воли. Поэтому без дальнейших околичностей я хочу обратиться к
материи, которая на краткое время должна теперь занять ваше внимание. Речь идет
о преобразовании оратории. До сих пор все думали, что оратория занимает в
духовной музыке такое же место, как опера — в светской, но мне это суждение
кажется неверным. более того, умаляющим ораторию. Сама по себе оратория
величаво проста в сравнении с оперой, — собственно она и должна быть таковой
как возвышенная и притом строго религиозно возвышенная музыка. Так, оратория
отвергает все те средства, которые для усиления воздействия берет себе на
службу опера; оратория ни для кого не смогла бы выступать чем-то
сопроводительным, как это все еще обстоит для большинства с оперной музыкой.
Здесь не задействован ни один орган восприятия кроме слуха. Также и сюжет здесь
бесконечно проще и возвышенней, к тому же он по большей части известен и без
труда понятен всем, даже необразованным. Поэтому я думаю, что оратория как
музыкальный жанр стоит выше оперы, воздействуя непосредственнее, будучи при
этом проще в своих средствах и общедоступней по своей сути. Если же обстоит не
так, то причины надо искать не в самом жанре а отчасти в обращении с ним,
отчасти же в недостаточной серьезности нашего времени… Главную же причину
недостаточной популярности оратории следует, пожалуй, искать в том, что музыка
здесь часто неблагочестиво перемешана со светской. А главное требование
заключается в том, чтобы каждый ее такт словно бы нес на себе печать
священного, божественного. Итак, всякая оратория должна удовлетворять этим трем
требованиям: повсюду выказывать единый связанный характер, далее — глубоко проникать
в душу, и наконец — быть всегда строго религиозной и возвышенной. К этому
добавляется еще одно требование, действительно обязательное. Я имею в виду
необходимость исключить речитатив и найти ему соответствующую замену. Ведь
просто невозможно спеть сугубо непоэтическую фразу так, чтобы она не прозвучала
посторонней помехой. В качестве соответствующей замены никакой другой музыкальный
фрагмент тут не подойдет. Однако если повествование совершен-
22
но необходимо, то слова к звучащей музыке должны быть, думается мне, произнесены, а не спеты. Так в ораторию привходит новый элемент, а именно — мелодекламационный. Во всех же прочих случаях того, что не может быть спето, следует изо всех сил избегать. Пусть уж лучше связующие звенья, которые слушателю при обращении к столь известным сюжетам легко будет восстановить, заполняются музыкальными фрагментами соответствующего характера, чем повествованием. (…)
3 Густаву Кругу и Вильгельму Пиндеру в Наумбург — Пфорта, 27 апреля 1862
[+++]
Лишь христианское мировоззрение смогло внести такую мировую скорбь, фаталистическому
она совершенно чужда. Это <фатализм> не что иное как неверие
в собственные силы, предлог для отказа самому себе с решимостью избрать свой
жребий. Лишь когда мы признаем, что ответственность лежит на нас самих, что
упреки за неудавшийся жизненный путь следует адресовать самим себе, а не
каким-то высшим силам, — лишь тогда основные идеи христианства снимут свои
внешние покровы и станут для нас плотью и кровью. Христианство в сущности есть
дело сердца; лишь когда оно глубоко в нас укореняется, когда оно становится
сами складом нашей души, человек делается истинным христианином. В основных
постулатах христианства высказаны лишь главные истины человеческого сердца. Это
— символы, точно так же, как высшее всегда служит лишь символом еще более высокого.
«Блаженны верующие» означает не что иное как старую истину[14],
что лишь сердце, а не знание может сделать человека счастливым. То, что Бог
стал человеком, указывает лишь на то, что человек должен не в бесконечном
искать свое блаженство, но созидать свои небеса на земле; мечта о потустороннем
мире поставила человека в ложное положение по отношению к земной жизни. эта
мечта была плодом детской фантазии человечества. Пылкая душа юности
человечества воодушевленно присягает этой мечте, но высказывает при этом
провидчески тайну, коренящуюся в прошлом и прорастающую в будущее, — ту, что
Бог стал человеком. Так, через тяжкие сомнения и борьбу, человечество мужает:
оно признает в себе «начало, средоточие, завершение религии»1.
От души желаю вам благополучия
Ваш Фриц
23
4 Франциске Ницше в Наумбург [Пфорта, 2 мая 1863]
Дорогая мама,
(…) Что касается моего будущего, то у меня есть практические соображения, и они не дают мне покоя. Решение, что́ именно мне следует изучать, не придет само собой. Так что я должен сам все обдумать и сделать выбор, а этот выбор дается мне с другом. Разумеется, мое стремление — целиком изучить свой предмет, но тем сложнее выбор — ведь нужно выбрать такой предмет, занимаясь которым делаешь нечто целое. А сколь обманчивы часто такие ожиданья. С какой легкостью человек позволяет себе довериться минутным предпочтениям, или старым семейным традициям, или какому-то особенному желанию, так что выбор профессии превращается в лотерею, в которой слишком много пустых билетов и слишком мало выигрышей. Сейчас я еще в особенно затруднительном положении, поскольку у меня на самом деле множество направленных на самые разные предметы разрозненных интересов, всестороннее удовлетворение которых сделало бы меня человеком ученым, но едва ли мастером своего дела. Так что от некоторых интересов, очевидно, я должен отказаться. И, очевидно же, обзавестись некоторыми новыми. Но как знать, быть может, среди того, чем я пожертвую, окажутся самые мои любимые детища! (…)
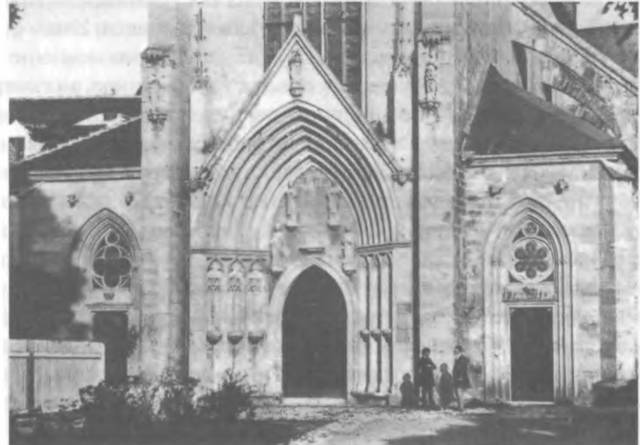
24
5 Франциске и Элизабет Ницше в Наумбург [Пфорта, 6 сентября 1863] Воскресенье вечером, около десяти часов
Всем привет!
(…) Итак, сегодня всего несколько строк, чтобы поведать вам, что я еще жив, обложился книгами и до следующей субботы даже помыслить не могу вырваться из их окружения. Притом я весел, а подчас огорчен, переживаю то хорошие и веселые, то досадные события, но часы идут и продолжают тикать — садится ли на них муха или поет поблизости соловей.
Между тем осень и ее спелый воздух изгнали соловьев, а мухи подхватили от него простуду. Я же люблю осень всей душой, хотя и знаю ее скорее по своим воспоминаниям и своим стихам.
А воздух так кристально чист, и видишь все так остро до самого неба; мир будто обнажен перед глазами.
В редкие минуты, когда я могу думать о чем заблагорассудится, я ищу слова к мелодии, которая во мне, и мелодию к словам, которые тоже во мне, но то и другое, что во мне есть, не совпадает, хоть и живет в одной душе. Но таков уж мой жребий! (…)
Некоторые абитуриенты представляют себе сейчас жизнь, как пирог, от которого они ухватили небольшой немного зачерствелый кусочек и вот уже собираются приняться за куски побольше и послаще.
И смотри-ка, остаются еще жалкие объедки, которые называют жизненным опытом, и как-то неловко бросать их псам. Должно быть, из пиетета. Ведь кому-то они стоили зуба и даже не одного.
До сих пор было правдивое и поэтичное предисловие к моему письму. Теперь же настал черед главного, заключающегося в том, что я о вас часто думаю, во-вторых, что мне нужны белые носовые платки, в третьих, что мне жизненно необходимы следующие ноты:
Шуман: Фантазии, 2 тетради, «Вечер» и т. д.
«детские сцены». 1-я тетрадь…
Фриц
25

6 Элизабет Ницше в Наумбург [Пфорта, предположительно 11 сентября 1863] Пятница, около 5 часов утра
Привет, привет!
Ну вот, я развернул его, твое письмо, стало быть, и принялся читать. Читал и смеялся и когда дочитал — тоже смеялся. В какой ты, однако, пришла ужас оттого, что написал я не как обычно — о грязных чулках, всевозможных пожеланиях моего желудка и бумажника и тому подобных высоких материях, которые делают мои письма столь милыми твоему сердцу, а вместо этого в стиле какой-нибудь институтской ба-
26
рышни ужасными сентиментальными фразами выразил пожелание заполучить некоторые ноты; желание, безусловно, довольно скромное, исполнения которого я, однако, дожидался напрасно.
Мне жаль, что я тебя напугал, и обещаю больше так не делать, тем более коли мне приходится опасаться, что напуганная чудовищностью письма ты напрочь позабудешь его содержание.
Вчера у нас на обед было неважное мясо, а завтра мы будем есть клецки.
У одной из моих подметок появилось отверстие, которое принято называть дыркой.
Сегодня в саду старшеклассников нашли пташку, которая уже начала разлагаться. Это был воробей. От него шел амбре.
Когда идет дождь, на дворе сыро, и мы не совершаем прогулок. Тем не менее сегодня прогулка была.
Попутно замечу, что я — «добропорядочный» старшеклассник, ты — добропорядочная сестра…
И поскольку мы все в оном качестве пребываем, имею честь раскланяться. (…)
Фредерик
7 Рудольфу Буддензигу в Лейпциг [Наумбург, 12 июля 1864]
(…) Что касается Ваших мыслей по поводу воздействия музыки, то наблюдение, сделанное Вами на собственном примере, можно в той или иной степени отнести ко всем музыкально организованным натурам. Между тем это нервное возбуждение, этот трепет вызываются не одной лишь музыкой, они — спутники всех высших искусств. Вспомните схожие впечатления, возникающие при чтении шекспировских трагедий. Так же, как в них то одно-единственное слово, то впечатляющая сцена, то какой-нибудь разительный контраст возбуждают в нас это чувство, так же и музыкальные произведения совершенно разного рода способны вызвать в нас одно и то же ощущение одинаковую нервную дрожь. Следует однако помнить о том, что это — лишь физическое воздействие, предшествует же ему духовная интуиция, чье воздействие на избранные, чуткие и возвышенные натуры подобно внезапному волшебству. Не следует думать, что эта интуиция основывается на чувстве, на восприятии. Нет, она заключена в сокровеннейших владениях познающего духа. Не кажется ли, будто открылась некая небывалая ширь,
27
не чувствуете ли Вы, что заглядываете в другой мир, обычно сокрытый от людей?
Благодаря этой духовной интуиции слушатель приближается к композитору настолько, насколько это вообще возможно. Такое воздействие — самое большее из того, что может дать искусство, оно само есть творческая сила. Возможно, Вы сочтете выражение неподходящим, но два года назад, когда я писал друзьям свои соображения поэтому поводу, то назвал такое воздействие «демоническим». Если мы вообще можем получить какое-то представление о высших мирах, то его следует искать здесь.
Впрочем, материя эта весьма обширна, и я рассчитываю на Ваше снисхождение, коли набросал здесь достаточно случайные фразы. (…)
Я пишу работу о Феогниде Мегарском на латыни; работаю над ней с понедельника по субботу, с безмерным прилежанием, и скоро закончу. В ней, по-видимому, будет больше 60 страниц.
Я не знаю, буду ли учиться в Лейпциге. В первую очередь я надеюсь оказаться в Бонне, но если это не выйдет, то рассчитываю на Лейпциг. (…)
Ваш Ф. В. Н., досадующий, что не смог написать Вам письма получше. Но виной ὀτοτοῖ1 — жара!
День вторника, 26 гр. Реомюра в тени
8 Франциске и Элизабет Ницше в
Наумбург [Бонн, конец февраля 1865]
Дорогие мама и Лизбет,
не буду скрывать, что ваше последнее письмо и присланные деньги оставили осадок и сладкий, и горький одновременно. С одной стороны, мне бы радоваться, что я могу теперь привести в порядок свои финансы и не тревожиться ввиду наступающего нового семестра. Однако чтение твоего доброжелательного письма, милая мама, добавило в эту радость столько горечи, что я, испуганный и возмущенный, толком даже не знаю о чем, отодвинул от себя деньги и письмо и погрузился в раздумья.
Итог этих раздумий я не собираюсь утаивать. Я должен повиниться, что жил не вполне по средствам. Я продолжал жить в том же стиле и
28
по тому же обыкновению, что и раньше, то есть без особого расточительства, но и не так, чтобы совсем уж скромно. Правильно будет сказать, что я, пожалуй, ни разу не произвел впечатление бедного человека.
Это было, наверное, с моей стороны недооценкой существующего положения вещей. Мне будет действительно больно привыкать к мысли, что я должен жить по-другому.
К этому прибавляется, что я, должно быть, не во всех случаях действовал наиболее практическим образом. Но я многому научился в том, как следует устраивать свою жизнь.
Наконец, мои увлечения музыкой и театром обходятся, конечно, недешево, зато у меня значительно меньше, чем у других, уходит на кутежи и еду.
С этих трех точек зрения я теперь и рассматриваю свои траты. Прибавляется, правда, еще одно, что я должен с сожалением признать, — и тут ты легко можешь проверить, насколько соответствуют истине мои объяснения. Корпорация1 требует очень немалых расходов. Тем не менее она мне день ото дня становится милее. В ней сейчас тон задают выпускники Пфорта, так что наш дух здесь главенствует.
Наконец, подумай о том, что жизнь в Бонне — в этом я могу тебя заверить — гораздо дороже, чем в других университетских городах. Дольше, чем до Михайлова дня2, я здесь эдак не протяну. Затем, если вам хочется, я, как Дойзен, отправлюсь на воинскую службу в Берлин (…) Нести службу в Берлине решительно дешевле, чем в Галле, где к тому же обхождение унтер-офицеров с добровольцами куда как неблагороднее… Может быть,, это было не очень-то разумно, что я не отправился служить в первый же год. Но после Пфорты, — и сразу унтер-офицеры!.. Нет, «свободу любит зверь пустыни»…3
29
9 Элизабет Ницше в Кольдиц — Бонн,
воскресенье после Троицы [11 июня 1865]
Дорогая Лизбет,
после такого прелестного, расцвеченного девичьими стихами письма, которое я от тебя получил, было бы несправедливо и неблагодарно заставлять тебя ждать ответа, тем более что у меня предостаточно материала…
Что касается твоей мысли, что истина всегда на стороне более сложного, то здесь я с тобой отчасти согласен. Тем не менее сложно ведь постичь, что дважды два не равно четырем, но может ли такая арифметика быть истинной?
С другой стороны, так ли уж сложно просто принять все то, в чем человек воспитывался, что постепенно укоренилось в нем, что слывет истиной в кругу родных и просто большинства добрых людей, — и что вдобавок и в самом деле утешает и возвышает; труднее ли это, чем в борьбе с привычным, ступая по неизведанной тропе, испытывая не только неуверенность, но нередко и угрызения совести, часто без всякого утешения, но неизменно преследуя вечную цель истины, красоты и добра, идти новым путем?
Разве задача состоит в том, чтобы обрести такой взгляд на Бога, мир и гармонию, благодаря которому будешь чувствовать себя наиболее комфортным образом? Разве подлинному исследователю не должен быть прямо-таки безразличен результат его исследования? Разве, исследуя, мы ищем покоя, мира, счастья? Нет — истину, будь она даже страшнее и отвратительнее нам можно себе вообразить!
И еще последний вопрос, если бы мы с детства верили, что вся благодать для души исходит от кого-то другого, нежели Иисус, — что скажем, от Магомета, — разве не очевидно, что мы все равно были бы причастны той же самой благодати? Несомненно, одна лишь вера дает благословение, а не та объективность, которая за ней стоит. Я пишу тебе это, дорогая Лизбет, лишь как возражение на распространеннейший аргумент верующих, которые, опираясь на собственные внутренние переживания, делают вывод о безошибочности своей веры. Всякая подлинная вера и так безошибочна — она выполняет то, что на нее возлагается, однако не дает ни малейших оснований для доказательства объективной истины.
И вот здесь пути людей расходятся: если ты стремишься к душевному покою и счастью, что ж — веруй; если же хочешь посвятить себя истине, тогда исследуй. Между тем и другим есть еще множество промежуточных позиций. Но в конечном счете все сводится к главной цели.
30
Прости мне это скучное и не особо блещущее идеями рассуждение… Но коли фундамент был серьезен, тем более веселенькое задание собираюсь я на нем возвести. На сей раз я расскажу тебе о нескольких чудесных днях.
В пятницу 2 июня я отправился в Кельн на нижнерейнский музыкальный праздник. В тот же день там открылась международная выставка1. Кельн в эти дни производил впечатление настоящий метрополии. Бесконечная пестрота языков и нарядов, неимоверное число карманных воров и прочих мошенников, все отели, даже на самых выселках, заполнены, город чудесно разукрашен флагами — таково было внешнее впечатление. Мне как певцу выдали красно-белый шелковый бант и прицепив его на грудь, я отправился на репетицию… Наш хор состоял из 182 сопрано, 154 альтов, 113 теноров и 172 басов. Тут же оркестр, в котором около 160 человек, из них 52 скрипки, 20 альтов, 21 виолончель и 14 контрабасов. Были приглашены семь лучших солистов и солисток. Всеми дирижировал Хиллер. Многие из дам отличались молодостью и красотой. На трех главных концертах они все выходили в белом, с синими бантами и настоящими или искусственными цветами в волосах… Мужчины — во фраках и белых жилетах. В первый же вечер мы засиделись глубоко за полночь, в конце концов я заснул в кресле у одного старого «франконца», так что поутру был весь согнут по частям, как перочинный ножик… Первый большой концерт состоялся в воскресенье. «Израиль в Египте» Генделя. С неподражаемым воодушевлением мы пели при 50 градусах по Реомюру. Билеты в Гюрцених на все три дня были распроданы… По всем отзывам исполнение было превосходным. Были моменты, которые никогда не забуду. Когда Штегман и Юлиус Штокгаузен, «король басов», спели свой знаменитый героический дуэт, разразилась настоящая буря ликования, восьмикратное браво, трубы играли туш, должно быть, три сотни дам засыпали певцов своими тремястами букетами.
Вечером мы, боннцы, собрались было все вместе кутить, но были приглашены кельнским мужским певческим союзом в ресторацию Гюрцениха, где и провели полночи — под карнавальные тосты,четырехголосное пение и в обстановке всеобщего воодушевления. В три часа утра мы с двумя приятелями решили покинуть компанию; мы обошли весь город, звонили во все двери и нигде не находили пристанища. Даже почта нас не приняла, — нам пришло в голову заночевать в почтовых экипажах. Наконец после полутора часов поиска нам открыл ночной портье в отеле «Дю Дом». Мы повалились на скамьи в обеденном зале и че-
31
рез мгновение уже
спали. За окном серело утро. Через полтора часа пришел коридорный и разбудил
нас, нужно было убирать зал. в юмористически отчаянном настроении мы отправились
в путь, перешли через вокзал в Дойц и, позавтракав,
прибыли на репетицию. Где, попев малость вполголоса, я с превеликим энтузиазмом
уснул (под сопровождение тромбонов и барабанов). Зато на концерте, начавшемся в
шесть часов и продолжавшемся до 11 вечера, я был уже бодрячком. И исполнялись
ведь любимейшие мои вещи — от музыки Шумана к «Фаусту» до ля мажорной симфонии Бетховена. (…)
10 Раймунду Гранье в Грюнберг [Наумбург, сентябрь 1865
(…) Раз уж ты с такой сердечной открытостью посвятил меня в свои заботы, я попытаюсь продолжить в том же ключе и рассказать тебе о моем собственном опыте на данном поприще. Я состоял в корпорации, так называемом буршеншафте, обладавшем тем достоинством, что она объединяла в себе практически всех выпускников Пфорты. Откровенно говоря, это было почти единственным ее достоинством, поскольку тому, чего я ждал от буршеншафта, она никак не соответствовала, даже при моих весьма скромных запросах. Кажется, что наша молодежь и в самом деле слишком мало думает. Корпоративная жизнь постоянно рискует сесть на мель формальности, поверхности, бездумности всяческого рода.

32
«Нашенскость подобного сорта мне даже вспоминать невыносимо. Политические убеждения присутствовали лишь в отдельных головах, корпоративное чувство было соответствующим у большинства, которое намеревалось наслаждаться прекрасной молодостью, пьянствуя, скрещивая клинки и пуская пыль в глаза. О состоянии нравов я и писать не буду — оно было достаточно прискорбным.
В этой массе заложено зерно беспробудной обывательщины. Эта бескрылость, косная серьезность, эта заурядность, обыденность помыслов, эта черствейшая трезвость, которая отвратительнее всего обнаруживает себя в минуты опьянения, — боги, как же я доволен, что ускользнул из этой орущей пустыни, из этой пустотелой полноты, от этой старческой молодости!
Мой дорогой Гранье, ты совершенно прав: люди, которых можно любить, более того, люди, которые нас понимают, до смешного редки. Но мы сами виной тому: мы опоздали лет на 20—30 с появлением на свет. Или же это опять-таки иллюзия, благодаря которой та живая духом эпоха является перед нами в таком ярком свете? Ведь мы, бедняги, постоянно обманываем себя, едва лишь сочтем что-то минувшее прекрасным. Наше счастье есть заблуждение, а счастливейшие — те, кто заблуждаются глубже всех.
Я часто спрашивал себя, действительно ли счастье является для человека самой желанной целью, ведь тогда тупица был бы прекраснейшим представителем человечества, а наши герои духа, поскольку «мышление умножает скорбь»1[15], — по меньшей мере глупцами, отпавшими от рода обезьянами или полубогами, причем последнее было бы поистине наихудшим жребием. Ведь нынешние естествоиспытатели предпочитают вести нашу родословную от обезьян, а все возвышающееся над звериным искореняют как алогичное. И, клянусь Зевсом, лучше уж обезьяна, чем алогичность. Возьми любое направление науки, искусства: в наши дни обезьяна предстает тут во всей красе, но куда же подевался Бог? Неприличным было бы выказывать даже мировую скорбь, если бы не соответствующая обезьянья гримаса, которую нам всем скорчил Байрон…
В хвосте у этой вереницы алогичных высказываний плетется действительность. А она таков, что ты отправляешься в Берлин, я — в Лейпциг. Ослов мы встретим там немало. (…)
33
11 Герману Мушаке в Берлин — Наумбург, 20 сентября 1865
(…) Я наслаждаюсь почти деревенским покоем провинциального городка и прилежно вглядываюсь в ясную голубизну воздуха, а также в моего чрезвычайно бездуховного Феогнида. С кофе я поглощаю немного гегелевской философии, а если плохой аппетит, то принимаю «штраусовские» пилюли. (…)
Я часто сам представляюсь себе таким вот, как этот осенний день, — размеренно спокойным, при этом (видит небо!) скучным, но в совершеннейшем умиротворении…
Время от времени кто-нибудь здесь умирает или какой-нибудь милый беззлобный слушок по-старушечьи ковыляет из дома в дом. я, кстати, обнаружил тут персонаж для романа — в лице королевского прусского кассационного советника. Кошки мурлычут на солнцепеке, а ветер играет в прятки в рыжей листве. Сливы уродились красивыми и большими, но стоят дорого — равно как и масло. Это оттого, что у короля1 и маневров аппетит, за который первый расплачивается монетой. Собирался он приехать и в Пфорту. 15 старшеклассников заказали себе фраки, и вот ведь — фраки прибыли, а король — нет. Наумбург отправил ему в Мерзебург наумбургское вино, в деревне сказали: чтобы сделать ему кислую мину2. (…) Давеча умер кондитер: единственный, к которому я охотно захаживал, — и вот он-то имел бестактность умереть, испортив мне аппетит. О, счастливый Наумбург, с твоим кондитером, с твоими советниками, с твоими кошками и Богородицами3, тебя-то должен я покинуть? (…)
12 Франциске Ницше в Кольдиц [Лейпциг, 22 октября 1865]
Моя милая мама,
(…) Очень пасмурный воскресный день. Дождь тихо капает по цинковой крыше, как раз между двумя моими окнами. Вокруг живет мно-
34
го людей, и я могу заглядывать в их жилища: сплошь недовольные угрюмые лица. И в садах, которые раскинулись слева и справа от меня, все желто, голо, безрадостно.
Таков мой мир! Мое жилище кажется вполне сносным. Если я буду здесь много работать, оно, пожалуй, станет уютным. Сейчас же оно еще непривычно для меня, как новое платье[16].
Тем не менее я имел уже здесь уйму неприятностей. Куда подевался мой багаж? Как мог я доверить вам заботу о нем! но нет, вы позаботились о нем, позаботились наилучшим образом. А вот кто-то другой снебрежничал. Проклятые железные дороги, проклятые экспедиторы! Я готов злиться на весь мир: куда запропастилась моя рукопись о Феогниде? И вот уже миновал день, когда я мог воспользоваться ею для дела. А ведь я так чудесно поработал и пришел к таким замечательным результатам! (…)[17]
13 Франциске
и Элизабет Ницше в Наумбург — Лейпциг, воскресенье 5 ноября 1865
Мои дорогие мама и Лизбет,
Мы снова вошли в колею привычных трудов, мыслей, хлопот, развлечений; сколь важен для меня теперь каждый день и сколь многое решается или должно решиться в тесной черепной коробке! А вы? Вам в самом деле так легко переносить все это противоречивое существование, где не ясно ничего кроме того, что все неясно? Мне всегда кажется, что вы преодолеваете это шутя. Или я ошибаюсь? Какие же вы счастливые, если это действительно так.
Или и на это я снова услышу ваше шутливое: «это же чемодан1, всего-навсего чемодан так расстраивает его». Какая наивность! Неподражаемо! Но в таком случае это говорило бы о том, как мало понимаем мы друг друга.
«Исполняй свой долг!» Хорошо, мои драгоценные, я исполняю его или стремлюсь к тому, чтобы его исполнить, но только где он заканчивается? Откуда мне знать все то, что составляет мой долг? И предположим, я бы исполнял свой долг в полной мере, что же с того? Неужели вьючное животное есть нечто большее, нежели человек, коли оно точнее последнего исполняет то, что требуется? Исполняют ли свой человеческий долг тем, что удовлетворяют требованию обстоятельств, ко-
35
торые нам сроду уготованы? Кто же велит нам покоряться нашим обстоятельствам?
Но если мы этого не желаем, если мы решились прислушиваться только к себе и вынуждать людей принимать нас такими, как мы есть, что тогда? Для чего это нам? Затем ли, чтобы обеспечить себе как можно более сносное существование? Есть два пути, мои дорогие: стараться и привыкать быть как можно ограниченней, и если в конце концов прикрутил фитилек своего духа как можно ниже, то и собираешь себе здесь богатств и живешь мирскими наслаждениями. Или же ты отдаешь себе отчет в том, что жизнь ничтожна, что мы ее рабы, коль скоро хотим наслаждаться ею, — и тогда отказываешься от жизненных благ, упражняешься в воздержании, становишься скуп с самим собой и щедр душой со всеми остальными — ведь для нас естественно сострадать товарищам по несчастью, — короче говоря, живешь сообразно строжайшим требованиям первоначального христианства, а не нынешнего — сладенького и расплывчатого. Христианином невозможно быть «заодно», эдак между делом или потому, что это модно.
Ну и как, выносима ли теперь жизнь? Конечно, ведь ее бремя становится все легче и никакие путы не удерживают нас более при ней. Она выносима потому, что может быть безболезненно отринута*.
Будьте здоровы, мои дорогие
Фриц
…Стипендия мне не нужна, — мои соображения на этот счет вам известны. Я бы и так ее не получил, поскольку она распространяется только на прусские университеты. Так что не беспокойтесь о таких вещах. Если будет не хватать, стану давать уроки.
*О реакции
Франциски Ницше на подобные рассуждения сына можно судить по ее ответному
письму от 12 ноября 1865 г.: «Твое милое письмо было для меня и на этот раз,
как всегда, особенной радостью, хотя мне гораздо милей просто поболтать в
письмах, чем подобные воззрения и рассуждения. Я придерживаюсь того убеждения,
что всякому человеку, и прежде всего христианину, следует переживать и
переносить такие вещи до конца, причем ежедневно и ежечасно, пока он не сподобится
того, чтобы рассматривать жизнь как дар Божий и использовать время, которое нам
отпущено, столь достойно и по-христиански, насколько это для нас, бедных
смертных, возможно, покуда мы после этого времени подготовки не внидем милостью Господа нашего в вечную отчизну, да поможет
нам всем в этом Господь Бог, заступничеством своего Сына и Святого Духа.
36
Я надеюсь,
что у тебя все хорошо, мой милый славный Фриц, потому что, когда ты пишешь так,
как в прошлый раз, то я все время тревожусь за тебя, поскольку из этого можно
заключить о твоих внутренних противоречиях и неудовлетворенности. Препоручи
сердце твое Господу и Богу нашему, и вся мудрость земная, которая должно быть,
встретится тебе в толстых томах, будет посрамлена. Разве нет у тебя, более чем
у всех остальных, причин быть довольным, что после такой тяжкой потери Господь
все так милостиво устроил и не оставил тебя и нас всех, и разве не должна быть
прежде всего юность по-настоящему восприимчива и благодарна за это? Ты,
благодарение Богу, здоров телом и душой, наделен некоторыми способностями, и у
тебя есть жизненная задача — стать позднее надежной опорой твоей матери, а
может быть, и сестре, мой славный Фриц, так что стремись к тому, чтобы
по-настоящему исполнить эту свою жизненную задачу, и ты будешь счастливым хорошим
человеком, у которого все будет получаться».
Н., в свою очередь, пишет в
одном из последующих писем (Франциске и Элизабет Ницше в Наумбург, 20 мая 1866
г.): «…В сущности не вижу никакой сущности, ради которой следовало бы продолжать
это письмо. Новостей я не знаю, мои филологические изыскания вас не интересуют,
философских рассуждений вы не любите, про письмо, деньги и белье уже
поговорили, и осталось только распрощаться и раскланяться».
14 Карлу
фон Герсдорфу в Герлиц — 7 апреля 1866, Наумбург
(…) Три вещи суть мои отдохновения, хотя отдохнуть случается редко: мой Шопенгауэр, музыка Шумана, наконец, одинокие прогулки. Вчера все небо было в грозовых тучах, я поспешил на соседний холм — его называют «Лойш» (может быть, ты сумеешь растолковать мне это название?). На вершине была хижина, человек, резавший двух ягнят, его сыновья[18]. Тут со страшной силой разразилась гроза, с ветром и градом, — я испытал ни с чем не сравнимый подъем и явственно осознал, что по настоящему понять природы мы можем лишь когда вырываемся к ней из наших забот и печалей. Что мне было до человека с его беспокойными желаниями! Что мне было до всех этих вечных «ты должен», «ты не должен»! как непохожи на это молния,буря, град, свободные стихии, не ведающие морали! Как счастливы, как могучи они в своей чистой воле, не омраченной интеллектом!
37
Меж тем у меня набралось достаточно примеров тому, так[19] тускло мерцает интеллект у нас, смертных. Недавно я разговаривал с одним, который вскоре собирается отправиться миссионером в Индию. Кое о чем я его выспросил; он не читал никаких индийских книг, в жизни не слыхивал слова «упанишады» и твердо не намерен пускаться в разговоры с брахманами, поскольку они философски чересчур подкованы. Святая простота!
Сегодня я слушал остроумную проповедь Венкеля о христианстве: «Вера, которая завоевала мир», — невыносимо высокомерную в отношении всех нехристианских народов и при этом все-таки очень толковую. Собственно, он в каждое мгновение обозначал словом «христианство» разные вещи, что всякий раз давало верный смысл, в том числе и с нашей точки зрения. Если фразу «христианство завоевало мир» заменить на фразу «чувство греховности, короче говоря, метафизическая потребность завоевала мир», это ведь не вызывает в нас никакого протеста. Надо только быть последовательным и продолжать: «настоящие индусы — христиане», а также «настоящие христиане — это индусы». Но по существу подмена таких слов и понятий, которые уже раз утверждены, не совсем честна, — тех, кто не силен в духовных вопросах, она совершенно собьет с толку. Если христианством называется «вера в историческое событие или историческое лицо», мне с таким христианством не по пути. Но если так называется потребность в избавлении, то я ставлю его чрезвычайно высоко и не вменяю ему в упрек даже того,что оно пытается поучать философов — ведь их так мало по сравнению с огромной массой нуждающихся в избавлении, к тому же слеплены они из того же теста. Да если б к тому же все, кто занимается философией были сторонниками Шопенгауэра! А то ведь сколь часто под маской философа скрывается ее величество «Воля», которая пытается возвеличить себя в труде. (…)
15 Паулю Дойзену в Тюбинген [Наумбург, сентябрь 1866]
Дорогой друг,
Если бы только я хоть что-нибудь знал о твоей судьбе!.. Но поистине, это не моя вина. Приходится предположить, что мое последнее, августовское письмо не дошло до тебя, потому что, откровенно говоря, мне было бы трудно извинить и понять, если ты оставил без ответа именно это письмо… в котором я настоятельнейшим образом просил тебя
38
сбросить свою медвежью шкуру теолога и показать себя молодым львом филологии.
Ad vocem1 медвежья шкура. Прошу тебя не обижаться на эти слова. Наверняка ты много и хорошо поработал, однако я более не в состоянии ценить эту работу, ежели не верю при этом в одно условие — а именно, что данная работа составляет суть твоей профессии. А как раз в это я не верю, поскольку, по твоим собственным свидетельствам, ты сам в это не веришь. И даже если ты сейчас думаешь об этом иначе, чем когда писал свое последнее письмо, я со своей стороны никогда не поверю в то, что ты занимаешься своим делом, покуда ты готовишься к экзамену по теологии.
Дорогой Пауль, это и в самом деле не шутка — на третьем десятке все еще находиться в неведении относительно своей профессии[20]. Нам, людям, отпущено совсем не много продуктивных лет, и они безвозвратно уходят с означенным возрастом. Именно в эти годы рождаются те наши оригинальные взгляды, которые всей последующей жизнью будут развиты, подкреплены примерами и опытом. А поскольку всю жизнь нас сопровождает наша профессия, нужно, чтобы именно в ней были обретены эти взгляды и воззрения. У нашей филологической науки есть то свойство, что в ней, дабы узнать нечто новое, найти новаторский метод необходимы и известная степень учености и рутины т. е. опыта и прилежания. Многое нужно изучить и переварить, но еще больше нужно искать, комбинировать, делать выводы.
Для этого нужно время, много времени. Я вспоминаю всегда слова Ричля, который мечтал бы вернуться в пору своего студенчества, поскольку это единственная пора жизни, когда можно работать много и связно. Ты понимаешь, дорогой друг, к чему я клоню. Мне неведомо, до какой степени это в твоих силах. Во всяком случае, я опасаюсь, что падаешь ты (а твою теологическую учебу я могу воспринять лишь как твое падение) не под воздействием собственной силы тяжести, как все прочие тела, но что тебя тянут вниз другие. Кто они — в принципе небезразлично, но, учитывая жизнеопределяющую важность этого шага, этих «других» вполне можно не брать в расчет.
(…) чем больше и чем с большей ясностью я, стоя в преддверии филологии, обращаю взгляд к ее святилищам, тем более хотелось бы мне найти адептов для этой науки… К настоящему филологу довольно скоро приходит прочное и укрепляющее душу ощущение жизненного призвания. (…)
39
16 Карлу фон Герсдорфу в Берлин — Кёзен, 11
октября 1866
(…) Я сижу в рабочем одиночестве в Кёзене, где мы с моей матерью, спасаясь от наумбургской холеры, обитаем вот уже четыре недели. (…) Некоторые дни были такими мягкими и солнечными, что я не переставая вспоминал то единственное и безвозвратное время, когда, впервые освободившись от школьного гнета, в вольном гордом предчувствии неисчерпаемого в своих возможностях будущего впервые увидел Рейн. Как жаль, что эта искренняя поэзия пала жертвой тех самых мучений, которые незрелый студент с такой легкостью представляет себе источниками радости.
Кстати, оглядываясь на прошедшее, я не могу не испытывать благодарности по отношению к своему настоящему… Последний год учебы, проведенный в Лейпциге, особенно дорог мне по контрасту с боннской жизнью. Там мне приходилось подчиняться непонятным законам и формальностям, там мне навязывались развлечения, которые были мне противны, там я, глубоко досадуя, влачил бездеятельное существование среди малоотесанных людей. В Лейпциге же все нежданно-негаданно оказалось наоборот. Приятные, добрые, дружеские отношения, едва ли заслуженная опека со стороны Ричля, множество товарищей по учебе, имеющих схожие устремления, хорошие квартирные хозяева, хорошие концерты и т. д., — поистине достаточно, чтобы Лейпциг стал для меня очень близким городом! Так что можешь представить себе мое удовольствие, когда недавно в <кёзенском заведении> «Храбрый рыцарь» мне попалась газета «Ляйпцигер Тагенблатт». Я прочитываю ее ежедневно от корки до корки, изучаю меню в заведениях, анонсы концертов, рецензии доктора Э. Кн., списки заболевших холерой, всякие мелкие перебранки и пререкания, рупором которых служит этот листок. (…)
Музыкой я занимался мало, поскольку в Кёзене в моем распоряжении нет рояля. Тем не менее со мной оказалось переложение для клавира «Валькирии» Рихарда Вагнера, впечатление от которой у меня самое противоречивое, так что я не решаюсь высказать никакого суждения. Большие красоты и достоинства уравновешиваются столь же заметными уродствами и недостатками. По Бухминдеру же и по Ризе +a + (–a) дает 0. (…)
17 Карлу
фон Герсдорфу в Шпандау — Лейпциг, среда, 16 января 1867
Мой дорогой друг,
Вышло так, что в те же первые дни января я в Наумбурге тоже стоял у смертного одра одной из моих близких родственниц… И все же когда я получил твое письмо, мой дорогой, бедный, глубоко раненый друг, меня охватила гораздо более жгучая боль… Здесь была завершившаяся жизнь, которой хватило на множество добрых дел, добравшаяся в это немощной теле до глубокой старости, — у нас у всех было чувство, что телесные и духовные силы ее исчерпаны и что уход покойной родит чувство утраты в одной лишь нашей любви. Но что ушло вместе с твоим братом, всегда вызывавшем и у меня чувство восхищения и уважения![21]
С ним от нас ушла редкая, благородная, подлинно римская натура[22], гордиться которой мог бы и Рим в свои лучшие времена, и гордиться которым куда больше прав у тебя как брата. Ведь как редко наше жалкое время порождает таких героев! Но ты знаешь и сам, что говорили об этом древние: «Любимцы богов умирают рано». (…) Что ж, дорогой друг, теперь ты — я замечаю это по тону твоего письма — узнал на собственном опыте, почему наш Шопенгауэр превозносит страдания и горести как благословенный удел… Ты тоже познал и ощутил очищающую, внутренне успокаивающую и укрепляющую силу боли. Сейчас настал такой момент, когда ты сам можешь проверить, что истинно в учении Шопенгауэра. Если четвертая книга его главного труда производит на тебя сейчас отталкивающее, мрачное, тяжкое впечатление, если она не в силах возвысить тебя и вывести из жгучей внешней боли в то щемящее, но счастливое состояние, которое охватывает нас при звуках благородной музыки, в то состояние, когда перед тобой словно бы спадают бренные покровы, — если она не в силах сделать этого, то и я не желаю иметь более ничего общего с этой философией. Лишь исполненный скорби вправе и в силах выносить решающий приговор в таких вещах; мы же, прочие, находясь посреди потока жизни и лишь стремясь душою к отрицанию воли как к благословенной пристани, — мы не можем судить о том, способна ли такая философия быть утешением и в пору глубокой скорби. (…)
Напоследок, дорогой друг, попрошу тебя об одном: не утруждай себя написанием ответа. В скором времени ты получишь от меня полный отчет в подробном послании, написать которое сегодня я не в силах. (…)
41
18 Карлу фон Герсдорфу в Шпандау [Лейпциг,
20 февраля 1867]
(…) Сегодня состоялась великая Лейпцигская выборная битва — исход ведшейся всеми возможными средствами партийной борьбы; сегодня был оглашен приговор в деле Стефани vs Вехтер. Чем все обернулось — этого я пока выдавать не буду.
Ты знаешь результат первых выборов: наш представитель, превосходный, безупречный vir strenuo<s>us[i] Стефани… взял верх с преимуществом в тысячу голосов над столпом саксонского партикуляризма господином Вехтером. Тем не менее этой победы было недостаточно, чтобы получить абсолютное большинство, не хватило 200 голосов. Так что должны были провести переголосование, в котором лидеры третьей и четвертой партий Вюкерт и Вуттке уже не принимались в расчет. Оба они самым незавидным образом провалились, особенно Вуттке… который был поднят на щит так называемой Народной партией — в сущности, оголтелыми пруссофобами, — а заем свалился с него с 300 поданными за него бюллетенями…
Вюркерт, который, как сказано в газете, зело велик как пивовар, человек, узник, поэт и оратор, был в последний момент выдвинут лассалеанцами и раздут таким потоком рекламы, что сам он не сомневался в своей победе. В честь него в воскресенье было устроено народное собрание под открытым небом, которое, по скромным подсчетам, посетили от 12 до 15 тысяч человек.
Сопровождаемый звуками превосходного органа, античной манере запахивая полы своего кучерского пальто, он держал предвыборную речь — в весомых выражениях о вещах совершенно невесомых, поскольку нереальных: например, о некоем европейском государстве рабочих, — затем предложил всем выразить отношение к его избранию и объявил, что все собрание высказалось за него, лишь четырьмя голосами против. То был оптический обман, поскольку в день выборов за него было подано лишь 900 голосов.
Теперь все зависело от провалившихся партий и их новых диспозиций. Агитация велась неустанно и повсеместно… не было недостатка и в подтасовках, к пример… была использована речь Стефани, в которой тот обещал выполнять свои обязанности вицебургомистра, выражая однако готовность принять народный выбор, если тот паче чаяния падет на него. Вторую часть этой фразы опустили, так что могло показаться, будто Стефани отводит свою кандидатуру…
Короче, все средства были пущены в ход к сегодняшнему дню. Выдался он пасмурным и туманным. У избирательных участков скапливались праздные народные толпы, развевались флаги, пестрели красочные плакаты. Днем мы втроем отправились в Розенталь и додумывалась вопросить об исходе выборов оракула. Все возможные попытки давали только один результат: взлетала ли с карканьем ворона, загадывали ли мы, кто нам встретимся первым, мужчина или женщина, — или бросали монетку, «случай»№ на все отвечал нам однозначно: «Вехтер». Это нас до крайности развеселило, так что мы решили разыграть юного филолога, который нам повстречался, и заявили ему, что выбрали Вехтера.
«Знаю уже, — отвечал бедолага. — С перевесом в тысячу голосов».
Так оно и оказалось. За это время вехтеровская партия добавила себе две тысячи голосов (…)
Под конец выскажу тебе то, с чего следовало бы начать мое письмо, — благодарность за твое послание, ценить которое совершенно особым образом у меня есть множество причин… особенно дорого и ценно было для меня твое признание в адрес нашего философа, поскольку оно высказано в пору серьезных и тяжких испытаний, сокрушительных ударов судьбы.
Люди набожные верят, что все страдания и несчастья, какие им выпадают, в аккурат нацелены именно на них, с тем чтобы каким-то образом их вразумить, вызвать ту или иную мысль, то или иное доброе намерение. У нас нет предпосылок к подобной вере. Однако в нашей власти использовать для собственного улучшения и совершенствования каждое событие, большие и малые беды и как бы впитать их в себя. Умысел в судьбе каждого — это не басня, если мы понимаем его таким вот образом. Нам надлежит с умыслом использовать собственную судьбу, поскольку события сами по себе — пустая оболочка. И тут все зависит от нашего устройства[23]: событие имеет для нас то значение, которое мы в него вкладываем. Бездумные и аморальные люди ничего не ведают о подобной логике судьбы. В них события не оставляют следа. Мы же хотим извлекать из них урок[24], и по мере того как умножается и совершенствуется наше знание в делах нравственных, выпадающие на нашу долю события образуют вокруг нас надежную орбиту, хотя по сути это, конечно, ее видимость. Ты знаешь, дорогой друг, о чем эта рефлексия…
Твой верный друг Фридрих Н.
43
19 Паулю Дойзену в Бонн — Наумбург, 4
апреля 1867
(…) Ты не поверишь, несколько личными узами я привязан к Ричлю, так что разорвать их я бы уже не мог, да и не хотел. К тому же меня не оставляет грустное предчувствие, что дни его очень уж долго не продлятся… Ты и представить себе не можешь, как этот человек думает и заботится о каждом, кто ему мил, как он умеет упреждать мои желания, которые я часто даже не решаюсь толком высказать, и насколько опять же его обхождение свободно от того косного высокомерия и той настороженной сдержанности, которые свойственны столь многим ученым. Да, он держится очень свободно и непринужденно, и я знаю, что такие натуры очень часто наживают себе неприятности. Он единственный,

чье порицание я охотно выслушиваю, поскольку вссе его суждения столь здравы и сильны, исполнены такого такта и чувства правды, что он — моя научная совесть.
(…) Моя работа о Лаэрции1 будет написана в эти недели. (…) Я по возможности избегаю излишней учености. Это требует подчас известного самопреодоления, поскольку следует отсекать некоторое superfluum2, которое нам как раз бывает очень любо. Строгое изложение доказательств в легкой и привлекательной форме, по возможности безо всякой заунывной серьезности и изобилующего цитатами наукообразия, которому грош цена, — вот к чему я стремлюсь. Самое трудное всегда — найти связную общность оснований, короче говоря, план здания. Это задача, над которой подчас удобней поразмыслить в постели или на прогулке, чем за письменным столом. Сводить же воедино черновой материал — это приятная работа, хотя в ней часто есть нечто ремесленническое. Но ожидание того, как за этим проступит наконец волшебный образ, поддерживает в нас радостный настрой. Самое мучительное для меня — разработка, и на нее мне зачастую не хватает терпения.
Всякая серьезная работа, это ты также наверняка ощущал, оказывает на нас определенное нравственное влияние. Старание сконцентрировать материал и придать ему гармоничный облик подобно камушку, который мы бросаем в водоем нашей внутренней жизни: вокруг точки, в которую он упал. Расходятся все более широкие круги. (…)
Вообще я отнюдь не склонен превращаться в эдакую машину, перегруженную знаниями, наверное, и тебе приходится чересчур много учиться. Более всего мне нравится изобретать новые концепции и собираться для них материал. Желудок моего мозга раздражается от любого перенасыщения. Много читая, ужасно тупеешь. Большинство наших ученых именно как ученые представляли бы куда большую ценность, если быне были столь учены. От слишком тяжелой пищи стоит воздерживаться. (…)
45
20 Карлу фон Герсдорфу в Шпандау — Наумбург, 6 апреля 1867
Мой дорогой друг,
(…) Тебя наверное позабавит это признание, но что заботит меня более всего, так это мой немецкий слог (о латыни я тут не говорю: когда я найду общий язык с родным языком, то за ним последуют и иностранные). У меня словно шоры упали с глаз: я слишком долго жил в каком-то стилистическом невежестве. Меня разбудил категорический императив, который гласил: «Ты должен, ты обязан писать!» Я поставил себе задачу, которую не ставил со времен гимназии — хорошо писать, но перо слово бы зависло в моей руке. У меня не выходило. Я злился. Вдобавок в ушах гремели стилистические заветы, оставленные Лессингом, Лихтенбергом и Шопенгауэром. Утешало, правда, то, что все эти авторитеты в один голос утверждали: писать хорошо — труднейшая задача, никто не наделен от природы хорошим слогом, и чтобы овладеть им, необходимо трудиться и прилагать огромные усилия. Мне и вправду не хотелось бы снова писать так неуклюже и сухо, по логическому лекалу, как, к примеру, в моей последней работе о Феогниде: никаких граций у этой колыбели точно не сидело… Было бы настоящим несчастьем, если бы я не мог писать лучше и притом всей душою желал этого. Прежде всего нужно, чтобы мой слог высвободил из их цепей бодрых радостных духов; я должен научиться играть на нем, как на клавишах, и не только заученные пьесы, но и вольные фантазии — настолько вольные, насколько это возможно, но при том непременно логичные и прекрасные.
Во-вторых, мне не дает покоя еще одно желание. (…) Как же это должно быть полезно, как же, наверное, вдохновляет, когда в ходе семестра перед тобой проходят строем все дисциплины твоей науки, так что ты в самом деле можешь получить о ней цельное представление. (…) Поскольку, не будем этого отрицать, большинству филологов недостает[25] именно этого возвышающего цельного представления об античности. Они стоят вплотную к картине и исследуют масляное пятно вместо того, чтобы восхищаться и, что гораздо больше, наслаждаться крупными и смелыми мазками всего полотна. Когда же, спрашиваю я, нам будет доступно то чистое наслаждение изучением античности, о котором мы, увы, слишком часто говорим <впустую>?
В третьих, ужасно в принципе то, как мы работаем. Каждая из ста книжек на моем столе — как раскаленные щипцы, которые выжигают во мне нерв самостоятельного мышления. Я думаю, дорогой друг, что своим смелым шагом ты избрал для себя наилучший жребий… совсем
Другое отношение к жизни к людям, к работе, к долгу. На деле я хвалю твою нынешнюю профессию не как таковую, а лишь постольку поскольку она являет собой отрицание твоей предыдущей жизни, стремлений, мыслей. Благодаря таким контрастам душа и тело остаются здоровыми и не принимают тех болезненных форм, к которым ведет как перевес духовной деятельности, так и чрезмерное преобладание физической, и которые встречаются как у ученых, так и у деревенщины. Разница лишь в том, что у одних эта болезнь проявляется иначе, чем у других. Греки отнюдь не были учеными, однако они не были и бездумными гимнастами. И так ли уж на самом деле необходимо делать выбор между одной и другой стороной, не образовалась ли здесь стараниями «христианства» трещина в человеческой природе — трещина, которой не существовало для народа[26] знавшего гармонию? Не должен ли посрамить нынешних «ученых» пример Софокла, который умел так блестяще танцевать и бить по мячу1[27], а при этом выказывал-таки и некоторую духовную зрелость?
Однако с этим у нас обстоит как и со всем прочим. Мы приходим к признанию бедственного положения вещей, но и пальцем не пошевелим, чтобы изменить его. И здесь я мог бы перейти к своей четвертой ламентации. (…)
Истина редко обитает там, где ей воздвигли храмы и назначили ее жрецов. За то, что мы совершили верного или глупого, нести ответ нам самим, а не тем, кто дает нам добрые или дурацкие советы. Дайте уж нам по крайней мере с удовольствием совершать глупости по собственной воле. Всеобщего рецепта, как помочь каждому, на свете не существует. Человек сам должен быть своим врачом и в то же время на себе самом набираться лекарского опыта. Мы на самом деле слишком мало думаем о собственном благе; наш эгоизм недостаточно умен, наш разум — недостаточно эгоистичен. (…)
21 Паулю Дойзену в Берлин [Наумбург, октябрь/ноябрь 1867]
(…) Мой дорогой друг, чтобы написать апологию Шопенгауэра, к которой ты побуждаешь меня своим письмом, мне было бы достаточно лишь поделиться с тобой тем фактом, что я свободно и отважно смот-
47
рю в лицо этой жизни с тех самых пор, как обрел эту почву под ногами. «Воды скорби», если говорить в образах, не уносят меня с моей тропы, поскольку они больше не захлестывают меня.
Это, разумеется, не что иное[28] как сугубо индивидуальная апология. Но именно так оно для нас и бывает. Если кто-нибудь захочет опровергнуть мне Шопенгауэра с помощью доказательств, я шепну ему на ухо: «Но, дорогой мой, мировоззрения не порождаются логикой и не уничтожаются ею. Я чувствую себя как дома в одной среде, ты — в другой. Так оставь же мне мой собственный нюх, ведь и я не собираюсь отнимать у тебя своего».
При этом временами я становлюсь сердит, когда слышу или читаю современных философов… и вопрошаю настойчиво, как небезызвестный Гамлет вопрошал свою мать: «Где у вас глаза?»1 Мне думается, что они у этих философов отсутствуют, хотя я могу заблуждаться и все дело в том, что я, возможно, чересчур близорук и путаю осла с лошадью. Но будь это даже так: если рабу в тюрьме снится, что он свободен и избавлен от своей кабалы, кому хватит жестокости разбудить его и сказать, что это был лишь сон. Кто решился бы на такое? Разве что палач, но ни мне, ни тебе не по душе такая роль.
Лучшее, что у нас есть: чувствовать себя в единении с великим умом, с симпатией внимать ходу его идей, обретать для своих мыслей родину, от часов мрака — убежище; мы не станем отнимать это у других и не позволим отнять это у себя. Будь это заблуждение, будь это ложь [– – –]
22 Эрвину Роде в Гамбург — Наумбург, 3 ноября 1867
(…) Да, дорогой мой друг, если некий демон однажды рано поутру, скажем, между пятью и шестью, проведет тебя по Наумбургу и вознамерится направить твои стопы в мою сторону, не поражайся картине, которая предстанет твоим органам чувств. Внезапно ты вдыхаешь запах конюшни. В тусклом свете фонаря вырисовываются какие-то фигуры. Вокруг раздается ржание, стук копыт, что-то скребут, чистят щеткой. И посреди в кучерском наряде судорожно разгребающий голыми руками кучу Невыразимого и Неприглядного или же чистящий скреб-
48
ком лошадь — мне страшен лик, полный страшной муки: это ж, черт побери, я сам1.
Спустя пару часов ты видишь двух лошадей, гарцующих в
манеже, не без всадников, один из которых очень похож на твоего друга. Он
скачет на своем огненном, ретивом Балдуине и надеется
стать однажды хорошим наездником, хотя (или, вернее, поскольку) он теперь ездит
только на покрытии, со шпорами и шенкелями[29],
но без хлыста. Еще ему нужно поскорее разучиться всему, что он слышал в
Лейпцигском манеже, и прежде всего перенять уверенную полковую посадку.
В другое время суток он трудится внимательно и прилежно у орудия… прочищая ствол шомполом или рассчитывая дюймы и градусы. Но прежде всего ему нужно многому еще научиться.
Могу уверить тебя, что у моей философии появилась сейчас отличная возможность сослужить мне практическую службу. Ни единого мгновения до сих пор я не чувствовал униженности, зато очень часто мне доводилось улыбаться каким-то вещам, как чему-то сказочному. Порой я украдкой шепчу из-под брюха лошади: «Помоги,[30] Шопенгауэр»; и когда, изможденный и потный,[31] я прихожу домой, меня успокаивает один лишь взгляд, брошенный на его портрет, стоящий на моем столе. Или же я раскрывают «Парерги»2, которые мне теперь, а с ними заодно и Байрон, симпатичнее, чем когда бы то ни было.
Вот наконец я добрался до пункта, в котором смогу высказать то, с чего, по твоим ожиданиям, мне бы следовало начать письмо. Ты знаешь теперь причину, по которой мое письмо заставило себя так неприлично долго ждать. (…) Сегодня у меня свободный день, по крайней мере до половины седьмого, когда долг призовет меня в конюшню — напоить лошадей и задать им корма. Сегодня я на свой манер праздную воскресенье — вспоминая моего далекого друга и наше общее прошлое в Лейпциге. Судьба внезапным движением оборвала лейпцигский листок моей жизни, а следующий, который я теперь вижу в этой книге сивилл, сверху донизу покрыт чернильным пятном. (…) Сейчас мне ничего так не хватает, как общения с тобой (…) В первое время я бывал почти изумлен, не находя тебя среди тех, с кем мне пришлось разделить этот удел; и временами, когда я оборачиваюсь на скаку взглянуть на других добровольцев, мне кажется, что на одном из коней я увижу и тебя. (…)
Фридрих Ницше.
Канонир 21-й батареи кавалеристского отделения 4-го полка полевой артиллерии.
49
N.B. Письмо задержалось еще на несколько дней, поскольку мне хотелось, чтобы его сопровождал еще и ящичек винограду: в конце концов злополучная почта заявила, что не желает принимать последний, поскольку ягоды дойдут до адресата разве что в виде сусла.
Ignoscas1
23 Эрвину Роде в Киль — Наумбург, 1—3 февраля 1868

Мой дорогой друг,
сейчас суббота, день клонится к концу. Для солдата в слове «суббота» заключено какое-то волшебство, чувство мира и покоя, какого я не знал, будучи студентом. Иметь возможность спокойно спать и видеть сны, без того чтобы душу заволакивал пугающий образ грядущего утра, снова оставить позади семь дней той унифицированной взбудораженности, которую называют воинской службой, — какие это приносит простые и сильные удовольствия, достойные циника и дающиеся нам почти что даром, почти без усилий! Я понимаю теперь великий настрой тех моментов субботнего дня, когда впервые прозвучали уютные слова πάντα λίαν καλά2, когда были изобретены кофе и трубка и в жизнь вступил первый оптимист. Во всяком случае, евреи, которые сочинили эту прекрасную историю и верили в нее, были воинами или там ремесленниками, но уж никак не студентами. Поскольку эти последние взяли за правило шесть выходных и один рабочий день в неделю, а на практике, глядишь, сделали бы и его таким же, как прочие дни. По меньшей мере моя практика заключалась в этом, и я в настоящее время очень остро ощущаю разницу между моей теперешней жизнью и моим прежним научным бездельничаньем. Если бы только можно было как-нибудь собрать филологов вместе лет на десять и вымуштровать их для свое научной дисциплины, как это принято у военных, то через десять лет филология оказалась бы попросу не нужна, поскольку вся основная работа была бы проделала; она бы оказалась
50
притом уже и невозможной, поскольку ни один человек не вступил бы добровольно под эти знамена…
Суббота вроде нынешней, как ты мог заметить, делает болтливым. Поскольку во все прочие дни недели нам приходится все больше помалкивать и сообразовывать все свои душевные способности с приказами начальства, то в остающиеся без надзора мгновения субботы с губ так и льются слова, а из чернильницы — строчки, особенно когда в печи потрескивает огонь, а снаружи бушует несущая в себе зарождающуюся весну февральская буря. Суббота, буря и теплый кров — это самые лучшие ингредиенты, из каких можно сварить пунш «эпистолярного настроения».
Дорогой мой друг, моя жизнь сейчас действительно очень одинока и лишена дружбы… в ней нет и следа того гармоничного созвучия душ, которое несли с собой иные замечательные моменты в Лейпциге. Тут скорее — отчуждение души от самой себя, перевес властного влияния, которое схватывает дух в напряженном испуге и учит его смотреть на вещи с такой серьезностью, какой они не заслуживают. Такова оборотная сторона моего теперешнего существования… Однако взглянем на монету с другой стороны. Такая жизнь, хоть и неудобна, однако в качестве интермедии безусловно полезна. (…) При этом узнаешь собственную натуру, то, как она проявляет себя среди чужих, по большей части грубых людей… Я замечал до сих пор, что мне все желают добра — что капитан, что рядовой артиллерист; с другой стороны, свои обязанности я выполняю ревностно и даже с собственным интересом. Разве можно не чувствовать гордость за то, что среди 30 рекрутов ты считаешься лучшим наездником? Поистине, дорогой друг, это больше, чем премия по филологии, хотя я отнюдь не глух и к тем похвалам, которые мне довелось услышать на факультете в Лейпциге. (…)
Мне на редкость охота в моей следующей, пишущейся in
honorem Ritscheli1 статье о писательских опытах
Демокрита высказать филологам изрядное количество горьких истин. До сих пор я
связываю с ней большие надежды: у нее получился философский подтекст, чего мне
до сих пор не удавалось ни в одной из моих работ. Кроме того, все мои работы, отнюдь
не намеренно, но именно поэтому к вящему моему удовольствию, обретают совершенно
определенную направленность: они все, как телеграфные столбы, указывают на цель
моих исследований, которую вскоре я целиком смогу охватить своим зрением. Это
не что иное, как история литературоведения в древности и в Новое время. Меня
пока мало занимают детали; меня сейчас притягивает к себе общечеловеческое: как
возникает потребность в литературно-историчес-
51
ком исследовании и как она обретает свой облик благодаря формирующему воздействию философов. О том, что все просвещающие нас мысли в истории литературы мы восприняли от немногих великих гениев[32], имена которых на устах у образованных людей, и что все значительные и движущие нас вперед свершения на этой ниве были не чем иным, как практическим применением тех типических идей… О том, что прославленные произведения в области литературоведения сочинены теми, кто сам был лишен творческой искры, — эти весьма пессимистические воззрения, таящие в себе новый культ гения, занимают меня неотвязно, склоняя к тому, чтобы однажды пройтись с ними по мировой истории. (…)
От этих воздушных замков в самом деле горько возвращаться к действительности. Представь только, дорогой друг, что я, при всяком удобном случае предаваясь вышеобрисованным раздумьям, тем не менее, не в состоянии даже подступиться к этому. (…) «Счастливые люди, — говорит Ричль о студентах, — у вас есть 14 часов в день для себя и своих занятий!» Несчастный человек, говорю я себе, у тебя не набирается и двух свободных часов в день и даже их ты должен жертвовать Марсу, дабы он не отказал тебе в лейтенантском патенте. Ах, дорогой друг, что за несчастное создание этот самый конный или пеший артиллерист, если у него есть склонность к литературе! Старина бог войны явно предпочитал молодых бабенок, на не старых усохших муз. Артиллерист, который в казарме, примостившись на грязной табуретке, частенько раздумывает о демокритовских проблемах, пока ему чистят сапоги — это попросту παράδοξον1, на которого боги поглядывают с насмешкой. (…)
24 Паулю Дойзену в Берлин [Наумбург, апрель—май 1868]
Мой дорогой друг,
Твое последнее письмо я получил, испытывая острейшую боль, еще через пару часов я был без сознания. И то и другое вовсе не было следствием какого-нибудь скрытого яза, который бы перешел на меня из твоего письма и меня одурманил; к моему счастью у меня нет столь опасных друзей (или ты полагаешь, что Шопенгауэр принадлежит как раз к этой породе друзей-отравителей?). (…)
Итак,на службе Марсу я порвал себе несколько мускулов груди, что повлекло за собой длительную и тяжелую болезнь, от которой я до сих
52
пор еще не избавился. Мне не хотелось бы утомлять тебя деталями…* постепенно я снова собираюсь с силами. (…)
Твое последнее письмо отвергает мою позицию резиньяции[33] как лишенную юношеского энтузиазма scil.1 стариковскую: на это мне возразить нечего. То, что ты, однако, добавляешь по поводу оправданности резиньяции в тех и только тех случаях, где она основывается на твердом убеждении касательно пределов нашей познавательской способности, — это очень верное высказывание. Однако у того, кто проследит за ходом соответствующих исследований, преимущественно в сфере физиологии, со времен Канта, не может остаться никаких сомнений в том, что эти границы выяснены столь надежно и безошибочно, что кроме теологов, нескольких профессоров философии и vulgus2 никто[34] не строит себе больше иллюзий на этот счет. Царство метафизики, а вместе с ним и провинция «абсолютной» истины с неизбежностью перешли в разряд поэзии и религии. Тот, кто хочет что-либо знать, удовлетворяется теперь осознанной относительностью знания, как, к примеру, все известные естествоиспытатели. Еще для некоторых метафизика относится к сфере душевных потребностей, будучи во многом духовной практикой; с другой стороны, она — искусство, а именно понятийное творчество; следует однако констатировать, что ни в качестве религии, ни в качестве искусства метафизика не имеет никакого отношения к «истинному или сущему само по себе»[35].
Если, кстати, в конце этого года ты получишь мою докторскую диссертацию, в ней тебе попадутся вещи, которые проясняют этот пункт о границах познания. Моя тема «Понятие органического со времен Канта» — наполовину в философском, наполовину в естествоведческом ключе. Вчерне я уже многое подготовил.
Итак, дорогой друг, оставим впредь в сторону этот философский πάφος3 нашей переписки. Ты сам взял верный тон, написав мне по-настоящему филологическое письмо, за что я тебе благодарен. Но одновременно не могу не выразить своего удивления тому, каким странным образом ты определяешь тему, которой намерен заниматься. Другие находят проблему, которая либо уже была обнаружена, либо нащупывают ее собственной интуицией и пытаются теперь отыскать ее решение. Ты же пишешь мне, что объект твоего исследования — это Евтидем4; хорошо же, но это ведь область исследования, а не проблема. При этом, правда, ты даешь понять, что тебя будет занимать преимущест-
53
венно вопрос честности. И в этом заключен второй пункт, по поводу которого я должен высказать свое изумление. Клянусь Зевсом, я приветствую храбрость, если это не просто унтер-офицерская доблесть, — если это храбрость осмысленная. Вопрос Платона — это в настоящий момент целый величественный комплекс, внутренне неразрывная ткань, цельный организм. Подобные вопросы должны исследоваться основательно; что толку крутиться вокруг каких-то внешних моментов, попусту надкусывая у проблемы кожуру. (…) Исследования в этой области достигли сейчас своего высшего пункта, речь идет о психологическом постижении, о том, чтобы реконструировать душевный и духовный путь Платона, причем не в той расплывчатой шлейермахеровской манере…
Что касается авторитета, который имеет предание[36], то здесь я прошу тебя быть как можно более свободомыслящим. Возможно, у меня сейчас как раз есть особое право сказать: в том, что касается списков александрийской библиотеки, вообще нет никакого авторитета, — говорю это, поскольку мой совсем не праздный интерес имел возможность обратиться как раз к вопросам предания. Каждый из платоновских диалогов должен быть спрошен о своем авторстве, и если он сам не свидетельствует о Платоне, тут уж не помогут никакие свидетельства, в том числе и Аристотеля: у него как раз может обстоять тем ужасным образом, что эти свидетельства вписаны гораздо позднее, к примеру, в редакции Андроника. В самом деле, существуют некоторые примеры подобных приписанных Аристотелю свидетельств.
Теперь рассказу тебе вкратце о моих занятиях и намерениях. Свою статью о писательских опытах Демокрита я еще не написал (…) Покамест я все подготовил для того, чтобы завершить к концу этого года диковинную статью об одновременности Гомера и Гесиода. Здесь впервые выйдут на свет мои παράδοξα1 по поводу Гомера; Θαῦμα βροτοῖσιν2, скажу я тебе. (…)
*Эти «детали»
можно узнать из письма Карлу фон Герсдорфу от 22 июня 1868 г.: «Однажды на
занятиях верховой езды мне не удался быстро выполненный прыжок на лошадь; я
сильно ударился грудью и ощутил в левой половине пульсирующую рану. Я спокойно
поехал дальше и еще полтора дня переносил все возрастающую боль. Однако вечером
на второй день у меня были два обморока, а на третий день я с сильней-
54
шей
лихорадкой слег в постель. Обследование показало, что я порвал себе два грудных
мускула. Как следствие — общее воспаление мускулатуры и кровеносных сосудов в
верхней части туловища и сильное нагноение, вызванное внутренним кровоизлиянием
от разрыва мускулов… С того времени, то есть вот уже четверть года, нагноение
не проходит; естественно, снова встав с постели я был так слаб, что мне
пришлось сызнова учиться ходить. Без посторонней помощи я не мог ни подняться,
ни ходить, ни лечь. Постепенно мое самочувствие улучшилось… однако рана
оставалась открытой. В конце концов выяснилось, что повреждена грудина и что в
том заключено impedimentum1 к выздоровлению». Лишь 8 августа Н. сможет написать
тому же адресату: «5 месяцев болезни, частые продолжительные боли, глубокий
упадок тела и духа, мучительные тревоги по поводу будущего — все это преодолено.
И только лишь глубокий, сросшийся с костью рубец посреди груди напоминает мне о
том, сколь тяжким и даже опасным было мое состояние».
25 Софии Ричль в Лейпциг [Виттекинд, 2 июля 1868]
Глубокоуважаемая госпожа тайная советница,
даже если бы мне не нужно было отправить Вам назад одолженную книгу, вы все равно получили бы сегодня письмо от меня. Поскольку я очень многим обязан этому последнему воскресенью — дню, в котором было столько прелести и солнца, что воспоминание о нем — это самое лучшее, что я взял с собой из Лейпцига на свои одинокие воды. И коль скоро Вы, ведомая неведомым гением, подарили мне свое участие, Вам придется теперь терпеливо сносить последствия этого, первым из которых пусть будет сегодняшнее письмо.
Позавчера днем я прибыл на расфуфыренный курорт, называющийся Виттекинд; шел сильнейший дождь, и знамена, которые были выставлены к местному празднику, понуро и грязно свисали со штандартов. Мой хозяин, совершенный жулик в непрозрачных синих очках, вышел навстречу и препроводил меня в снятое за шесть дней до того жилище, которое вплоть до целиком заплесневелой софы оказалось запустелым, как тюремный каземат. Мне тут же стало ясно, что этот самый хозяин нанял для двух домов заполненных гостями, то есть для 20–
55
40 человека, всего одну служанку. (…) Короче, вся атмосфера, в которую я вступил, была ледяной, дождливой и унылой.
Вчера я провел небольшую рекогносцировку здешней природы и человечества. За столом мне выпало счастье сидеть рядом с глухонемым господином и несколькими причудливого вида особами женского пола. Местность тут, кажется, неплохая, однако из-за дождя и влажности невозможно ни на шаг ступить, ни на шаг увидеть. (…)
Как я признателен Вам, что Вы дали мне с собой книгу Элерта, которую я читал в первый же вечер при скудном освещении на заплесневелой софе — читал с удовольствием и внутренней теплотой. Злые языки могли бы сказать, что книга написана чересчур взволнованно и плохо. Однако книга музыканта — это совсем не то, что книга человека зрения; в сущности, это музыка, которая случайно оказалась записана не нотами, а словами. У художника сложилось бы мучительное впечатление от этой мазни, которая набросана без всякой методы. Однако я, к несчастью,[37] испытываю слабость к парижскому фельетону, к «Путевым картинам» Гейне и т. д. и люблю рагу больше, чем жаркое из говядины. Какого же мне стоит труда делать ученую физиономию, чтобы с нужной нейтральностью и alla breve1 записывать трезвую последовательность рассуждение. (…) Но, быть может, однажды я все же найду филологический материал, с которым можно будет обойтись на музыкальный манер, и тогда я буду лепетать, как младенец, и нагромождать образы, как варвар… с полным правом на то.
А Элерт почти кругом прав. Однако для многих людей правда в таком арлекинском наряде становится неузнаваемой. Не для нас, поскольку ни одну из страниц этой жизни мы не считаем столь серьезной, чтобы нельзя было вписать в нее шутку, подобно беглой арабеске. И кто из богов станет удивляться тому, что мы при случае наряжаемся сатирами и пародируем жизнь, которая взирает всегда столь серьезно и патетически и носит на ногах котурны?
Мне все же не удалось скрыть от Вас свою склонность к диссонансу! Не правда ли, Вы уже были на устрашающей репетиции в таком роде? Нынче вы присутствуете на второй. Лошадиные копыта Вагнера и Шопенгауэра скрыть нелегко. И если Вы мне однажды снова позволите что-нибудь исполнить, то я оформлю свои воспоминания о прекрасном воскресенье в звуки и Вы услышите, так же, как сегодня Вы читаете об этом, как высоко ценит это воспоминание
никудышный композитор и т. д.
Фридрих Ницше.
56
26 <Из писем Паулю Дойзену в Обердрайс, октябрь 1868>
(…) Многие <филологические> книги имеют ту же заслугу, что числится за путешественниками, которые первыми побывали в неведомом регионе и теперь вот описывают его — пусть даже совершенно примитивным образом. В других книгах мы поражаемся богатству идей и т. д., которые, однако, принадлежат не автору, а его предшественникам. В большинстве же мы можем оценить лишь нечеловеческое прилежание и недюжинную энергию, которая обращена на вполне незначительные вещи; при этом у нас создается ощущение, будто перед нами — нечто аскетическое, плод сурового отречения, меж тем как по сути первопричиной этого кропотливого труда был совершенно заурядный интеллект — интеллект незнакомый с более высокими, более ценными сферами идей, во всяком случае, неспособный продуктивно обращаться с ними и потому сделавшийся мелким лавочником. (…)
(…) У твоего мифологического толкования филологии как дочери (дочери! тьфу ты, черт![38]) философии, которая в качестве оной неподсудна и не подпадает ни под какой контроль, нет даже намека на основание. Коли говорить мифическими понятиями, на филологию я смотрю как на уродца, зачатого богиней философией от идиота или кретина. Жаль, что у Платона не встречается такой μῦφοσ1: ему бы ты поверил скорее с полным на то правом. Во всяком случае, каждой отдельной науке я теперь устраиваю проверку, и если она не может предъявить доказательств того, что на ее горизонте есть какие-либо великие культурные задачи, — что ж, поделать с ее существованием я ничего не могу, ведь чудаки в царстве знания точно так же в своем праве, как и в царстве жизни, и все же смеюсь, когда означенные чудаческие науки впадают патетику и надевают на ноги котурны. К тому же некоторые науки попросту дряхлеют: взор мрачнеет,когда видишь, как они, чахлые, с иссохшими венами, своими увядшими устами, как вампиры, высасывают кровь из юных цветущих натур. Это, в конце концов, долг педагога сделать так, чтобы юные силы не попадали в объятия подобных седых страшилищ, чей удел, с точки зрения историка, — почет и уважение, с точки зрения современности — отторжение, с точки зрения будущего — гибель. (…)
57
27 Эрвину Роде в Гамбург [Лейпциг, 27 октября 1868]
(Сегодня вечером я наслаждался вступлением к «Тристану и Изольде», а также увертюрой к «Мейстерзингерам»*. Я не в силах относиться к этой музыке с критической прохладцей; каждая жилка, каждый нерв трепещет во мне, у меня давно уже не было такого устойчивого чувства отрешенности, как во время слушания названной увертюры. При этом место, занимаемое мной на абонементных концертах, окружено критическими умами: непосредственно перед мной сидит Бернсдорф, слева от меня доктор Пауль, ныне ставший героем газет, через место справа мой друг Штаде, продуцирующий критические чувства для бренделевской музыкальной газеты; это очень острый уголок, и когда мы четверо единодушно качаем головами, это означает провал. (…)
*Речь идет о
произведениях Вагнера. О зарождающемся в Н. культе Вагнера, причем не только
как композитора, свидетельствует сентябрьское письмо Дойзену: «Я открыл
истинного святого филологии, подлинного филолога, мученика, в конце концов
(мученичество заключается в том, что каждый глупый литератор1 считает себя вправе на него
помочиться[39]).
Знаешь, как его зовут? Вагнер, Вагнер, Вагнер!».
28 Эрвину Роде в Гамбург [Лейпциг, 27 октября 1868]
Мой дорогой друг,
сегодня я намереваюсь поведать тебе массу забавных вещей (…)
Акты моей комедии именуются… 2) изгнанный портной; 3) рандеву с +. В постановке участвуют некоторые пожилые дамы. (…)
Дома я обнаружил адресованную мне записку: «Если хочешь познакомиться с Рихардом Вагнером, приходи без четверти четыре в кафе « Theâtre ». Подпись: Виндиш. Это известие, уж не обессудь, несколько вскружило мне голову, так что я напрочь позабыл то, что было перед этим и словно угодил в какой-то вихрь.
58
Разумеется, я поспешил дальше и разыскал нашего славного друга <Виндиша>, который сообщил мне новые подробности. Оказывается, Вагнер инкогнито находится в Лейпциге у своих родных; пресса ничего слыхом не слыхивала, а прислуга в доме Брокгаузов, хоть и одета в ливреи, нема, как могильщики[40]. Госпожа Брокгауз, сестра Вагнера, как раз представила его своей хорошей подруге госпоже Ричль, той самой умной проницательной женщине1; у нее, счастливцы, есть все основания похвастаться подругой перед братом и братом перед подругой. Вагнер в присутствии госпожи Ричль играет песню из «Мейстерзингеров», которую ты тоже знаешь, и славшая женщина признается, что ей эта песня уже знакома, mea poera2. Радость и изумление Вагнера: он выражает сильнейшее желание инкогнито познакомиться со мной. Уже вроде решено пригласить меня в пятницу вечером, однако Виндиш заявляет, что мне могут помешать мои работа, обязанности или же я могу оказаться связан каким-нибудь уже данным обещанием. В итоге (…) я получаю любезное приглашение на воскресный вечер.
В продолжение этих дней я находился, уверяю тебя, в почти романическом настроении; признай, что предыстория этого знакомства, учитывая нелюдимость Вагнера, напоминает художественный вымысел.
В уверенности, что приглашено большое общество, я решил как следует нарядиться и был рад, что именно к воскресенью мой портной обещал приготовить мне фрачную пару. День был ужасный, шел дождь со снегом, одна мысль о том, чтобы выйти на улицу, вызывала дрожь; так что я был даже доволен, когда днем меня навестил Рошер и стал рассказывать об элеатах… Уже смеркалось, портной не пришел, а Рошер собрался уходить. Я провожаю его, захожу к портному и застаю там его рабов, вовсю трудящихся над моим костюмом: они обещают доставить его минут через 40. Я ухожу удовлетворенный, заглядываю в кафе «Кинтши», листаю «Kladderadatsch»3 и с удовольствием обнаруживаю газетную заметку, что Вагнер, дескать, находится в Швейцарии, но что в Мюнхене для него строится прекрасный дом, — читаю, зная при этом, что увижу его сегодня вечером и что вчера от юного короля ему пришло письмо, надписанное: «великому немецкому композитору Рихарду Вагнеру».
Вернувшись домой, портного я не обнаруживаю. Удобно устроившись, читаю диссертацию <одного приятеля>, и единственное, что меня время от времени отвлекает, — это резкий, хотя и очень отдаленный посторонний шум. Наконец до меня доходит, что кто-то стоит и
59
ждет возле старинной железной решетки, — она заперта, равно как и входная дверь. Я кричу человеку через сад, что ему нужно войти через другой вход, но из-за шума дождя ничего невозможно разобрать. В доме поднимается суматоха, наконец дверь открывают и ко мне входит старичок с пакетом. Половина седьмого, времени остается только на то, чтобы одеться и привести себя в порядок, — ведь я очень далеко живу. Все правильно, человек принес мои вещи, я примеряю их, они мне как раз. И тут дело принимает странный оборот. Он предъявляет счет. Я вежливо принимаю его, но оказывается, он хочет, чтобы ему заплатили прямо на месте. Я удивлен, втолковываю ему, что с ним как наемным работником моего портного я никаких финансовых дел иметь не могу, что я имею дело только с самим портным, который дал ему поручение. Человечек становится все настойчивей, время идет; я хватаю вещи и начинаю их надевать, человечек тоже хватает вещи и мешает мне их надевать; рукоприкладство с моей стороны — и с его тоже! Сцена: я сражаюсь в одной рубашке, поскольку хочу надеть новые брюки.
Наконец издержки благородства с моей стороны, сдержанная угроза, проклятие портному и помощникам его помощников, клятва мщения — меж тем как человечек удаляется вместе с моими вещами. Конец второго акта: сидя в одной рубашке на софе, я придумываю способ мести и рассматриваю черный сюртук на предмет того, достаточно ли он хорош для Рихарда.
На улице льет дождь.
Четверть восьмого; я договорился с Виндишем, что в половине девятого мы встречаемся в театральном кафе. Я ныряю в темную дождливую ночь, сам весь в черном, что в половине девятого мы встречаемся в театральном кафе. Я ныряю в темную дождливую ночь, сам весь в черном, хотя и без фрака, зато со все усиливающимся ощущением беллетристичности происходящего; все мне благоприятствует, и даже в чудовищности сцены с портным есть нечто совершенно неординарное.
Мы входим в уютную гостиную Брокгаузов, где, кроме семейства, только Рихард и мы двое. Меня представляют Рихарду, которому я в нескольких словах выражаю свое восхищение. Он очень внимательно расспрашивает меня, как я познакомился с его музыкой, ужасно бранит все постановки своих опер, за исключением знаменитого исполнения в Мюнхене и потешается над дирижерами, которые благостно увещевают своих оркестрантов: «Вот теперь, господа, нужно добавить страсти, ну еще немножечко страсти, сударики мои!» Вагнеру очень нравится имитировать лейпцигский акцент.
(…) До и после ужина Вагнер играл для нас, причем исполнил все самые значительные фрагменты из «Мейстерзингеров», имитируя каждый из голосов и будучи при этом необычайно раскован. Это человек
60
исключительной живости и темперамента, говорит очень быстро, чрезвычайно остроумен и вносит в маленькое интимное общество чрезвычайное веселье. Между прочим, у меня был с ним продолжительный разговор о Шопенгауэре; ты можешь представить себе, что за радость была для меня услышать, с какой неописуемой теплотой он говорил о нем, сколь многим он обязан ему, что этот философ, наконец, единственный из всех познал сущность музыки. Затем он осведомился, как к нему относятся современные философы, очень потешался по поводу философского конгресса в Праге и упомянул «о философском лакействе». После этого он прочел отрывок из своей биографии, которую он сейчас пишет, — весьма забавную сценку из своей студенческой жизни в Лейпциге, о которой я до сих пор не могу вспомнить без смеха; пишет он, кстати, необычайно изящно и остроумно.
На прощание, когда мы с Виндишем уже собирались уходить, он горячо пожал мне руку и самым дружеским образом пригласил меня навестить его, дабы позаниматься музыкой и философией. Также он дал мне поручение, которое я принял на себя с большим энтузиазмом, — познакомить с его музыкой его сестру и родственников. Более подробно я расскажу тебе об этом вечере, когда смогу взглянуть на него объективней и дистанцированней. На сегодня же прощай, желаю тебе крепкого здоровья.
Ф. Н.
29 Эрвину Роде в Гамбург [Лейпциг, 16 января 1869]
Мой дорогой друг,
(…) Наши совместные парижские планы* приказали долго жить. А мне так хотелось, чтобы это состоялось прежде, чем меня закуют в кандалы профессии; я так мечтал вкусить серьезной глубины и волшебной притягательности жизни путешественника… Я представлял себе нас двоих: как мы с серьезностью во взоре и улыбкой на устах шагаем среди парижской толпы, пара философствующих фланеров, которые повсюду бы видели вместе — в музеях и библиотеках, в Closeries des Lilas и в Нотр-Дам, — повсюду несущих на себе отпечаток серьезности своего мышления и нежное сознание взаимной привязанности. И на что же я теперь должен променять это путешествие, такую дружескую близость! (…)
Дорогой друг, у меня очень вероятная, даже твердая перспектива в ближайшее время быть призванным в Базельский университет; мне
61
Нужно быть готовым к тому, чтобы с Пасхи вести академическую преподавательскую деятельность.
Поначалу я буду титуловаться экстраординарным профессором, мое содержание будет составлять 3000 франков, и в мои обязанности будет входить каждую неделю вести 6 часов занятий в старшем классе тамошнего педагогиума. После того как стал реальным такой поворот событий, было бы непростительным капризом снова заартачиться.
А вот как эта сказочная история приключилась. Извещенный Кисслингом, что тот вскорости прокидает Базель, Фишер, член городского совета, курирующий тамошние учебные заведения, запрашивает Ричля, с которым он привык советоваться в таких случаях, и осведомляется, в частности, о человеке по фамилии Ницше, о котором поговаривают, что из нашего может выйти толк.
Дальнейшее ты можешь себе представить: как Ричль позвал меня к себе, как я затем в счастливом изумлении целый день пел на ходу мелодии из «Тангейзера», что Ричль отвел обо мне, и как теперь Фишер снова пишет ему и т. д. (…)
Дорогой друг, я прикладываю палец к устам с просьбой о молчании и мысленно пожимаю тебе руку. Все-таки мы все ходим у судьбы в дурачках; еще на прошлой неделе я собирался написать тебе и предложить вместе изучать химию, а филологию забросить туда, где ей место, — к праотцам. Нынче же дьявол «судьбы» заманивает меня филологической профессурой.
Кстати, у этой должности, похоже, отличные перспективы. Уже в довольно короткие сроки предусматривается повышение ранга и жалованья, и все, что я слышу и узнаю, говорит о том, что меня ждет учреждение благородное и лояльное к свободе мысли — по прусской мерке неслыханное дело! (…)
Еще одно замечание. Недавно, к моей величайшей радости, меня письменно поприветствовал Рихард Вагнер. Люцерн1 теперь перестает быть для меня чем-то недостижимым. В конце этого месяца я отправляюсь в Дрезден слушать «Мейстерзингеров». В конечном счете этому я радуюсь даже больше, чем всему прочему…
Да здравствует искусство и дружба!
Ф. Н.
*Планы
поездки в Париж Н. вынашивал несколько месяцев и делился ими с ближайшими друзьями.
Так, 8 августа 1868 г. он пишет
62
Герсдорфу: «Я хочу провести следующий год в Париже,
причем как из общегуманитарных, так и из специально филологических побуждений.
В связи с этим — вопрос, который я давно уже хотел тебе задать: нету ли и у
тебя в мыслях намерения некоторое время поучиться в этому университете жизни?»
30 Карлу фон Герсдорфу в Берлин (на
визитной карточке) [Лейпциг, 12 февраля 1869]
Дорогой друг, моя кандидатура была единогласно одобрена во всех трех инстанциях, о чем сегодня Фишер поставил меня в известность. Он обращается к мне господин профессор», что ж, стало быть, я и сам могу подписываться этим титулом…
Твой верный друг
Фридрих Ницше,
Профессор классической
филологии Университета в Базеле.
31 Карлу
фон Герсдорфу в Берлин [Наумбург, 11 апреля 1869]
(…) Быть филистером, ἄνθρωπος ἄμουσος1, стадным человеком — упаси меня от этого Зевс и все музы! Не могу себе даже и вообразить, как бы я мог оказаться таковым, ведь я не таков. Правда, к одной из разновидностей филистерства я слегка приблизился — а именно к species2 «профессионал»; ведь вполне естественно, что ежедневная нагрузка, непрестанная сосредоточенность мысли на определенных областях знания и проблемах несколько притупляют свободу восприятия и на корню подрубают философское мышление. Но мне кажется, что навстречу подобной опасности я могу идти спокойней и уверенней, нежели большинство филологов. Слишком уж глубоко укоренилась во мне философская серьезность, слишком уж явственно показаны мне великим мистагогом Шопенгауэром подлинные и существенные проблемы жизни и мышления, чтобы я мог опасаться постыдной измены «идее». На-
63
полнить свою науку этой новой кровью, перенести на моих слушателей ту шопенгауэровскую серьезность — таково мое желание, моя смелая надежда. Мне бы хотелось быть чем-то большим, нежели воспитателем старательных филологов: поколение учителей современности, забота о грядущем поколении — вот что занимает мою душу и помыслы. Если уж мы должны выносить свою жизнь, попытаемся израсходовать ее так, чтобы для других она была благословенной ценностью после того как мы с нею счастливо распростились.
Тебе, дорогому другу, с которым я един во многих основных жизненных вопросах, желаю счастья, которого ты заслуживаешь, себе — твоей старой верной дружбы. Прощай!
Др. Фридрих Ницше
32 Рихарду Вагнеру в Трибшен — Базель, 22 мая 1869
Милостивейший государь,
как же давно я собирался высказать Вам без утайки, насколько
благодарен Вам; что поистине лучшие и возвышеннейшие моменты моей жизни связаны
с Вашим именем; и что кроме Вас я знаю лишь одного человека — к тому же Вашего
духовного собрата, — Артура Шопенгауэра, о котором я думаю с таким же почтением
и даже с религиозным quadam1. Я рад,
что делаю это признание в праздничный день, и даже испытываю при этом некоторую
гордость. Ведь если удел гения — быть некоторое время лишь для paucorum h
Что ж, я отваживаюсь видеть себя в числе этих pauci; отваживаюсь после того, как ощутил, насколько почти весь мир, с которым мы имеем
64
дело, не способен воспринять Вашу личность как целостность, почувствовать глубинный нравственный поток, который проходит через Вашу жизнь, тексты и музыку, словом — ощутить ту атмосферу серьезного и эмоционально насыщенного мировоззрения, которого нам, бедным немцам, так недоставало среди всех политических бедствий, философского шабаша и пронырливого еврейства. Если я до сих пор остался верен германской жизненной серьезности, углубленному взгляду на это столь загадочное и тревожащее бытие, то этим я обязан Вам и Шопенгауэру.
Сколь многие чисто научные проблемы постепенно прояснились для меня благодаря взгляду на Вашу стоящую особняком и столь исключительную личность — об этом, как и обо всем только что написанном, я бы предпочел сказать Вам однажды устно. Как бы хотелось мне и сегодня появиться среди Вашего горно-озерного одиночества, если бы злосчастная цепь моей профессии не удерживала меня в моей базельской конуре.
Напоследок мне остается еще выразить просьбу кланяться госпоже баронессе фон Бюлов, а также засвидетельствовать самого себя
как Вашего вернейшего и
преданнейшего приверженца и почитателя доктора
Ницше, профессора в Базеле.
33 Эрвину Роде в Италию [Базель, 29 мая 1869]
(…) Здесь в Базеле все идет наилучшим образом. Коллоквиумы (по Эсхиловым «Хоэфорам» и истории греческой лирики), каждый понедельник семинар, каждый день одно или два учебных занятия. В педагогиуме я с очень сообразительным классом читаю Платона и устраиваю своим ребятишкам легкий моцион по философским проблемам, так сказать, чтобы вызвать у них аппетит. (…) Вчера перед целиком заполненной аудиторией я держал свою вступительную речь — «о личности Гомера», изобилующую философско-эстетическими воззрениями, которые произвели, похоже, очень живое впечатление. Мой круг общения измеряется сейчас, по сути, лишь именами, а не личностями: каждый день добавляет в него массу новых персонажей, которые я должен, даже обязан замечать — pro dolor1. Более близкие отношения установились у меня с самого начала с умнейшим и оригинальнейшим типом
65
Якобом Буркхардтом, чему я искренне рад, поскольку мы обнаружили удивительное совпадение наших эстетических парадоксов.
Но прежде всего я так счастлив потому, что ближайшим образом познакомился с Рихардом Вагнером и на второй день Торицы мы провели весь день по его приглашению в его милейшем загородном доме вместе с замечательной госпожой фон Бюлов, (дочерью Листа). Последняя пригласила меня недавно на день рождения Вагнера, желая сделать ему сюрприз: к сожалению, мне пришлось отказаться из-за своих доцентских обязанностей. Вагнер действительно воплощает в себе все то, что я надеялся в нем увидеть: у него великий и до расточительности богатый ум, энергичный характер, этот человек чарующе любезен, обладает сильнейшей потребностью в знаниях и т. д. Пора заканчивать, а то я спою целый пэан[41]. (…)

66
34 Эрвину Роде в Рим [Базель, 16 июня 1869]
Драгоценный друг,
возможно, ты уже получил мое письмо, пусть даже и после чудовищных ambagibus1. Тем не менее я испытываю сильнейшую потребность подать следом еще один признак жизни и знак любви, а заодно и благодарности за твое столь тронувшее меня письмо. Постепенно настает то, чего я ожидал с самого начала: среди своих ученнейших коллег я ощущаю себя настолько чужим и равнодушным, что уже прямо-таки с наслаждением отклоняю ежедневно получаемые мной приглашения

и побуждения всяческого рода. Plebecula2 моих сослуживцев испортила мне теперь даже то удовольствие, которое доставляют горы, лес и озеро. Так что в этом мы с тобой тоже совершенно совпадаем: мы можем выносить одиночество, более того, мы его любим. И когда мы оказываемся вместе, это уже не двое, а настоящая подлинная монада — только тогда мы одиноки по-настоящему и отделены от докучливого мира. (…)
35 Густаву Кругу — Пилатус, 4 августа 1969
С завтрашнего дня я снова в Базеле
Мой дорогой Густав,
в доказательство того, что моя дружеская привязанность к тебе не ослабевает и на высоте 6000 футов над уровнем моря, среди ледяных облаков[42], я, держа дурное перо окоченевшими на негостеприимном хмуром Пилатусе пальцами, сажусь за письмо, чтобы поведать тебе о моих последних событиях, которые, думаю, заинтересуют тебя как никого другого из моих друзей.
Итак, последние дни я снова провел у моего высокочтимого друга Рихарда Вагнера, который любезно предоставил мне право на неограниченно частые визиты и был очень сердит, когда я однажды в течение четырех недель ни разу этим правом не воспользовался. Ты, наверное, сможешь оценить, сколь многое я приобрел благодаря этому разрешению, — ведь этот человек, о котором до сих пор еще не высказано ни одного полностью характеризующего его суждения, выказывает во всех своих свойствах такое безоговорочное, несомненное величие, такой идеализм дум и воли, такую недостижимо благородную и теплую человечность, такую глубину жизненной серьезности, что мне все время кажется, что передо мной — избранник столетий. К тому же именно сейчас он был особенно счастлив, поскольку только что закончил третий акт своего «Зигфрида» и, полный сил, переходит к сочинению «Гибели богов». Все, что я знаю из «Зигфрида», с первых же набросков великолепно по своей концепции, к примеру, битва Зигфрида с «драконом», пенье птицы и т. д. В воскресенье с утра в своей комнатке с широким видом на Фирвальдштеттское озеро и Риги я просмотрел множество рукописей, которые мне передал Вагнер: новеллы времен его первого пребывания в Париже, философские статьи и драматические наброски, прежде всего же — полная глубоких мыслей exposé1, предназначенная его «юному другу» королю Баварии, в которой Вагнер объясняет свои взгляды, изложенные в «Государстве и религии». Никогда еще ни с каким королем не говорили с таким благородством и глубиной, как здесь, жаль только, что молодой человек, похоже, так мало из этого усвоил. (…)
Но к чему все эти разрозненные заметки? Мне бы хотелось рассказывать несколько часов напролет, чтобы у тебя составилось представление об этом удивительном гении.
68
Дни, которые я прожил этим летом в Трибшене, — без сомнения наиболее ценный результат моей базельской профессуры. (…)
36 Карлу
фон Герсдорфу в Берлин — Базель, 28 сентября 1869
Мой дорогой друг
вот, узнай, какое действие оказало твое последнее письмо: теперь и я, после того как получил его, больше не отношусь к числу «саркофагов». Мне вспоминается, как я сам сделал однажды в Лейпциге после чтения Шелли робкую попытку указать тебе на парадоксальность вегетарианства вместе со всеми вытекающими из него следствиями. К сожалению, это было в неподходящем месте, в ресторации «Mahn», где перед нами на столе лежали котлеты со всякой всячиной. Прости, что у меня в памяти всплыла эта деталь, которой я сам удивляюсь, но, видно, контраст твоей натуры и вегетарианского мировоззрения показался мне тогда столь разительным, что запомнилась даже эта подробность.
За этим признанием следует и второе, а именно: теперь я снова убежден, что все это — причуда, да к тому же и весьма опасная. Правда, я не уверен, что смогу прямо сейчас сходу привести все доводы против, которые за это время пришли мне в голову. Я вновь, как это теперь нередко провел пару дней у человека, который годами практиковался в подобном воздержании и может на эту тему многое сказать, а именно — у Рихарда Вагнера. И он… указал мне на внутреннюю нелепицу этой теории и практики. Важней всего для меня то, что здесь мы имеем дело с очередной вариацией того оптимизма, который снова и снова всплывает наружу в самых причудливых формах — то в виде социализма, то в виде идеи кремации взамен погребения, а то и в виде вегетарианства, как если бы простым устранением какого-нибудь греховно-противоестественного явления можно было установить счастье и гармонию. (…) Конечно же, уважение к животному только красит благородного человека. Однако жестокая и столь безнравственная богиня Природа навязала нам, народам этой климатической зоны, инстинкт к чудовищному — к плотоядности, в то время как в теплых областях, где обезьяны живут растительной пищей, люди тоже, в силу тех же необоримых инстинктов, довольствуются ею. Даже и у нас среди особенно крепких и занятых физическим трудом людей чистое вегетарианство возможно, однако подразумевает решительное сопротивление самой природе, которая на свой манер мстит за это, в чем Вагнер ярчайшим об-
69
разом убедился на собственном примере. Один из его друзей даже стал жертвой подобного эксперимента, сам же он думает, что давно расстался бы с жизнью, если бы продолжал питаться подобным образом. Опыт позволяет сформулировать следующий канон в этой сфере: люди интеллектуально продуктивные и живущие интенсивной эмоциональной жизнью должны есть мясо. Другой путь — это для пекарей и крестьян, которые в сущности не что иное как машины для пищеварения[43].
Не менее важен и тот момент, что на подобный ненормальный образ жизни, ввергающий нас в состояние постоянной борьбы, расходуется неимоверное количество духовных сил и энергии, которые мы при этом забираем у более благородных и полезных устремлений. Тот, кто имеет мужество на собственном примере доказывать нечто неслыханное, должен позаботиться о том, чтобы оно было при этом чем-то достойным и великим — а не теорией, касающейся телесного пропитания. (…) Я знаю, драгоценный друг, что в твоей натуре есть нечто героическое, желающее создать себе мир наполненный борьбой, требующей постоянных усилий, но я боюсь, что какие-нибудь совершенно ничего не значащие тупицы хотят воспользоваться этим твоим благородным стремлением, пытаясь навязать тебе подобные принципы. Во всяком случае посвященную этой теме широко распространенную писанину я считаю очень сомнительной, продиктованной честным до глупости фанатизмом. Будем бороться, но не с ветряными мельницами? Будем думать о борьбе и аскезе по-настоящему великих людей — Шопенгауэра, Шиллера, Вагнера! Ответь мне, дорогой друг.
Ф. Н.
Я принимаюсь за новый лист, поскольку меня действительно очень тревожит, что я могу не совпадать с тобой в этом вопросе. И все же, чтобы показать тебе всю благожелательность вложенной в это беспокойство энергии, я сам придерживался до сих пор именно такой <вегетарианской> жизненной практики и буду продолжать это до тех пор, пока ты сам не дашь мне разрешения жить иначе[44].
Почему вообще нужно доводить всякое воздержание до крайностей? Очевидно, потому, что легче придерживаться сугубо внешних пунктов, чем безошибочно находить золотую середину.
(…) Я очень хорошо понимаю, что временное воздержание от мяса может быть чрезвычайно полезно по причинам диетическим[45]. Но зачем же, говоря словами Гете, «делать из этого религию»? Однако подобный соблазн неизбежно заложен во всех подобных чудачествах, и тот, кто созрел для вегетарианства, обычно готов уже и к социалистической «мешанине». (…)[46]
70
37 Эрвину Роде во Флоренцию [Наумбург, 7
октября 1869]
(…) За окнами 00 полнящая нас раздумьями осень в ясном, мягко согревающем солнечном свете, северная осень, которую я так люблю за ее зрелось и очищенную от желаний бессознательность. Плод падает с дерева без малейшего дуновения ветра.
И так же обстоит с любовью дружеской: не привлекая к себе внимания, без всякой встряски она достается нам и осчастливливает. Она ничего не жалеет для себя и отдает все свое. Только сравни отвратительно-алчную плотскую любовь с дружбой!
(…) Я так жду нашей встречи с тобой еще и потому. Что в последние годы во мне вызревает целое множество эстетических проблем и ответов, рамки же письма слишком тесны, чтобы я мог в них что-то разъяснить тебе из этого. Я использую возможность публичных выступлений для разработки мелких деталей моей системы, как я сделал уже, к примеру, в своей речи по поводу вступления в должность. Разумеется, Вагнер в высшем смысле полезен мне при этом — в первую очередь как образец, который непостижим с точки зрения бывших до сих пор эстетических взглядов. Прежде всего следует смело перешагнуть за пределы лессинговского «Лаокоона», даже и выговорить нельзя, не испытав при этом внутренней робости и стыда. (…)
38 Паулю
Дойзену в Минден — Базель [19 декабря 1869]
(…) Поскольку ты хочешь что-нибудь услышать о том опыте, который я приобрел в этой столь жадно впитываемой мною атмосфере, могу написать тебе пару догматов моей веры. Философия, которую мы принимаем из чистого стремления к познанию, никогда не станет для нас совершенно своей, поскольку совершенно своей она для нас никогда не была. Подлинная философия всякой личности есть ἀνάμνησις1. Отсюда — громкая слава даже дурных философов. Ты ищешь такой философии, которая сможет дать тебе одновременно практический канон, расспроси же себя подробней о характернейших мотивах твоих прежних поступков: сознательно ты сможешь создать для себя никаких новых мотиваций. Действительное существует, но оттого что оно есть, оно вовсе не является еще и разумным. Оно лишь необходимо. (…)
71
39 Паулю Дойзену в Минден [Базель, февраль
1870]
(…) я замечаю, как мои философские, нравственные и научные устремления сводятся к одной-единственной цели и что я, быть может, первым из всех филологов, становлюсь неким единством*. Какой волшебно новой и преображенной выглядит для меня история, в особенности — история эллинизма! Мне хотелось бы вскоре как-нибудь прислать тебе тексты моих докладов, последний из которых («Сократ и трагедия») был воспринят здесь как цепочка нанизанных друг на друга парадоксов** и отчасти возбудил ненависть и ярость. Я уже совершенно разучился осмотрительности в главных вопросах; по отношению к отдельной личности нам следует быть сочувственными и уступчивыми, но в выражении своего мировоззрения — непреклонными, как древнеримские герои[47]. (…)
*В письме
Эрвину Роде в те же дни Н. передает это ощущение следующими словами: «Наука,
искусство и философия сейчас так срастаются во мне воедино, что, наверное,
однажды я смогу породить кентавра»[48].
**Ср. с
письмом Георгу Брандесу от 8 января 1888 г. (№ 269), где Н.
говорит о том, что пресса воспринимает книгу «По ту сторону добра и зла» как
«мешанину произвольно нанизанных парадоксов и еретических мыслей»[49].
40 Эрвину
Роде в Венецию [Базель, 30 апреля 1870]
(…) На этой неделе трижды слушал «Страсти по Матфею»[50] божественного Баха — каждый раз с чувством неописуемого изумления. Тот, кто полностью отучился от христианства, слушает это произведение прямо-таки как Евангелие (…)[51]
72
41 Рихарду Вагнеру в Трибшен — Базель, 21
мая 1870
в прошлом году мне было не суждено быть свидетелем празднования Вашего дня рождения, так же и на сей раз неблагоприятные обстоятельства препятствуют мне в этом. (…)
Позвольте же мне сегодня сузить круг своих пожеланий до числа наиболее личных. Другие пусть отваживаются связывать свои поздравления со священным искусством, с наивысшими упованиями немецкой нации, наконец с Вашими собственными пожеланиями; я же удовлетворюсь субъективнейшим из всех пожеланий: пусть Вы останетесь для меня тем, чем Вы были для меня в последние годы — моим мистагогом в тайных учениях искусства и жизни. и если даже временами сквозь серый туман моей филологии Вам покажется, что я где-то вдалеке, так на самом деле никогда не бывает, — мои помыслы всегда связаны с Вами. Если правда — написанное однажды, к моей гордости, Вами: а именно, что мной дирижирует музыка, то уж во всяком случае Вы — дирижер этой моей музыки; а ведь, по Вашим собственным словам, даже нечто средненькое благодаря хорошему дирижеру может производить удовлетворительное впечатление. В этом смысле выскажу самое странное из всех пожеланий: пусть остается так, как есть; остановись мгновенье — ты прекрасно! От ближайших лет я желаю лишь того, чтобы я сам не оказался недостоин Вашего неоценимого участия. Примите это мое пожелание в число пожеланий, с которыми Вы начнете свой новый год!
Один из «блаженных
младенцев»2
42 Эрвину
Роде в Гамбург [Базель, 19 июля 1870]
(…) И вот, как ужасный удар грома: объявлена франко-прусская война и наша ослабевшая культура бросается в объятия овратитель-
73
нейшему из демонов*. Что будет с нами!? Друг мой, милый друг, нам довелось еще раз увидеться на закате мирной эпохи1. [53] Как я благодарен тебе! (…)
Быть может, мы уже находимся в начале конца! Какое кругом запустение! Нам снова понадобятся монастыри. И мы будем в них первыми послушниками.
Верный швейцарец.
*Н. тревожит
то, «насколько сильно такою ожесточенной национальной войной могут быть разрушены
сами традиции культуры», — как он напишет день спустя в письме Софии Ричль.
43 Вильгельму
Фишеру в Базель — Мадеранерталь, 8 августа 1870
Глубокоуважаемый господин член муниципалитета,
при нынешнем положении Германии для Вас не будет неожиданностью то, что я тоже стремлюсь исполнить свой долг перед отечеством. В связи с чем я обращаюсь к Вам, прося предоставить мне отпуск на последнюю часть летнего семестра. Мое самочувствие сейчас настолько укрепилось, что я могу без всяких колебаний отправиться в часть в качестве солдата или медбрата. А то, что я тоже обязан положить скромную лепту своих возможностей на жертвенник отечества, едва ли встретит где-нибудь большее понимание и одобрение, чем в швейцарском образовательном учреждении. (…)
44 Карлу фон Герсдорфу во Францию (полевая почта) — Наумбург, 20 октября 1870
Мой дорогой друг,
это утро принесло мне необычайно радостный сюрприз и избавление от страхов и беспокойства — твое письмо. Позавчера в Пфорте я был ужасно напуган, услышав, каким сомневающимся тоном произносится твое имя — ты знаешь, что в наши дни подразумевает этот сомневающийся тон. Я незамедлительно затребовал у ректора список павших
74
выпускников Пфорты. В одном и главном пункте он успокоил меня. В остальном же было много печального. Кроме имен, которые ты уже назвал, на первом месте в списке я увидел Штёкерта, затем фон Ортцена (правда, с вопросительным знаком) и т. д. — всего 16 человек.
Все, что ты мне пишешь, сильнейшим образом затронуло меня, прежде всего тот глубоко серьезный тон, с которым ты говоришь об испытании огнем, которому подверглось наше общее мировоззрение. Я тоже получил подробный опыт, для меня тоже эти месяцы были временем проверки прочности этого учения. Что ж, с ним можно умирать — это больше, чем если бы было сказано: «с ним можно жить». Ведь я вовсе не находился в полной безопасности и от военных действий изолирован не был. Я сразу попросил у своего начальства дать мне отпуск, дабы я мог выполнить свой воинский долг немца. Мне дали отпуск, однако обязали, по причине швейцарского нейтралитета, не носить оружия (с 1869 года у меня нет прусских прав гражданства). Я немедленно отбыл вместе со своим замечательным другом, чтобы посвятить себя уходу за ранеными. Этот друг, с которым у нас в течение семи недель все было общим — художник Мозенгель из Гамбурга; когда наступит мир, я познакомлю тебя с ним. Без его душевного участия я едва ли смог бы перенести события последнего времени. В Эрлангене я прошел у своих тамошних коллег по университету медицинскую и хирургическую практику — там у нас было 200 раненых. Через несколько дней мне был поручен уход за двумя пруссаками и двумя турками… Через 14 дней мы оба с Мозенгелем отправились оттуда; нам было дано множество частных поручений, а также значительная денежная сумма для 80 уже находящихся на фронте полевых санитаров. (…) Выполнение этого задания было чрезвычайно трудно, поскольку у нас не было никаких адресов, мы должны были сами, совершая утомительные переходы, по очень неопределенным указаниям отыскивать лазареты под Вайсенбургом, на поле сражения под Вертом, в Хагенау, Люневилле, Нанси и Меце. В Арс-сюр-Мозеле на наше попечение были переданы раненые. Поскольку их транспортировали в Карлсруэ, с ними мы вернулись на родину. Мне надо было три дня и три ночи в одиночку ухаживать за шестью ранеными, Мозенгелю — за пятью. Стояла плохая погода, наши товарные вагоны должны были оставаться почти закрытыми, чтобы раненые не промокли. Атмосфера в этих вагонах была ужасной, к тому же у моих подопечных была дизентерия, у двоих — дифтерия; словом, трудиться мне приходилось не покладая рук, в течение трех часов по утрам и столько же вечером заниматься перевязками. Вдобавок никакого покоя по ночам из-за простых человеческих потребностей страждущих. К тому моменту, как я сдал своих больных в отлич-
75
ный лазарет, я сам уже был тяжело болен, у меня сразу же началась холера и дифтерия[54]. С трудом я добрался до Эрлангена. Там я слег. Мозенгель, жертвуя собою, выхаживал меня — это был отнюдь не пустяк, учитывая характер заболевания. После нескольких дней… лечения главная опасность миновала. Через неделю я смог отправиться в Наумбург, однако до сих пор еще не выздоровел. Вдобавок атмосфера всего пережитого остается вокруг меня, как мрачный туман: долгое время мне все еще слышались не желающие смолкать жалобные стоны. (…)
45 Карлу фон
Герсдорфу во Францию (полевая почта) Базель, 7 ноября 1870
(…) Нынешним летом я написал статью «О дионисийском мировоззрении», рассматривающую греческую древность с той стороны, с какой, благодаря нашему философу, мы к ней можем теперь подступиться поближе. Однако это — исследования, которые пока предназначены только для меня одного. Больше всего на свете я хочу, чтобы у меня появилось время дать себе по-настоящему созреть и тогда уже создать нечто целое из этой внутренней полноты.
То, в каком состоянии может в ближайшее время оказаться наша культура, вызывает у меня сильную тревогу. Как бы нам за наши непомерные национальные успехи не пришлось заплатить слишком большую цену в той самой сфере, где я категорически не желаю мириться ни с какими убытками. Скажу откровенно: нынешнюю Пруссию я считаю силой, которая чрезвычайно опасна для культуры. Пороки школьного образования я хотел бы как-нибудь разоблачить публично; с религиозными интригами, которые сейчас снова ведутся в Берлине в пользу католических церковных властей, пусть разбирается кто-нибудь другой. Положение сейчас действительно тяжкое, и нам следует быть в достаточной степени философами, чтобы посреди всеобщего опьянения сохранять благоразумие, дабы не пришел вор и не украл у нас то, что для меня не идет ни в какое сравнение с величайшими военными успехами и даже со всем этим национальным подъемом.
Для грядущей культурной эпохи нужны борцы, и поэтому мы должны сохранить себя для нее. Дорогой друг, тревожась и переживая, я все время думаю о тебе — пусть же гений будущего, такого, на которое мы надеемся, ведет и хранит тебя!
Твой верный друг Фр. Ницше
76
46 Эрвину Роде в Гамбург [Базель, 15
декабря 1870]
Дорогой друг,
не прошло и минуты с тех пор, как я прочел твое письмо, и вот уже пишу тебе. Я просто хотел сказать тебе, что чувствую точно так же, как ты и буду считать позором, если с помощью энергичного деяния мы не выйдем из этой тоскливой понурости. Послушай же, что прокручивается у меня в уме. Протянем еще пару лет это университетское, будем считать его поучительным страданием, которое надо вынести со всей серьезностью, с широко открытыми глазами. Это должно, кроме прочего, стать временем учебы преподаванию, подготовить себя к которому вроде бы и является моей задачей. Только цель свою я теперь ставлю несколько выше.
Что касается далекой перспективы, то и мне совершенно ясно, насколько несовместимо учение Шопенгауэра с университетской премудростью. Совершенно радикальное бытие истины здесь невозможно. Здесь нет и не может быть почвы для настоящего переворота.
А потому мы можем стать настоящими учителями[55], только если сами со всей силой вырвем себя из этой атмосферы времени и станем не только более мудрыми, но и прежде всего лучшими людьми. Еще и поэтому я не смогу долго переносить академический воздух.
Итак, когда-нибудь мы непременно сбросим это бремя, для меня это совершенно очевидно. И тогда мы сможем основать новую греческую Академию и Ромундт будет, конечно, с нами. Побывав в Трибшене, ты теперь, разумеется, знаешь байройтский план Вагнера. Я очень напряженно размышлял над тем, не должен ли благодаря этому произойти одновременно и наш разрыв с современной филологией и ее образовательными перспективами. Я готовлю значительное adhortatio1 для всех еще не окончательно задушенных и проглоченных современностью натур. Как жаль все-таки, что я должен тебе об этом писать, что каждая мысль не была с тобой уже давно проговорена! И так как тебе не понятна вся эта уже образовавшаяся конструкция в ее полноте, то мой план покажется, наверное, эксцентрической причудой. Но это не так; он — необходимость.
Недавно вышедшая книга Вагнера о Бетховене может тебе многое прояснить из того, чего я сейчас желаю от будущего. Прочти ее, это откровение духа, в котором мы — мы! — будем жить в будущем.
77
И пусть даже окажется, что у нас будет совсем мало товарищей по убеждениям, все-таки я верю, что сами мы сможем — конечно, не без потерь — вырваться из этого потока и достичь маленького островка, на котором нам больше не нужно будет затыкать уши воском. Мы будем тогда учителями друг другу, а наши книги — лишь удочками, чтобы находить людей для нашего монастырско-художнического товарищества. Мы будем жить и работать друг для друга, наслаждаться друг другом; возможно только так мы сможем работать на что-то целое. (…)
47 Вильгельму
Фишеру в Базель [Базель, предп. январь 1871]
Глубокоуважаемый господин член муниципалитета,
вот план, который особенно нуждается в Вашем благожелательном совете и Вашем искреннем участии во мне, столько раз уже выказанном Вами. Как Вы сможете убедиться, меня всерьез заботит благополучие университета, и его действительные интересы сподвигли меня к нижеследующим довольно пространным размышлениям.
Мои врачи должны будут сообщить Вам о том, до какой степени я снова болен и что виной этоим непереносимым состояниям — перенапряжение. Я постоянно спрашиваю себя, чем объяснить это возникающее посреди едва ли не каждого семестра состояние перенапряжения, и мне пришлось даже задуматься над тем, не следует ли вообще прервать свою университетскую деятельность из-за того, что этот образ жизни несвойствен моей натуре. Однако в конце концов в своих размышлениях я склонился к другому мнению, которое и хотел бы теперь донести до Вас.
Я живу здесь в неком своеобразном конфликте, и именно он истощает и даже физически изнуряет меня. Чувствуя от природы сильнейшую склонность к тому, чтобы философски продумывать нечто целостное, основательно и подолгу останавливаясь на какой-нибудь одной проблеме, я ощущаю все время, что налагаемые моей профессией повседневные обязанности и их специфика заставляют меня разбрасываться и уводят с моего пути. Вряд ли я долго смогу выдерживать это чередование университета и педагогиума — ведь я чувствую, что мое собственное, философское, предназначение, ради которого я готов при необходимости принести в жертву любую профессию, страдает из-за этого и даже принижается до какой-то любительщины. Думаю, это описание
78
ярчайшим образом характеризует то, что меня здесь так изматывает и не позволяет с ясной размеренностью выполнять свои профессиональные обязанности, а с другой стороны, истощает меня физически, возрастая до таких страданий, как нынешние, которые, если они будут возвращаться еще чаще, могут чисто физически принудить меня оставить всякую филологическую деятельность.
В связи с этим позволю себе обратиться к Вам в качестве соискателя освободившейся после ухода Тайхмюллера должности профессора философии.
Что касается обоснованности моих амбиций занять философскую
кафедру, тут я могу засвидетельствовать Вам самолично, что обладаю для этого и
способностями, и знаниями и в целом даже чувствую себя более способным к такой
службе, чем к чисто филологической. Те, кто знал меня в школьные и студенческие
годы, никогда не сомневались в том, что во мне превалируют философические
наклонности, и даже в филологических штудиях меня привлекало по преимуществу
то, что казалось мне значимым либо для
истории философии, либо применительно к этическим и эстетическим проблемам. Кроме того,
я полностью присоединяюсь к высказанному Вами суждению и позволю себе выставить
как довод в свою пользу, что при нынешнем довольно затруднительном положении
университетской философии и малом числе действительно подходящих соискателей
некоторое преимущество должны получать те, кто выказал солидную филологическую
образованность и может развить у учащихся вкус к тщательной интерпретации
Аристотеля и Платона. Я хочу напомнить в связи с этим, что мною уже были
объявлены два семинара, в этом смысле носившие философский характер:
«Доплатоновские философы (с интерпретацией избранных фрагментов)» и «О платоновском
вопросе». Все то время, что я посвятил изучению филологии, я неустанно
стремился быть в тесном соприкосновении с философией. Скажу больше: философские
вопросы всегда были предметом моего главного интереса, что могут
засвидетельствовать те, кто со мною общается. Из здешних коллег более подробно
мог бы сказать об этом, к примеру, Овербек, из прочих — не кто иной как мой
друг доктор Роде, приват-доцент в Киле. Только случайностью можно объяснить то,
что я изначально не связал свои университетские планы с философией, что у меня
не было значительного и действительно вдохновляющего преподавателя философии,
чему, конечно же, при нынешнем состоянии философии в университетах не
приходится удивляться. В любом случае я исполнил бы одно из самых заветных
своих желаний, если бы смог последовать здесь голосу своей природы, и я смею
надеяться что после разрешения вышеупомянутого конфликта мое физи-
79
ческое состояние тоже станет гораздо стабильней. Способность к философскому преподаванию я не раз уже доказывал на деле (…) Из философов последнего времени я с особым пристрастием изучал Канта и Шопенгауэра. За последние два года Вы, я думаю вполне могли увериться в том, что умею избегать неуместных и предосудительных тем и способен различать, что годится для лекции перед учащимися, а что — нет.
Если позволительно будет теперь целиком представить на Ваше рассмотрение задуманную мной комбинацию, то я полагаю, что в Роде Вы встретите исключительно подходящего преемника для моей филологической профессуры и моего места в педагогиуме. Р., который уже четыре года как мне прекрасно знаком, — наиболее способный из всех молодых филологов, какие мне встречались,настоящее украшение любого университета, сумевшего его заполучить; при этом заполучить его еще вполне возможно, несмотря на то, что в Киле намереваются учредить новую филологическую экстраординарную профессуру и тем самым удержать его надолго. Я даже не могу выразить, до какой степени близость моего лучшего друга облегчила бы мне базельское житье
Все эти изменения могли бы произойти сразу же с началом нового летнего семестра, так что соответствующие должности не пустовали бы ни одного дня. Я со своей стороны был бы готов немедля оповестить Вас о плане моих философских лекций (…)
Просящий Вашего снисхождения, Вашего совета, вашего участия
с глубочайшим почтением преданный Вам
доктор Фр. Ницше
ординарный профессор классической филологии.
48 Эрвину Роде в Киль — Лугано, [29 марта 1871]
(…) Наряду с угнетенностью и часами уныния у меня были и несколько моментов настоящего подъема, и кое-что из этого оставило свой след в названном сочинении <«Происхождение и цель трагедии»>. К филологии я испытываю такое категорическое отчуждение, что хуже и не придумаешь. От похвалы и от порицания, даже от самого громкого успеха на этом поприще меня трясет. Так что я постепенно вживаюсь в свое философствование и даже чувствую веру в себя; и если мне суждено стать еще и писателем, я готов даже к этому. Никакого компаса, указующего, в чем мое предназначение, у меня нет, и все
80
же, если взглянуть со стороны, во всем мне видится такое чудное согласие, как если бы меня вел до сих пор добрый гений. Никогда бы не подумал, что при такой неясности целей, при отсутствии стремления к успеху на государственной службе можно все же чувствовать себя столь спокойно и ясно, как это в целом чувствую я. какое удивительное ощущение: видеть перед собой свой собственный мир — эдакий шарик, становящийся все полней и круглей! Я вижу, как из него вылупляется то кусочек новой метафизики, то — новой эстетики, а затем задумываюсь о новых принципах воспитания, совершенно забросив все гимназии и университеты. Я перестал учиться чему-либо, что не сможет немедля занять достойного места в каком-нибудь углу уже имеющегося у меня. И этот рост моего собственного мира я ощущаю особенно в те моменты, когда в спокойствии (но не с прохладцей) размышляю над так называемой всемирной историей последних десяти месяцев, чтобы воспользоваться ею просто как средством для своих благих намерений, без всякого преувеличенного почтения перед этим средством. Гордыня и помешательство — это на самом деле еще слишком слабые слова для обозначения моей духовной «бессонницы». Благодаря этому состоянию я могу смотреть на всю свою университетскую ситуацию как на что-то побочное, подчас даже досадное, и даже философская профессура привлекает меня в основном из-за тебя: ведь и эту профессуру я рассматриваю лишь как нечто временное.
Ах, как же мне нужно здоровье! Как только от тебя начинает зависеть нечто такое, что будет длиться дольше тебя самого, становишься благодарным за каждую спокойную ночь, за каждый теплый солнечный луч, даже за исправное пищеварение! У меня же какие-то внутренние органы в животе находятся в полном расстройстве. Отсюда и нервы, и бессонница, геморрой, привкус крови и т. д. Будь только другом, не редуцируй вышеописанное состояние духа к работе ганглия. (…)
49 Карлу фон Герсдорфу в Мариенбад — Базель, 21 июня 1871
Мой славный дорогой друг,
итак к счастью для меня, ты воротился домой, выйдя цел и невредим из чудовищных опасностей. Теперь ты наконец снова можешь подумать о мирных занятиях и задачах, оглядываясь на тот страшный военный эпизод как на значительный, но уже улетучивающийся сон. Теперь предстоят новые обязанности, и если в мирное время в нас должно
81
остаться что-то от этой дикой военной забавы, так это тот геройский и одновременно вразумленный дух во всем его исконно германском здоровье и свежести, который я, к своему радостному изумлению и так нежданно, встретил в наших войсках. Мы вправе надеяться на то, что это послужит фундаментом! Наша немецкая миссия еще не окончена! Я чувствую себя воодушевленным как никогда: потому что не все еще погублено французско-еврейской пошлость и «элегантностью и жадным ублажением потребностей «сегодняшнего дня». Есть еще храбрость, и притом немецкая храбрость, а это нечто внутреннее иное, чем élan1 наших злосчастных соседей.
Даже на фоне этого сражения наций нас ужаснула голова международной гидры2, показавшаяся так внезапно и устрашающе — как предвестник совсем иных битв будущего. Если б мы однажды смогли высказать это друг другу лично, мы бы сошлись в том, что как раз в этом явлении наша современная жизнь, а по сути, вся старая христианская Европа и ее государство, но прежде всего повсеместно теперь господствующая романская «цивилизация» обнаруживают чудовищную порчу, свойственную нашему миру. И еще: настолько все мы, со всем нашим прошлым, виновны в том, что подобные ужасы становятся действительностью. И насколько мы должны быть далеки от того, чтобы со спокойным самодовольством вменять преступление борьбы с культурой одним лишь этим несчастным. Когда я узнал о пожаре в Париже3[56], то в продолжение нескольких дней чувствовал себя совершенно уничтоженным, я терзался в слезах и сомнениях: вся научная жизнь, творческое и художническое существование показались мне абсурдом, коль скоро одного дня оказывается достаточно, чтобы истребить прекраснейшие произведения, даже целые периоды искусства. Я пытался утешаться искренним убеждением в метафизической ценности искусства, которое из-за этих бедняг не могло больше присутствовать в нашем мире, но зато продолжало выполнять более высокую миссию. Но сколь бы ни было велико мое горе, я был не в состоянии бросить камень в тех святотатцев: они для меня — лишь носители нашей всеобщей вины, о которой стоит всерьез задуматься! (…)
82
50 Карлу фон Герсдорфу в Берлин [Базель, 18 ноября 1871]
Прости меня, мой друг, за то, что я не поблагодарил тебя раньше за твои письма, каждое из которых говорит о твоей интенсивной культурной жизни. Как будто ты в сущности остаешься еще солдатом и стремишься теперь проявить свой боевой настрой в области философии и искусства. И это правильно: именно в наши дни мы не имеем права жить иначе как будучи бойцами, авангардом грядущего Saeculem1[57], становление которого мы предугадываем уже в нас самих, в наши лучшие мгновения. Эти лучшие мгновения остраняют[58] нас от духа нашего времени, но где-то же должна быть и их отчизна, поэтому я думаю, что они шлют нам смутное дуновение грядущего. И разве из нашей последней встречи в Лейпциге мы не вынесли воспоминания как раз о таких остраняющих мгновениях, которые родом из другого saeculem?
Как бы там ни было, суть в том, чтоб «на красоту и цельность навсегда решиться»2! Но для этого нужна твердая решимость, которая под силу не всякому!
(…) Сегодня, лишь сегодня замечательный издатель Фрицш[59] ответил на мой визит, из-за чего я опять же именно сегодня пишу тебе. Ведь именно вы с Роде были теми, кто морально и физически привел меня к любезному Фрицшу, на что я до сих пор не нарадуюсь. В том, что его ответ так долго откладывался, совершенно нет его вины. Он немедленно отправил рукопись на отзыв специалисту, а тот копался до 16 ноября… Того же самого числа любезный Фрицш писал мне, «чтобы меня не глодала досада и огорчение», и пообещал даже управиться до Рождества. Итак оформление решено сделать (порадуйся за меня!) по образцу вагнеровского назначения оперы». (…) На титуле же будет значиться:
Рождение трагедии из духа музыки
(…) Здесь тебя часто вспоминают. Событие3 я отмечал у Якоба Буркхардта в его комнате, и мы обильно полили улицу добрым рейнским вином из двух пивных бокалов. В прежние времена нас бы заподозри-
83
ли в колдовстве. Когда я после этого в половине двенадцатого ночи довольно демонически вернулся домой, то застал, к своему удивлению, друга Дойзена, с которым еще до двух ночи бродил по улице. Самым ранним поездом он уехал. У меня осталось о нем почти призрачное воспоминание, поскольку я видел его только при бледном свете фонарей и луны.
Дай как можно скорее чем-нибудь знать о себе, мой славный дорогой друг! (…)
51 Густаву
Кругу в Наумбург [Базель, 31 декабря 1871]
Мой дорогой друг,
я должен поблагодарить тебя — как за твое подробное и благожелательное письмо, так и за присланный тобою очень милый фрагмент <музыкальной> композиции. Начну с последнего. Я порадовался уверенности контрапункта в этом эксперименте… С другой стороны, у твоего скерцо есть, по моему ощущению, мрачно меланхолический привкус: когда я представляю себе в этом месте звучание струнных, у меня возникает впечатление лихорадочного возбуждения, стремительные дикие пассажи сменяются с пугающей быстротой и мы жадно оглядываемся в поисках спасительной передышки.
Здесь радость в открытые входит врата
И, тучи рассеяв, откинув завесы,
Сияет божественная красота —
как мы пели на слова Гете. Заметь, дорогой друг: «божественная»! тоска создана не для людей, а для зверей, как говорит Санчо Панса. Когда же человек чрезмерно ей предается он сам таким образом становится зверем. Я сейчас,насколько это возможно, стараюсь избегать «зверского» в музыке. Даже боль должна быть захлестываема такими волнами дифирамбического восторга, чтобы она сама почти тонула в них: так, как это ощущается мной на величайшем примере — в третьем акте «Тристана». Смейся сколько хочешь над моим абсурдным советом и пожеланием, но я желаю и советую тебе немного больше счастья — в том числе и в музыке, и пусть это будет моим новогодним пожеланием.
84
52 Эрвину Роде в Киль — Базель, 28 января 1872
Мой дорогой, славный друг,
на днях мне задавали вопрос, не согласился бы я занять профессорскую должность в Грайфсвальде, но я сразу же отказался в твою пользу, порекомендовав тебя. Продвинулось ли это дело дальше?..

Здесь эта история каким-то образом стала известна и вызвала большую симпатию ко мне у славных базельцев. Хотя я объяснил, что это было не официальное предложение, а только предварительный запрос, студенчество хотело включить меня в свое факельное шествие1, моти-
85
вируя это желанием выразить, насколько они ценят и чтут мою предшествующую деятельность в Базеле. От факельного шествия я, кстати, тоже отказался. Сейчас я читаю здесь доклады «о будущности наших образовательных учреждений» и временами даже имею с ними «сенсационный» успех. Ах, отчего мы не живем рядом! Ведь все то, что у меня сейчас на сердце и что я готовлю для будущего, в письмах невозможно толком даже затронуть.
С Вагнером я заключил союз. Ты даже не можешь себе вообразить, насколько мы теперь близки и как тесно соприкасаются наши планы.
Невозможно даже представить себе, что мне приходится слышать о свое книге, из-за этого я о ней ничего здесь не пишу. Что ты о ней думаешь? Необычайная серьезность сообщается мне через все суждения о ней, какие мне довелось узнать: в них я угадываю голос судьбы моих начинаний. Эта жизнь будет еще очень трудной.
…Из Лейпцига мне никто не пишет ни слова. Даже Ричль. Дорогой мой друг, должны же мы когда-нибудь снова оказаться вместе: это — священная необходимость. Уже некоторое время как я живу будто посреди большого потока; едва ли не каждый день приносит нечто удивительное, а вместе с этим выше становятся поставленные цели, чище — намерения.
Сообщаю тебе совершенно конфиденциально и прося эту конфиденциальность сохранить, что я среди прочего готовлю предназначающуюся для Бисмарка записку — интерпелляцию в государственный совет — по поводу страсбургского университета, в которой хочу показать, как постыдно упускается благоприятнейший момент для того, чтобы основать действительно немецкое образовательное учреждение, которое служило бы возрождению немецкого духа и уничтожению прежней так называемой культуры…[60]
Конный артиллерист с очень тяжелым орудием[61]
53 Фридриху
Ричлю в Лейпциг — Базель, 30 января 1872
Глубокоуважаемый господин тайный советник,
надеюсь, Вы не осудите меня за мое изумление тому, что я не услышал от Вас ни единого слова о моей недавно вышедшей книге, и за ту искренность, с которой я высказываю это удивление. Ведь эта книга —
86
в каком-то смысле манифест и едва ли
располагает к безучастному молчанию. Возможно, вы удивитесь, когда я скажу вам,
какой именно отклик предполагал найти в Вас, мой уважаемый учитель. Я думал,
что если в Вашей жизни Вам встретилось что-то многообещающее, то это как раз
эта книга — многообещающая для нашей науки об античности, многообещающая для
немецкой сущности пусть даже некоторое число индивидуумов должно погибнуть от
этого[62].
Поэтому как в том, что касается практических выводов из моих взглядов, я
в долгу не останусь; об этом Вы сможете отчасти догадаться из моего известия,
что я читаю здесь публичные лекции «о будущности наших образовательных
учреждений». От личных интересов и сковывающих соображений я чувствую себя
достаточно свободным, в чем Вы, думаю, не сомневаетесь, и поскольку я ничего не
ищу для себя, то надеюсь сделать что-то для других. Мне важно прежде всего
завладеть умами юного поколения филологов, и я сочту позорным, если мне это не
удастся.
Вот только Ваше молчание немного тревожит меня. Не то чтоб я, пусть даже на мгновение, усомнился в Вашем участии ко мне — в нем я смог убедиться раз и навсегда, — скорее как раз этим участием я мог бы объяснить мою собственную тревогу. Я пишу Вам, чтобы рассеять ее. (…)*
*14 февраля
того же года Ричль отправляет Н. следующий ответ:
«Поскольку Вы, дорогой
господин профессор, были столь любезны, что распорядились доставить мне свою
книгу через издателя, не написав от себя в сопровождение ни единой строчки, я,
право, никак не думал, что вы ожидаете с моей стороны незамедлительного
отклика. Так что «изумление, которое вы высказываете в Вашем недавнем письме,
премного меня удивило.
Если же и теперь, несмотря
на Ваше пожелание, я не ощущаю и едва ли буду в состоянии ощущать себя
способным к подробному рассмотрению Вашего труда, которое имело бы для Вас
какую-нибудь ценность, то здесь Вам следует учесть, что слишком стар для знакомства
с совершенно новыми жизненными и духовными тропами. По своей природе, и это
главное, ч столь решительно принадлежу к историческому направлению и
историческому взгляду на человечество, что объяснить мир с помощью той или иной
философской системы мне никогда не представлялось возможным; естественное
увядание эпохи или какого-либо явления я никогда не стал бы называть
«самоубийством»; в индивидуализации жизни никогда не признал регресса и никогда
бы не поверил, что духовные формы жизни и способности кого-то одного, пусть
даже в силу своей природы и своего исторического раз-
87
вития,
на редкость одаренного, до некоторой степени привилегированного народа могут
служить абсолютным мерилом для всех народов и на все времена. Не могу я
поверить и в то, что одна-единственная религия может отвечать, отвечала или будет
отвечать разным национальным характерам.
Вы ведь не вправе ждать от
«александрийца» и ученого, чтобы он осудил познание и в одном лишь
искусстве узрел преобразующую мир спасительную и освобождающую силу. Мир для
каждого разный, и поскольку нам так же не под силу преодолеть нашу
индивидуацию, как индивидуализировавшему себя в цветах и листьях растению —
вернуться в свои корни, так же и в неохватном хозяйстве жизни каждый народ
должен прожить в соответствии со своими задатками и своей миссией.
Таковы те общие соображения,
которые пришли ко мне после беглого просмотра Вашего труда. Я говорю
«просмотра» потому, что в мои 65 лет у меня, конечно, нет уже ни времени, ни
сил, чтобы изучать непременную вожатую Вашего развития, шопенгауэровскую
философию. По этой причине я не могу позволить себе судить о том, правильно ли
вообще я понял Ваши намерения. Будь философия для меня доступнее, мне было бы
проще радоваться многообразию прекрасных и глубоких мыслей и прозрений,
которые, должно быть, во многих случаях по моей собственной вине остаются для
меня недосягаема. Нечто подобное случилось со мной и в более молодые годы при
чтении «Развития идей» Шеллинга, а уж о спекулятивных фантазиях
глубокомысленного «Северного мага»[63]
и говорить нечего.
Могут ли Ваши воззрения
послужить новым фундаментом образования, не придет ли на этом пути немалая
часть нашей молодежи лишь к поверхностному пренебрежению наукой, не обретя взамен
никакой особой восприимчивости к искусству, не приведет ли это нас к опасности
того, что вместо распространения поэзии повсеместно будут открыты все пути
одностороннему дилетантизму, — все эти опасения старому педагогу не
возбраняется держать при себе без того, чтобы он чувствовал себя из-за них педантом
и ретроградом. Я думаю, не требуется никаких дополнительных заверений в том,
что для меня, равно как и для Вас, греческая античность является неиссякающим
источником мировой культуры, к которой мы снова и снова должны возвращаться с
непосредственной восприимчивостью. Должны ли мы, однако, поэтому возвращаться к
тем же самым формам — это вопрос, решение которого, вероятно, остается за всем
человеческим родом. И мне думается, что в личном сосуществовании и
взаимопомощи, в преданности и самоотдаче, в многообразных реальных формах
глубокого гума-
88
низма для человеческой массы также заключена некая
прорастающая из сердцевины мира сила, которая, преодолевая чересчур тесные
рамки индивидуации, ведет к освобождающему чувству самозабвения, — эта сила
непосредственного человеческого деяния, на которое способен и самый заурядный
человек.
54 Эрвину
Роде в Киль [Базель, 8 июня 1872]
(…) Герсдорф известил меня приблизительно о содержании этого памфлета1, и, лишь наполовину зная, в чем там дело и не представляя его формы, я и сам немного нервничал. Со вчерашнего дня текст у меня в руках, и я совершенно спокоен. Я вовсе не такой невежда, каким меня изображает автор, и не настолько обделен любовью к истине. Эта жалкая ученость, которой он щеголяет!.. Нужно ведь хоть что-то толком знать, прежде чем ввязываться в разговор о таких проблемах. Только за счет наглости интерпретаций он достигает желаемого эффекта. Притом он плохо меня читал, поскольку не понимает меня ни в целом, ни в частностях. Должно быть, он еще очень незрел; очевидно, его использовали, стимулировали, подзуживали — все так и дышит Берлином2. Подумать только, что прошлой осенью он меня навещал в Наумбурге с видимым почтением и что я сам посоветовал ему обратить внимание на мою готовившуюся книгу. Что он по-своему и сделал. Ничего не поделаешь, придется стереть его в порошок, хотя парнишка наверняка просто поддался искушению. Но это нужно сделать потому, что он подает дурной пример, предвидя влияние, которое может оказать подобная лживая брошюра. Благодаря тому, что ты стер его в пыль, он потом получит где-нибудь профессуру и будет счастлив[64].
89
И все-таки прежде всего, дорогой друг, мы должны воспринимать это дело всерьез и по-своему, а критикующего юношу принимать во внимание лишь как типаж. В этом смысле я всем сердцем рад тому, что ты поддерживаешь идею открытого письма Вагнеру. То, что ты стоишь здесь на моей стороне, должно взбудоражить весь филологический улей, я благодарен тебе за это твое намерение. Фрицш сделает свое дело быстро и аккуратно, в этом я уверен1.
Будь здоров, мой дорогой верный друг! Мы вправе чувствовать
себя на высоте положения! Мы вправе!
Адье, любимейший филолог будущего!
Твой Ф. Н.
55 Эрвину Роде в Киль [Базель, 16 июля 1872]
Вот, мой дорогой, славный друг, титул — изобретение моего товарища и соседа профессора Овербека, которое было встречено взрывом ликования и гомерического хохота
Филология навыворот2
доктора Ульриха фон Виламовица-Мёллендорфа
Послание
филолога Рихарду Вагнеру.
Твое имя будет стоять только под письмом, то есть в конце (но, конечно, полностью, со всеми титулами!). В заключительном слове ты можешь доставить себе удовольствие еще несколько раз окрестить Виламовица «филологом навыворот». Для нас он выступает представителем «ложной» филологии и успехом нашего труда должно стать то, что он покажется таковым и другим филологам. Ричлю я хочу еще раз серьезно и настоятельно написать, чтоб он выкинул из головы эту странную фантазию, будто мы собирались посягнуть на науку об античности (или
90
на историю!). Я ему написал пока только что ты в простой филологической манере собираешься разделаться с этим нахальным юнцом. Но письмо Вагнера его так напугало*, что он теперь боится всех нас вместе взятых. (…)
По поводу утверждений Виламовица об Аристархе и титанах я не могу найти ничего, на что бы он мог сослаться. О том, каков догомеровский элемент в борьбе с титанами, выразительней всех говорит Велькер: «Мифология», т. 1, 262. Вот только не хочется снова и снова слышать скучищу про гомеровский мир как юность, весну нации и т. д.! В том смысле, в каком об этом говорится, это неверно. Одно из моих глубочайших убеждений, что этому предшествует чудовищная дикая борьба, исполненная мрачной звериной жестокости, что Гомер предстает победителем на исходе этого долгого безнадежного периода. Греки гораздо старше, чем принято думать. О весне можно говорить только если подразумеваешь, что перед этой весной была зима. В любом случае этот чистый и прекрасный мир не с неба к нам свалился.
Мое понимание сатиров представляется мне чем-то очень важным для этого круга исследований, и в нем есть нечто существенно новое, не правда ли?
Скандальным оказалось то, что я назвал сатиров, в их древнейшем варианте, козлоногими. Но это просто глупость возражать на это, опираясь лишь на археологию и т. д. Ведь археологии известен только ритуальный облагороженный тип; ему же предшествует представление о козлах как служителях Диониса и козлиные прыжки его адептов. Козлиные ноги — это здесь то, что по-настоящему характерно для древнейших представлений, и я без всяких археологических доказательств утверждаю, что гесиодовы οὐτιδανοὶ και ἀμηχανόεπγοι1 были козлоногими (…)
Мой дорогой друг, не отчаивайся и не досадуй. У тебя сейчас на руках неприятная работенка, и стоит мне подумать, что ты при этом еще так скверно себя чувствуешь, как я начинаю стыдиться и смертельно раскаиваться, что принимаю от тебя такую жертву[65]. Могу присоветовать тебе насмешливый смех и дьявольскую веселость[66] как соль бытия. Когда наступит более спокойный момент, я расскажу тебе о «Тристане» и о неслыханном, касающемся Байройта предприятии, которое я сотворил в Мюнхене… Я всегда рядом с тобой, дорогой друг!
Ф. Н.
91
* Имеется в виду открытое письмо Вагнера Н. по поводу
памфлета Виламовица-Мёллендорфа. Накануне Ричль писал Н. касательно суждений
Вагнера о «науке <филологической>, которой он не знает, которой его бессистемным
образом мучили в детстве скучные преподаватели и которую он поверхностно и
дилетантский объявляет ненужной из-за того, что в силу особенностей своего
образования и всего совершенно иным образом построенного жизненного уклада он
не умеет работать с документами и источниками. Мне обидно за столь
значительного человека, что он изливается по поводу вещей, в которых
ничегошеньки не смыслит, и мне еще более обидно за Вас, что в этой борьбе
против вредного памфлета Виламовица он, дерзнув писать о вещах совершенно ему
чуждых, принес Вам, вероятно, больше вреда, чем пользы.
Безусловно, я полагаю, что
памфлет Виламовица заслуживает строго научного выговора, однако обращением к
Рихарду Вагнеру не следует придавать этому выговору характера враждебности к
филологии[67]. (…) я никогда не
соглашусь с Вами в том, что лишь искусство и философия служат учителями
человечества; к числу этих учителей для меня принадлежит и история, особенно ее
филологическая ветвь».
56 Эрвину
Роде в Киль — Базель, 25 октября 1872
(…) В Лейпциге по поводу моего произведения было высказано только одно мнение. О том, как оно звучит, поведал в Бонне своим студентам, которые его об этом спросили, славный и весьма уважаемый мной Узенер: «Это полная чепуха, от которой нет никакого проку; тот, кто написал подобное, умер для науки». Можно подумать, что я совершил какое-то преступление; уже 10 месяцев царит полное молчание — всем кажется, что моя книга настолько пройденный этап, что нет даже смысла тратить на нее какие-то слова. (…)
И вот теперь твое произведение как великодушный знак боевой солидарности попадает в самую гущу этой квохчущей толпы — какое зрелище! Ромундт и Овербек — единственные, кому я до сих пор имел возможность прочесть его, вне себя от радости за то, как оно замечательно тебе удалось. Они без устали нахваливают все в целом и в частностях, называя эту полемику «лессинговское», а ты знаешь, что значит для славных немцев такая характеристика. Мне же особенно нравится слышащийся здесь глубоки раскатистый тон, как возле большого водопада — тон, который единственно способен освятить любую поле-
92
мику и придать ей масштабность, тон, в котором вместе звучат любовь, доверие, мужество, сила, боль, победа и надежда. (…)
57 Гансу
фон Бюлову в Мюнхен (черновик)* Базель, около 29 октября
1872)
Слава Боге, что мне пришлось выслушать от Вас это и именно это. Я понимаю, какие неприятные минуты доставил Вам, и могу лишь сказать, что взамен Вы мне очень помогли[68]. Вообразите себе, что в своем музыкальном самовоспитании я постепенно лишился всякого надзора и мне никогда не приводилось слышать от настоящего музыканта суждения о моей музыке. Так что я по-настоящему счастлив, что меня таким вот простым манером просветили относительно сути моего последнего композиторского периода. Ибо, к сожалению, я должен признаться, что изготовляю музыку собственного сочинения с самого детства, владею теорией благодаря изучению Альбрехтсбергера, написал множество фуг и способен до определенной степени придерживаться чистоты стиля. Но временами на меня нападает такая охота к варварским эксцессам, смесь упрямства и иронии, что я уже не лучше Вашего могу различать, что в этой последней музыке было всерьез, а что — насмешкой, карикатурой. Моим товарищам, с которыми я делю кров, я преподнес это подвидом пародии на программную музыку. А настроение этого фрагмента поначалу значилось как cannibalido. При этом мне, к сожалению, очевидно, что все это, включая эту смесь пафоса и злобы, полностью соответствовало своему настрою и что, записывая эти ноты, я испытывал такое удовольствие, какого прежде, сочиняя музыку, не знавал. Судя по чему с моей музыкой, как и с моими настроениями, обстоит весьма прискорбно. Как охарактеризовать состояние, когда желание, презрение, задор, возвышенное чувство перетекают одно в другое? То и дело ступаю я на эту опасную тропу сомнамбулы. При этом, можете мне поверить, я бесконечно далек от того, чтобы судить о музыке Вагнера и восхищаться ею в свете такого вот полупсихиатрического музыкального возбуждения. О своей музыке я знаю только то, что благодаря ей становлюсь властен над своим настроением, которое, не находя себе выхода, приносило бы, возможно, больший вред. В ней я чту именно эту высшую необходимость и даже там, где я ее в силу своего композиторского несовершенства не осознаю, я все равно исхожу из веры в эту необходимость. Что мне, однако, доставило в моей последней композиции особое удовольствие, так это некая безумно преувеличенная
93
карикатура на эту необходимость. И, должно быть, как раз этот отчаянный контрапункт спутал все мои чувства до такой степени, что я оказался абсолютно неспособен к здравой оценке. Из-за этого временами эта музыка казалась мне самому лучше, чем она есть, — жалкая иллюзия, от которой Вы меня теперь освободили. Благодарствуйте! Итак, это вообще не музыка? Тогда я искренне рад, что мне не нужно больше предаваться этому otium cum odio1, этому одиозному времяпрепровождению. Для меня важна правда, а ее приятней слышать, чем высказывать. Так что я кругом у Вас в долгу.
Прошу Вас только об одном: не возлагайте ответственность за этот мой грех на «Тристана». Побывав на исполнении «Тристана», я бы наверняка не сочинял больше такой музыки — от моей музыки «Тристан» исцеляет меня надолго. (…)
*В 1872 г.
Н. присутствовал в Мюнхене на исполнении вагнеровской музыкальной драмы «Тристан
и Изольда», которой дирижировал фон Бюлов. 20 июня Н. отправил дирижеру в знак
благодарности свою музыкальную композицию, подчеркнув, правда, что в
музыкальном отношении может быть скорее «пациентом», чем коллегой фон Бюлова:
«Если Вы сочтете, что Ваш пациент пишет отвратительную музыку, то все-таки Вы
ведь владеете пифагорейским искусством лечить его «хорошей» музыкой. И этим Вы
спасете его для филологии, меж тем как без хорошей музыки, предоставленный самому
себе, он то и дело будет издавать музыкальные стенания, как кот на крыше». В
ответном письме 24 июля фон Бюлов выразился по поводу этих «музыкальных
стенаний» с еще большей прямотой, более того, как он сам здесь признается, «за
гранью приличия»: «Ничего более безотрадного и антимузыкального, чем Ваш
«Манфред», мне давно уже не доводилось видеть на нотной бумаге. Несколько раз я
спрашивал себя: не шутка ли все это, может быть, Вы намеревались сочинить
пародию на так называемую музыку будущего? Сознаете ли Вы сами, что
противоречите всем правилам композиции?.. Помимо психологического интереса —
ибо в этом продукте музыкальной лихорадки можно почувствовать необычайный,
несмотря на все промахи, выдающийся дух, с музыкальной точки зрения Ваша
композиция обладает лишь той ценностью, какую в мире морали имеет преступление.
Я не могу найти тут и следа аполлинического элемента,
касаясь же дионисийского[69],
мне, признаться, скорее приходится думать о lendemain2
94
вакханалии,
чем о ней самой. Если у Вас в самом деле есть страстная потребность выразить
себя на языке звуков, то необходимо усвоить важнейшие элементы этого языка.
Некая фантазия, пошатывающаяся в угаре воспоминаний о вагнеровских звуках, не
может служить фундаментом для музыкальной продукции. (…) Если Вы, глубокоуважаемый
господин профессор, действительно всерьез относитесь к этому Вашему
музыкальному уклону, в чем я все же позволю себе усомниться, то сочиняйте по
крайней мере лишь вокальную музыку и позвольте слову стоять за рулем лодки, на
которой Вы пускаетесь в дикую стихию звука.
Еще
раз — не в обиду будет сказано — вы, кстати, сами назвали свою музыку
«ужасной»; она и в самом деле такова и ужасней, чем вы полагаете. Она пагубна
не для окружающих, но, что хуже того, для Вас самих, коль скоро Вы не смогли
убить излишки Вашего досуга иначе, чем подобным вот образом насилуя Эвтерпу»[70].
58 Мальвиде
фон Мейзенбуг во Флоренцию — Базель 7 ноября 1872
(…) Своим «Рождением трагедии» я добился того, что стал на
сегодня самым одиозным филологом (…) Но в сущности это заблуждение — ведь я
писал не для филологов, хотя они, если бы только умели, могли бы
поучиться в моей работе даже кое-чему чисто филологическому. Теперь они
обращаются ко мне с упреками и, похоже, считают, что я совершил преступление,
не подумав в первую очередь о них и о том, поймут ли они в этом хоть
что-нибудь. Поступок Роде1[71]
тоже не даст никакого результата; поскольку пропасть такова, что никакого
мостика через нее уже не перекинешь. (…)
59 Рихарду Вагнеру в Байройт [Базель, середина ноября 1872]
Любимый мастер,
после всего, что мне выпало за последнее время, я менее чем кто-либо вправе унывать, ведь я в самом деле живу в центре целой вселен-
95
ной дружеской любви,
участия и радужных надежд. И все же есть один момент, вызывающий у меня сейчас
сильнейшее беспокойство: начался зимний семестр, а у меня вообще нет студентов!* Наши филологи не явились на занятия! На самом деле это pudendum1, который надо стыдливо скрывать ото всех
на свете[72].
Вам, любимый мастер, я рассказываю об этом потому, что Вам следует знать все.
Сам факт при этом объясняется просто: моя репутация среди коллег вдруг
настолько испортилась, что в результате несет урон наш маленький университет. Это
меня ужасно мучит, ведь я действительно очень предан и благодарен ему и меньше
всего на свете хотел бы принести ему вред. Однако сейчас мои университетские коллеги-филологи
и даже старый Фишер имеют дело с тем, с чем они еще не сталкивались за всю свою
академическую карьеру. До последнего семестра число филологов постоянно росло,
теперь же их вдруг как ветром сдуло! (…) Мне даже рассказывали об одном
студенте, который поначалу хотел перебраться в Безель,
но потом[73]
остался в Бонне и теперь пишет своим базельским родственникам, что благодарит
Бога за то, что не поехал в университет, где преподаю я[74].
Неужели после этого Вы думаете, что благородный поступок Роде может привести к
каким-то другим последствиям кроме удвоения всеобщей ненависти и зависти,
которые теперь обратятся против нас двоих? Именно этого мы с Роде теперь и
ожидаем, не питая на этот счет ни малейших иллюзий. Все это, однако, можно было
бы еще перенести, в тот только ущерб, нанесенный маленькому университету —
университету, который оказал мне столько доверия, очень меня печалит, и в
дальнейшем это может сподвигнуть меня на шаги, о которых я так уже, в силу
других причин, время от времени подумываю. (…)
*Лекции Н. в
этом семестре два студента все же слушали; о них Н. пишет 22 марта 1873 года Роде:
«Один был германист, другой юрист, обоим я преподавал риторику! Мне все это
кажется ужасно выморочным, особенно как я подумаю, что один из них — просто мой
личный поклонник, которому по сути наверное было все равно, что чистить мне
сапоги, что учиться у меня риторике».
96
60 Мальвиде фон Мейзенбуг во Флоренцию
[Базель, конец февраля 1873]
(…) Меня удивило и обрадовало, глубокоуважаемая фройляйн, что мои лекции1 нашли в Вас столь горячее участие и даже одобрение; однако Вы должны поверить, что я совершенно не рисуюсь, говоря, что смогу и хочу сделать все это через пару лет заново и гораздо лучше. Пока что эти лекции имеют для меня самого экзортативное2 значение: они призывают меня к долгу или к задаче, которая выпала именно мне — в особенности после того как сам мастер3 публично и торжественно возложил ее на мои плечи. Однако это задача не для таких молодых людей, как я, и мне должны позволить если не вырасти, то уж во всяком случае стать старше или состариться. Те лекции, поверьте мне, были едва ли не импровизацией, вдобавок примитивной… Фрицш был готов их печатать, но я поклялся не публиковать ни одной книги, по поводу которой совесть моя не была бы чиста, как у серафима. Об этих лекциях же я такого сказать не могу; они должны и могут быть лучше, с ними обстоит иначе, чем с моей музыкой, которая именно такова, какой она может быть, что в данном случае, к сожалению, означает «достаточно заурядна». (…)
61 Карлу
фон Герсдорфу в Рим [Герсау, 2 марта 1873]
Мой дорогой друг, в Базеле все три масленичных дня стоит такой чудовищный барабанный бой, что я на это время сбежал сюда — в Герсау, на Фирвальдштеттское озеро, где я сижу среди дождей и туманов, не имея возможности гулять, без всякого удовольствия, но по крайней мере в покое. (…)
От мастера и госпожи Вагнер я получил чудесные письма, но выяснилось, что Вагнер был очень обижен моим отсутствием на Новый год, о чем я был в полном неведении. Ты же, мой дорогой друг, знал об этом, но промолчал. Однако все тучи уже рассеялись, и это как раз очень хорошо, что я ничего не знал, поскольку есть вещи, в которых ничего нельзя поправить, зато можно сделать так, чтобы стало еще хуже. Кстати, один Бог знает, сколь часто я даю нашему мастеру поводы
97
для обид; я каждый раз заново этому дивлюсь и совершенно не могу понять, в чем тут собственно дело. Так что я тем более счастлив, что теперь снова заключен мир. Тебе знакома восхитительная работа Вагнера, которая как раз сейчас впервые опубликована, — «О государстве и религии» написана в 1864 году, изначально как приватная Mémoiré для короля Баварии?[75] Эта ведь — одна из самых глубоких во всей его литературной продукции и притом весьма «поучительна» в самом благородном смысле этого слова.
Дай мне знать твое мнение об этих регулярных претензиях <Вагнера ко мне>. Я не могу даже представить себе, как вообще возможно во всех самых важных вещах быть по отношению к Вагнеру более верным и преданным, чем я; а если б я смог себе эту еще бо́льшую преданность представить, я бы ее немедленно и проявил. Однако в маленьких, малозначащих, побочных вопросах и в определенном, необходимом для меня и носящем почти что гигиенически-«карантинный» характер воздержании от более частых визитов я должен оставаться свободен — и в самом деле именно для того, чтобы сохранить эту верность в высшем смысле. Это разумеется, никоим образом не может быть между ним и мною высказано, но это ведь чувствуется и способно просто повергнуть в отчаяние, если тянет за собой еще и досаду, недоверие и молчание. В этот раз у меня не было даже и тени опасения, что я получу такой резкий выговор, и я опасаюсь, что из-за таких вот случаев стану робеть еще больше, чем до сих пор. Пожалуйста, мой дорогой друг, выскажи свое мнение!1
Моя работа продвигается и обретает очертания некоего дополнения к «Рождению трагедии». Название будет, вероятно, звучать: «Философ как врач культуры». На самом деле мне хочется удивить этой работой Вагнера на его день рождения. (…)
62 Карлу
фон Герсдорфу в Рим [Базель, 5 апреля 1873]
(…) Очень трогательна твоя встреча с Виламовицем и твое спасение*, за которое следовало бы выпить. Знаешь ли ты, что этот остряк на-
98
печатал второй выпуск с тем же названием, набитый бранью и софизмами и не заслуживающий даже опровержения. Направленный в особенности против Роде, к концу памфлет переходит на общие темы, прочь от двух «прогнивших умов»1; слова Давида Штрауса, направленные против Шопенгауэра, переадресовываются мне, и образ мой выходит таким, будто я Герострат, осквернитель храма и т. д. Текст будто бы сочинен в Риме. Недавно в одной газете про меня написали, будто это «дарвинизм и материализм, переведенный в музыкальную плоскость», праединое сравнивалось с «дарвиновской праклеткой», а я, дескать, учу об «эволюционизме протоплазмы»! Сдается, что многомудрые противники начинают сходить с ума. (…)
*Как пишет
Н. в письме к матери и сестре 9 марта: «В Риме Герсдорф видел Виламовица, но
спрятался от него за широкой спиной античного Геркулеса».
63 Мальвиде фон Мейзенбуг во Флоренцию [Базель, 5 апреля 1873]
(…) Нынче вечером я уезжаю, угадайте — куда2. Вы уже угадали. И притом, для полноты счастья, я встречаюсь там с лучшим из друзей — с Роде. Завтра днем в половине четвертого я буду сидеть в доме на Даммаллее — абсолютно счастливый. Мы много будем говорить о Вас. А еще — о Герсдорфе, «пошатывающемся кавалере», как его прозвал В<агнер>. Вы говорите, что Герсдорф переписал мои лекции? Как это трогательно! Я этого никогда не забуду. Мне даже немного совестно, что у меня такие добрые друзья. В Байройте я надеюсь снова набраться мужества и бодрости, и утвердиться в верных решениях. Этой ночью мне снилось, что мне заново и очень красиво переплели Gradus ad Parnassum3.
99
Эта переплетенная символика совершенно прозрачна, хотя и достаточно безвкусна. Но ведь это правда! Время от времени общением с хорошими и более сильными натурами нужно как бы переплетать себя заново, иначе теряешь целые страницы и в конце концов безвольно распадаешься на части. Ну а то, что наша жизнь должна быть неким gradus ad Parnassum — это тоже правда, которую нужно временами повторять себе. Мой парнас будущего, если я напрягу все свои силы, а судьба пошлет мне немного счастья и много свободного времени, возможно, в том, чтобы стать в меру сил писателем, но прежде всего — быть «умеренным в писании». Время от времени меня охватывает какое-то детское отвращение к бумаге, на которой что-то напечатано, — она мне тогда кажется просто грязной бумагой. И я могу даже представить себе, что наступит такое время, когда люди предпочтут мало читать, еще меньше писать, но много думать и еще больше делать. Ведь все сейчас находится в ожидании человека действия, который сбросит с себя и других тысячелетние привычки и даст нам новый,лучший пример для подражания.
В моем доме как раз сейчас рождается нечто такое, чему наверняка предстоит прославиться — характеристика нашей современной теологии с точки зрения ее «христианскости»; мой друг и духовный собрат профессор Овербек, самый свободомыслящий, насколько я могу судить, теолог из всех ныне живущих и безусловно один из лучших знатоков истории церкви, трудится сейчас над этой характеристикой и, судя по всему, что я знаю и в чем мы единодушны, откроет в ней некоторые пугающие истины. Так Базель потихоньку станет местом, которого побаиваются.
Меж тем уже темнеет, я должен подумать об отъезде и собрать еще багаж. Засим оставляю Вас, моя высокочтимая подруга!..
Преданный Вам
Фридрих Ницше
64 Рихарду Вагнеру в Байройт — Базель, 18 апреля 1873
Глубокоуважаемый мастер,
я живу постоянным воспоминанием о днях, проведенных в Байройте… Причины того, что Вы оказались недовольны мною в моем присутствии, я слишком хорошо понимаю, не будучи в силах тут ничего изменить; дело в том, что я учусь и воспринимаю крайне медленно, рядом с Вам же я каждое мгновение переживаю нечто такое, о чем никог-
100
да прежде не думал и что я хотел бы глубоко запечатлеть в себе. Я очень хорошо знаю, мой драгоценный мастер, что подобные визиты для Вас в тягость, а временами и вовсе невыносимы. Мне так часто хотелось напустить на себя хотя бы видимость большей свободы и самостоятельности, но тщетно. Словом, я прошу вас[76], воспринимайте меня лишь как ученика с пером в руке, держащего перед собой тетрадку, к тому же ученика с очень медлительным и совсем не гибким умом. Это правда, я с каждым днем ощущаю все большую меланхолию, чувствуя, как бы хотелось чем-то Вам помочь, быть полезным и насколько я к этому не способен — так что даже не могу ничем развлечь и развеселить Вас.
Хотя, возможно, это у меня все-таки получится — когда я доведу до конца то, чем сейчас занят, а именно — полемический труд, направленный против прославленного писателя Давида Штрауса. Я тут просмотрел его «Старую и новую веру» и изумился тупости и заурядности этого мыслителя. Чудесная коллекция образцов самого чудовищного стиля должна наконец всем продемонстрировать, как на самом деле обстоит с этим так называемым классиком. (…)
65 Эрвину
Роде в Киль — Базель, 5 мая 1873
(…) Знаешь ли ты, что от нашего столь праздничного прощального возлияния в Лихтенфельсе я опьянел? При этом имел место следующий феномен: мне чудилось, будто я качусь в огромном колесе, голова у меня кружилась. Я уснул, проснулся в Бамберге, выпил кофе и снова почувствовал себя человеком. К вечеру, на второй день Пасхи я был в Нюрнберге и чувствовал себя превосходно, но очень и очень тоскливо. А в это время народ в праздничных нарядах разгуливал по улицам, а солнце грело по-осеннему мягко. Ночью поезд умчал меня в Линдау, в 5 утра над Боденским озером я наблюдал борьбу ночного и дневного светил, без задержек доехал до рейнского водопада под Шаффхаузеном и провел там полдня. Новый приступ меланхолии и возвращение домой; проезжая мимо Лауфенбурга, я увидел, что в городе бушует пожар.
Сюда на все лето приехал друг Ромундта, очень вдумчивый и одаренный человек, шопенгауэрианец, по фамилии Рэ. (…)
Я думал, что пока пишу письмо, придут какие-нибудь студенты, чтобы записаться на мой семинар. Поскольку был как раз мой час. Но никто не пришел. Просто беда!
Адье, мой дорогой друг! Думай обо мне с дружеским чувством.
Твой Фр. Н.
101
66 Карлу
фон Герсдорфу у Венецию — Базель, [27 октября 1873]
(…) В зеленых тетрадях «Пограничного курьера» появилось недавно non plus ultra под заголовком «Господин Фридрих Ницше и немецкая культура». Все силы призываются для борьбы со мной: полиция, власти, коллеги. Выражается убежденное суждение[77], что в любом немецком университете меня бы просто бойкотировали, надежда, что и в Базеле поступят подобным образом. Пишут, что исключительно благодаря фокусу Ричля и глупости базельцев я из студиозуса превратился

в ординарного профессора, базельский университет обзывают «захолустным»*, а меня самого называют врагом германского рейха, лакеем кос-
102
мополитов и т. д. Словом такой вот развеселый документик. Жаль, что я не смогу прислать его тебе. Досталось даже Фрицшу: в журнале сочли постыдным, что немецкий издатель взялся меня печатать. Так что, мой дорогой друг, наш № 11, выражаясь по-фрицшевски, «встретил прием у публики». (…)
*Следует
отметить, что у коллег Н. по университету эта статья вызвала возмущение и
иронию. Как пишет Н. 21 ноября в письме Роде: «“захолустный” университет
стало в Базеле крылатой фразой и шутливым лейтмотивом застольных тостов на
праздновании в ректорате».
67 Эрвину
Роде в Гамбург — Наумбург, новогодние дни 1873—1874
Мой дорогой славный друг, как же ты ободрил меня своим письмом!.. В самом деле, как знать, не будь у меня моих друзей, не показался ли бы я сам себе каким-то пугалом и отщепенцем[78]. Но благодаря вам я себя таковым <не> считаю, и если мы сможем поручиться друг за друга, то в конце концов наш способ мышления должен дать какие-то плоды, в чем до сих пор сомневается весь мир. В том числе и Ричли, которым я нанес краткий визит и которые в течение получаса вели по мне ураганную словесную пальбу, не нанеся мне, впрочем, ни единого ранения; в конце концов они сошлись на том, что я высокомерен и презираю их. общее впечатление было безнадежным: старик Ричль начал было страшно поносить вагнеровскую поэзию, потом снова принялся за французов (я слыву почитателем французов), а затем обругал — понаслышке, но самым жестоким образом — еще и книгу Овербека. Я узнал, что в Германии настали «хамские времена, из-за чего я, дескать, и решил дать себе право тоже быть слегка хамоватым (порицанию, понятно, подверглась моя грубость и несдержанность в отношении Штрауса). При этом в качестве классического прозаика Штраус полностью изничтожен: это папаша и мамаша Ричли признали (…)
Бурную радость вызвали у меня анонимно изданные «Двенадцать писем эстетического еретика» Карла Хиллебранда. Какая отрада! Прочти и восхитись, это один из наших, из «общины надеющихся».
103
Пусть эта община расцветет в грядущие годы и пусть мы все останемся добрыми товарищами. Ах, мой верный друг, выбор у нас невелик: приходится быть или надеющимся или отчаявшимся. Я раз и навсегда выбрал надежду. (…)
68 Матильде
Майер в Майнц — Базель, 11 марта 1874
Уважаемая фройляйн!
Вы вновь позволили мне убедиться в Вашем личном участии во мне, которое я столь высоко ценю. Именно поэтому мне особенно жаль отвечать отказом на Вашу столь почетную просьбу. Увы, этого я не смогу! Держать слово от имени женщин мне не дано, что я косвенным образом мог бы Вам даже продемонстрировать[79]. Прочтите прилагающийся к этому письму «Призыв к немецкой нации», который я написал прошедшей осенью. Вот таким и никаким иным образом я ощущаю этот вопрос, именно с такой энергичностью я говорю о нем, коли мне приходится говорить, то есть слишком сильно даже для мужчин, как меня научил тот опыт. Представители вагнеровского общества, собравшиеся в Байройте, не отважились поставить свои имена под этим призывом. Придерживаться в этом вопросе более умеренного мнения я с тех пор не научился и к прекрасной женской мягкости, присущей Вашему полу даже в самых суровых и отчаянных обстоятельствах, я и этой ситуации не способен.
Так что простите, если я просто отвечаю, что не смогу. (…)
Моим глазам лучше, чем прошлым летом, но все же не настолько, как того хотелось бы пожелать.
До сих пор, высокочтимая фройляйн, я диктовал. Не сердитесь на мой отказ. Кстати, Вы настолько верите в так называемую германскую женщину, что готовы обратиться к ней за поддержкой наших волшебных байройтских упований? Вы в нее верите? Я верю только в отдельных личностей, но, грешным делом, сомневаюсь во всем, что в газетах и журнальных романах прославляется под видом «немецкой женщины».
Я делюсь с Вами этим потому, что очень уважаю Вас.
Преданный Вам
Доктор Фридрих Ницше.
104
69 Эмме Гверрьери-Гонзага во Флоренцию —
Базель, 10 мая 1874
Подчас я даже не знаю, имею ли право говорить о всевозможных страданиях наших современников, ибо страдальцев, за исключением самого себя, я не вижу и тщетно озираюсь по сторонам. В особенности если живешь среди ученых, запросто может сложиться впечатление, будто кругом люди, которые к страданию просто неспособны, — вот только счастливыми они себя сделать тоже не могут! Зато таковыми друг друга можем сделать мы, сочинители писем, — страдая вместе, мы знаем и то, как осчастливить друг друга, и именно это Вы сделали для меня своими строчками. Ибо я не знаю большей радости, чем вновь услышать о человеке, который томится и надеется. Ах, временами, чтобы сохранять какую-то надежду, мне бывает так нужна эта радость!
По Вашему письму я чувствую, что между нами гораздо больше совпадений, чем можно было бы найти на четырех страницах. Мне кажется, что глубокое изменение системы воспитания нации Вы считаете важнейшим на свете делом, и в этом Вы сможете встретить во мне самый горячий отклик! Для себя самого я тоже не знаю более высокой цели, чем стать однажды «воспитателем» в подлинном смысле этого слова; беда только в том, что я от этой цели пока очень далек. Для начала я должен выудить из себя все полемическое, отрицающее, негативное, мучительное, и я думаю даже, что мы все должны это сделать для того, чтобы стать свободными; сперва нужно свести воедино чудовищную сумму всего того, что мы ненавидим, чего боимся и избегаем, но уж после этого — ни взгляда назад, в негативное и непродуктивное! Только взращивать, строить и творить!
Не правда ли, это можно было бы назвать «воспитанием самого себя. Только кому же оно удается надолго и по-настоящему? И все же это необходимо и никакой помощи со стороны тут ждать не приходится. Пусть каждый утешает себя тем, чем он умеет: природой, божественной гетевской природой, которая сама есть Бог, искусством и религией (бывшей или грядущей). Все, что укрепляет и учит переносить губительное, но неизбежное для нас одиночество, и прежде всего слова участия тех, кто страдает, любит и надеется[80] вместе с нами, — да будет все это чтимо и благословенно, лишь бы только тот, кто полон этого стремления, не ослабел и не стал просто личностью, лишь бы он оставался свободен от всяких разочарований, досад и неудовлетворенностей, которые навязывает ему его «я», лишь бы он мог нести на своей спине одну только великую всеобщую заботу! Но требуется еще больше: нужно иметь мужество, неся эту заботу, быть еще и счастливым… А все «ахи и вздохи» нужно по-гетевски отставить в сторону.
105
Вы видите, я обращаюсь к самому себе, притом, что мне следовало бы обращаться к Вам. И все же, разве удалось бы мне что-нибудь вообще сказать, если бы я не мог говорить с Вами и с каждым, как с самим собой? Как человек с человеком, как и Вам того хотелось.
Желаю Вам всего самого лучшего!
Ваш
Фридрих Ницше
70 Карлу
фон Герсдорфу в Гнаденберг [Бергюн, 26 июля 1874]
Мой дорогой друг, я всем сердцем порадовался твоему благодушному и доверительному письму, и могу теперь в том же духе тебе ответствовать. Прежде всего сообщаю, что я все же проведу в Байройте часть своих каникул — с того самого дня, когда будет готов мой № 3 <«Несвоевременных размышлений»>: над ним сейчас здесь, на высоте, вовсю кипит работа. В долине я не мог больше написать ни строчки и счел было даже всю эту тему слишком трудной для меня, в горах же мои силы и вера в себя вновь возросли, хотя и сейчас я по-прежнему боюсь взяться за одну из глав[81]. Тем временем произошли кое-какие события: так, к сожалению, славный Фрицш больше не сможет быть издателем для меня и Овербека, поскольку он вынужден приостановить свою издательскую деятельность. Правда, № 3 он еще принял, но состроив самую кислую и досадующую физиономию, так что мой цикл «Несвоевременны» мне уже виделся прерванным и загубленным. И тут-то случилось нечто неожиданное: пришло письмо от молодого издателя и, похоже, моего почитателя — Э. Шмайцнера из Шлоссхемница в Саксонии. Теперь все уже снова в порядке: для всех «Несвоевременных к моим услугам, по-видимому, весьма предприимчивый издатель. Так что я могу продолжить свой тяжкий насущный труд — судьба подала мне поистине благоприятный знак!
Через неделю я встречаюсь с маркизой Гверрьери в Штахельберге, куда она попросила меня приехать. Это, должна быть[82], замечательная женщина, судя по ее собственным письмам и по словам госпожи фон Мейзенбуг.
Здесь (в Бергюне: vide Бедеккер1) мы живем вместе с Ромундтом в совершенно восхитительной местности, будучи единственными по-
106
стояльцами отеля, мимо которого ежедневно проезжают сотни путешественников по дороге в Санкт-Мориц и обратно. Правда, такого озера, как во Флимсе, у нас тут нет; недавно после трехчасовых поисков мы нашли одно на высоте 6000 футов, искупавшись в нем, практически обледенели и, красные, как раки, вернулись восвояси. Сегодня мы наведались к серному источнику, которым еще пока не пользуются; на обратном пути коза на моих глазах родила детеныша[83]: первое живое существо, при родах которого я присутствовал. Козленок был гораздо бойчей, чем новорожденные детки, да и выглядел лучше[84]; мамаша облизала его и вела себя вообще, как мне показалось, весьма разумно, в то время как мы с Ромундтом стояли при этом глупые, как истуканы[85].
Сегодня вечером мы будем есть ризотто[86], о чем мне сказал вышеупомянутый Ромундт, более того, он его уже заказал.
Недавно, по прибытии в Кур, мы нежданно оказались посреди флимсской компании — Траверсов, Роров, Хиндерманнов; фройляйн Берта опять так великолепно выглядела, что я был почти зол на необходимость уезжать в Бергюн. Что-то будет осенью, когда вся компания вновь соберется вместе? Надеюсь, что мой № 3 будет до тех пор напечатан и попадет как своего рода праздничный дар в ваши руки.
Будь здоров, верный и дорогой друг, и прими наши с Ромундтом сердечные приветы.
Ф. Н.
71 Мальвиде
фон Мейзенбуг в Рим Базель, 25 октября
1874
Наконец-то, высокочтимая фройляйн, я могу снова что-то рассказать Вам о себе, причем на сей раз — с помощью моего нового произведения, которое Вам пересылаю. Его содержание сможет поведать Вам достаточно о том внутреннем опыте, который я приобрел за это время. (…) Уже сейчас я ощущаю с теплой благодарностью, что духовным взором (к сожалению, не физическим!) учусь видеть все ярче и острей и что могу все определенней и ясней высказываться. Если по ходу своей жизни я не обезумею окончательно или не изнемогу, то что-то из всего этого должно получиться. Представьте себе только если я вынесу на свет из своего внутреннего опыта серию из 50 таких произведений, как мои 4 предыдущих, это должно будет уже оказать определенное воздействие, поскольку люди будут об этом говорить, и речь зайдет о многом таком, что не смогут снова так быстро забыть и что
107
именно сейчас кажется позабытым и будто бы даже вовсе не существующим. И может ли что-либо помешать мне в моих планах? Даже противодействие врагов идет мне теперь на пользу и во благо, поскольку зачастую просвещает меня скорей, чем содействие друзей, я же не желаю ничего другого, как уяснить себе всю эту разветвленную систему антагонизмов, из которых состоит «современный мир». К счастью, у меня совершенно нет ни политических, ни социальных амбиций, так что с этой стороны мне опасаться нечего; ничто меня не сдерживает, ничто не принуждает осторожничать и идти на сделки. Словом, я вправе высказывать то, что думаю, и хочу наконец проверить, какую степень свободы мышления способны вынести наши столь гордые свободой своих мыслей ближние. Я требую от жизни не слишком многого и ничего чрезмерного; в награду <за эту скупость в желаниях> нам всем выпадет пережить в ближайшие годы нечто такое, в чем нам вправе будут завидовать и потомки, и предшественники. Вдобавок судьба совершенно незаслуженно одарила меня замечательными друзьями и теперь мне, откровенно говоря, хотелось бы еще как можно скорей найти себе хорошую жену; тогда, думаю, мои желания в жизни можно было бы считать исполненными. Все остальное зависит уже от меня. (…)
72 Эрвину Роде в Киль [Базель, 28 февраля 1875]
(…) Теперь о том, чего ты еще не знаешь и о чем как ближайший и сочувствующий друг ты вправе знать. У нас с Овербеком дома тоже завелось свое «привидение». Только не падай со стула: Ромундт собирается перейти в католичество и хочет стать католическим священником в Германии. Это выяснилось совсем недавно, однако эта идея, как мы потом к своему ужасу услышали, зрела уже несколько лет и теперь как никогда близка к своему осуществлению. В душе я этим по-настоящему задет, и временами ощущаю это как самую страшную обиду, которую мне могли нанести. Разумеется, Ромундт делает это не со зла; до сих пор он ни единого мгновения не думал ни о чем ином, кроме как о себе. Проклятый акцент на том, кому именно даруется «спасение души», сделал его совершенно нечувствительным ко всему окружающему, включая дружбу. Для нас с Овербеком мало-помалу стало загадкой, почему Р. по сути перестал иметь с нами что-либо общее, скучает или сердится на все, что нас вдохновляет и захватывает. Еще у него появилась манера помалкивать с ханжеской брезгливостью, которая
108
давно уже заставляла нас заподозрить неладное. В конце концов дошло до признаний, и теперь чуть ли не через каждые два дня на третий мы имеет дело с поповско-проповедническими выходками. Бедняга оказался в отчаянном положении и до него уже не достучишься…
Наш славный чистый протестантский воздух! Я никогда еще не ощущал с большей силой, чем сейчас, мою глубочайшую зависимость от лютеранского духа, и вот к этим-то освобождающим гениям хочет этот несчастный повернуться спиной? Я спрашиваю себя, в своем ли он уме и не надо ли отправить его по меньшей мере в водолечебницу — до такой степени кажется мне непостижимым, что это призрак мог вырасти прямо рядом со мной и завладеть человеком, который в течение 8 лет был мне близким товарищем. И заодно выходит, что клеймо этого перехода в инославие ложится и на меня. Видит Бог, я говорю это не из эгоистических соображений, но просто я ведь тоже верю, что служу чему-то священному, и мне было бы очень стыдно, если бы меня заподозрили в каких-либо сношениях с глубоко ненавистным мне католицизмом.
Подумай по-дружески над этой чудовищной историей, как бы ты сам к ней отнесся, и скажи мне пару слов утешения. Именно в своих дружеских чувствах я ощущаю себя уязвленным и сильнее, чем когда-либо, ненавижу неискренность и скрытность, прячущуюся под видом дружбы. Впредь я буду осмотрительней.
Что касается самого Р., то он без сомнения будет чувствовать себя в своей тарелке в рядах какого-нибудь тайного ордена, среди нас же, как мне теперь кажется, он все время страдает…
Твой опечаленный друг Фридрих Н., пишущий сейчас одновременно и от имени Овербека.
Сожги это письмо, если сочтешь нужным.
73 Карлу
фон Герсдорфу в Хоэнхайм — Базель. 17 апреля 1875
(…) Сердечное спасибо за твое письмо и посылку, но прежде всего за твой визит; эти недели были для меня как чудесный сон, а затем снова начались ромундтовские чудеса в решете; можно было потерять всякое терпение, вечера с бурными выяснениями, затягивавшимися до часу ночи, вошли в привычку… по части фантазии мне пришлось прямо-таки открыть для Ромундта кредит, поскольку из того, что ему предстоит и что его может ожидать, он не был способен вообразить себе ровным счетом ничего. О том, что ему понадобится, мы с Овербеком думали больше,
109
чем он сам, он постоянно впадал в апатию. Вся нерешительность его натуры дошла до почти комического предела в день отъезда, когда он всего за несколько часов до отправления не желал уезжать и не мог найти этому никаких объяснений. Было невыносимо тяжело, он знал и без конца повторял, что все лучшее в его жизни теперь закончилось; обливаясь слезами, он просил прощения и совершенно не мог справиться со своим горем. По-настоящему пугающей была финальная сцена; кондуктор уже запер вагон, и Ромундт, собираясь нам что-то рассказать, хотел опустить окно в своем купе, оно не открывалось, он бился изо всех сил, и пока он так безуспешно пытался с нами объясниться, поезд медленно тронулся… Ужасная символика всей этой сцены подействовала и на меня, и на Овербека (как он позже признался) очень тяжело, почти невыносимо. На следующий день я, кстати, слег в постель — тридцать часов подряд меня мучили головные боли и рвало желчью. (…)
74 Карлу
фон Герсдорфу в Хоэнхайм — Базель, 26 июня 1875
(…) У меня позади очень плохие времена и, возможно, что предстоят еще худшие.
Укрепить желудок было совершенно невозможно, даже придерживаясь отчаянно строгой диеты; по многу дней острейшая головная боль, которая через несколько суток возвращается сызнова; несколько часов кряду рвота, притом, что вообще ничего не ешь; короче говоря, казалось, что вся машина разваливается на части, и, не буду отрицать, мне даже хотелось, чтобы это произошло. Полное изнеможение, так что я с трудом ходил по улице, повышенная чувствительность к свету… Он <врач> хочет, чтобы на каникулы я не ездил в Байройт, я на это пока не отвечаю ничего, представь себе, каково мне думать об этом. Все же мне очень хотелось бы прожить еще следующий год, и потому в этом году я буду делать то, что приходится. (…)
75 Франциске
и Элизабет Ницше в Наумбург [Штайнабад, 17 июля 1875]
Дорогие мои мама и сестра, с двух часов вчерашнего дня я в Штайнабаде, и уже часом спустя познакомился с чрезвычайно достойным по-
110
жилым врачом, доктором Вилем. Сегодня утром я был у него в Бонндорфе на предмет более подробного обследования, и теперь болезнь, которой я страдаю, можно наконец назвать своим именем. Это — хронический катар желудка, при котором желудок значительно расширен. Теперь строптивца надо снова ввести в рамки, для чего мы тщательно очертили его прежние границы и надеемся, что через некоторое время увидим, как он возвращается в них.
Мое меню выглядит следующим образом. (…)1
В 7 часов утра — кофейная ложка карлсбадской минеральной соли.
8 утра — 80 граммов бифштекса, 2 сухаря.
12 часов — 80 граммов жаркого (и ничего больше!).
4 часа — 2 сырых яйца и чашечка кофе с молоком.
8 часов вечера — 80 граммов жаркого с желе. Днем и вечером после еды — стакан бордо. (…)
Добраться из Базеля до Штайнабада можно легко: из Базеля до Штюлингена поездом, а там почти сразу же пересадка в почтовый экипаж до Бонндорфа. Я эту пересадку, правда, пропустил — причем после того как уже взял билет, и мне пришлось проделать весь путь пешком (3 часа), но это мне даже доставило удовольствие (…)
76 Эрвину
Роде в Байройт — Штайнабад под Бонндорфом, 1 августа 1875
Сегодня, любимейший друг, как мне представляется, вы встретитесь в Байройте, и мне будет вас не хватать, и меня среди вас не будет! До сих пор я в глубине души все еще верил, что смогу внезапно появиться среди вас и наслаждаться обществом своих друзей. Но это невозможно; сейчас, посреди моего отпуска, я наконец вынужден сказать об этом со всей определенностью. Только что у меня был долгий разговор с доктором Вилем, а вчера я снова слег с острейшей головной болью и мучился вечером и ночью от приступов рвоты. Одну, легко опознанную хворь — расширение желудка — нам уже удалось за 2 недели благополучно побороть. Желудок «пришел в себя». Однако с нервным возбуждением этого же органа придется еще долго повозиться. В здешнем заведении это означает строго придерживаться назначенного лечения и запастись терпением. У меня было несколько хороших дней, стояла свежая прохладная погода, и я бродил по горам и лесам, все
111
время один, но не могу даже выразить, с каким удовольствием и радостным воодушевлением! Я даже не отваживаюсь высказать, что это за упования, возможности и планы, которые я подробно и с наслаждением перебираю в уме во время этих прогулок! Вдобавок почти каждый мой день здесь был отмечен тем, что приходили милые, сердечные послания; я все время с гордостью и умилением думаю о том, что у меня есть вы, мои дорогие друзья! Если б только можно было раздарить другим хоть немного счастья! Тревога и уныние мучат меня в основном тогда, когда я вижу, что ничего не поделаешь и приходится смиряться с тем, что вещи идут своим чередом, сколь бы немилосердны они ни были. И тогда мне кажется подчас, будто я сам какой-то счастливчик, которому до сих пор удавалось уберечься от самых жестоких пыток страдания. В особенности с тем, что зовется превратностями и насмешками судьбы, я еще совсем не имел дела, и потому совершенно не вправе затесываться в толпу истинно несчастных. Да, хотел я, стало быть, сказать, что мог бы раздарить другим немного счастья. Знать бы только как! (…)
Сегодня воскресенье, кругом меня в саду сидят бонндорфцы и пьют пиво, от лесов веет свежестью и время от времени доносится отвратительная духовная музыка, которая на удалении в два часовых перехода звучит еще сносно и чем-то немного напоминает звуки охотничьего рожка.
Здесь у меня никого нет, и я веду аристократически-независимую жизнь. Доктор Виль, чтобы немного развлечь и кое-чему научить меня, собирается завтра вместе со мной готовить — он прославленный и вдумчивый кулинар, автор очень востребованной и переведенной на все языки поваренной книги, посвященной диетическим кушаньям. Вчера он прочел мне целую лекцию об эмалированной металлической посуде и о новой мясорубке, так что я запасся новыми знаниями для своего будущего быта.
…Письмо Ромундта оставило у меня какой-то малоприятный настрой, да и продиктовано оно было явно ничуть не лучшим. (Теперь духовые затянули что-то умопомрачительное; откуда они только взяли такую плохую музыку?! Ничего подобного я в жизни не слыхивал — это не марш, не танец, а какой-то старомодный и притом подленький дудеж столетней давности).
Итак, Ромундт рассказывается о своей работе, «которая сводится к иллюстрированию шопенгауэровского “ничто” (только что музыка смокла и бонндорфцы аплодируют!) в конце “Мира как воли[87] и т. д. — самых смелых, трудных и истинных слов, которые, по моему мнению, сказаны нам Шопенгауэром». Подобные вещи раздражают меня больше все-
112
го, нет ничего глупей, чем повиснуть на хвосте у какой-нибудь философии и именно этот хвост и иллюстрировать! И какая дерзость требуется тому, кто готов иллюстрировать и видеть точней и ясней там, где Шопенгауэр видеть вообще перестает. (…)
Повсюду отчаяние! А у меня — нет! И при этом я не в Байройте! Может быть, ты понимаешь, как это сочетается одно с другим. Для меня это почти непостижимо. И все же больше, чем три четверти дня душою я нахожусь там и, как призрак, витаю по Байройту. Не бойся раздразнить мое воображение картинами вашей тамошней жизни, расскажи мне побольше, мой любимый друг; во время прогулок я часто дирижирую, гудя себе под нос, целыми фрагментами музыки, которую знаю наизусть передай самый сердечный привет Вагнерам! Адье, дорогие друзья, мое письмо то и дело становится открытым.
Любящий вас всем сердцем ваш
Ф. (…)
77 Карлу
Фуксу в Хиршберг [Штайнабад, 11 августа 1875]
(…) Дела были плохи, я всегда могу определить это по своему отношению к моим главным планам и к взаимосвязям моей жизни. на сей раз я был настолько подавлен, что практически безо всяких планов перебивался кое-как со дня на день. Здесь я снова научился отваге — крайне осторожное применительно к некоторым вещам существование может быть притом и самым отважным по отношению к главной задаче. Так я и живу теперь и так и буду жить — очень осмотрительно, но с безоглядной отвагой в главных вещах. И если что-то и может устрашить меня по-настоящему, так это — не смерть, а только лишь больная жизнь, когда теряешь causa vitæ1.
Здесь, во время прогулок по горам и лесам, я много думал о Вас, об удивительно непостижимой истории страданий Вашей жизни. Я спрашивал себя: отчего выходит так, что то, что Вы так замечательно и самоотверженно делаете и создаете, не находит в других благосклонности и радости (…) Я ломаю голову над тем, с чего бы такая диковинная неудачливость. Не сердитесь, если мне вспоминаются при этом слова Листа о «торопливых друзьях»; у меня сложилось впечатление, что некое пылкое нетерпение, нежелание ждать могло похитить у Вас некоторые
113
заслуженные успехи. Не надо показывать судьбе, чего ты хочешь, — не пройдет и пяти минут, как она сама будет рада предложить тебе это. «Готовность — все», как сказано, если не ошибаюсь, у Шекспира. Не исключаю, конечно, что сказанное мною здесь на стариковски-умудренный манер — всего лишь теория человека, которому достаточно часто везло. И все же можете мне поверить, что это целиком соответствует моим глубочайшим убеждениям — годами вынашивать* какой-нибудь замысел и даже виду не подавать, затем же, когда настает момент, решительно браться за него: ведь я был «готов». Во время этого «вынашивания» до настоящего желания еще не доходит — именно в этом мне недостает Вашего пыла. Поначалу это просто как идея, про которую ощущаешь, что «было бы настоящим счастьем, если бы…». Вы даже представить себе не можете, что за идеи этого рода, грандиозные и восхитительные, для которых я однажды внезапно обрету решимость, зарождаются во мне.
Теперь — одно соображение. Избавьте же наконец свои прелиминарии от их чахлого прозябания в издательстве Фрицша и сделайте из них что-нибудь новое. «Карл Фукс. Письма о музыке» — что-то подобное брезжит в моем воображении; ведь Вы один из немногих, кто способен оценить, насколько можно обращаться с эпистолярной формой как с подлинно художественной. (Аристотель слыл у древних классическим мастером прозы не из-за произведений, которые дошли до нас, а только лишь из-за своих диалогов и писем). Мы же, простые смертные, не имеем права публиковать свои письма, мы выступали бы в них жеманными глупцами, которые желают выставить это на всеобщее обозрение. (…)
Я далек от того, чтобы навязываться с советами, но просто временами случается высказать то, что у другого уже вертится на языке, — это всегда радует. (…)
Что Вы думаете о том, что почти все Ваши письма в Базель почта квалифицирует как «недостаточно франкированные»? Я сетую, собственно, на то, что маркам, которые Вы на них наклеиваете, никто не ведет счета. За последнее письмо, к примеру, с меня взыскали еще 2 франка. Вы ведь не сердитесь, правда же, что я об этом упоминаю? Господи, дай нам, главное, внутреннюю свободу, все остальное можешь оставить себе!
Преданный Вам, все еще ходящий в пациентах и нуждающийся в patientia1.
Ф. Ницше.
С завтрашнего дня я в Базеле у своей славной сестры.
114
*Эта часть письма — редкий случай, когда Н. подробно описывает процесс
зарождения своих произведений, саму свою творческую конституцию, поэтому тут
важно буквально каждое слово. Глагол hegen,
который я перевожу здесь как «вынашивать», имеет значение «лелеять»,
«пестовать», «питать (чувство)» либо «иметь (намерение, замысел)». Однако в
переводе мне пришлось свести всю эту вариативность к несколько физиологическому
«вынашиванию» — в первую очередь из-за того, что в следующем предложении Н.
субстантивирует тот же самый глагол, превращая его в существительное[88],
понятно, что ни «этого лелеяния», ни «этого намеревания»
русский язык не приветствует[89].
78 Карлу
фон Герсдорфу в Острихен — Базель, 26 сентября 1875
Мой драгоценный друг, вчера завершился семинар, по счету уже тринадцатый у меня, и начиная с сегодня у меня две недели каникул. Я бы охотно отправился в небольшой пеший поход, поскольку осенью меня всегда тянет еще разок взглянуть на Пилатус прежде, чем настанет зима, — чем дольше я живу в Швейцарии, тем милей и ближе становится мне эта гора. Но на дворе так ужасно сыро, так по-ранненоябрьски, мне придется ждать или отказаться от затеи, как это нередко бывает в жизни. Тут-то по-настоящему замечаешь, что тебе уже не двадцать с чем-то своего рода разочарование, однако такое, которое, как свежий осенний воздух, подстегивает к собственной деятельности, сопровождает меня теперь почти ежедневно.
Тем временем я с помощью сестры налаживал свой быт, и это вполне удалось. Так я наконец, впервые с тех пор как мне было тринадцать, снова оказался в уютном домашнем окружении, и чем сильней тянет сбежать из всего того, что радует других, тем важней, чтобы у тебя была своя крепость, из которой можно наблюдать и в которой не чувствуешь себя совсем уж потерянным для жизни. благодаря счастливой натуре моей сестры, которая наилучшим образом согласуется с моим темпераментом, мне это удается, наверное, легче, чем многим другим; наша счастливая ницшевская особенность, которую я с радостью узнаю во всех братьях и сестрах моего отца, заключается в том, что человеку хорошо наедине с собой, он умеет себя занять и скорей дает другим, нежели чего-то от них требует. При этом прекрасно получается быть мыслителем и педагогом, на что чувствуешь себя прямо-таки обреченным (…)
115
С Буркхардтом все благополучно. Я слышал вчера, что он весьма благожелательно отозвался обо мне в Леррехе одному близкому старому другу, мне даже не хотели говорить, настолько благожелательно. Я понял только, что он полагает, что у базельцев никогда больше не будет такого преподавателя, <как я>. (…)
Дорогой друг, литературой я не занимаюсь, мысль публиковать что-либо вызывает с каждым днем все большее отвращение. Но если ты приедешь, я почитаю тебе кое-что, способное тебя порадовать, — из непубликуемого «Размышления» № 4 под названием Рихард Вагнер в Байройте». Прошу держать это в строжайшем секрете. (…)
79 Паулю
Рэ в Париж — Базель, 22 октября 1875
Дорогой господин доктор, очень уж порадовали меня Ваши психологические наблюдения, чтобы я мог с полной серьезностью отнестись к Вашему «загробному» инкогнито («Из наследия»). Недавно, роясь в новых книгах, я обнаружил Вашу работу и немедленно опознал в некоторых высказанных в ней идеях Вашу собственность. Так же получилось и у Герсдорфа, который буквально на днях цитировал: «когда людям приятно друг с другом молчать, это говорит об их дружбе больше, чем то, что им приятно друг с другом говорить, как сказал Рэ». Так что Вы продолжаете жить в мне и в моих друзьях, и когда в руки мне попало Ваше замечательное сочинение, я ни о чем так сильно не жалел, как о том, что сильная глазная боль вынуждает меня воздержаться от написания письма Вам. Я далек от того, чтобы брать на себя смелость хвалить Вас, и я также не хочу обременять Вас грузом возлагаемых на Вас «ожиданий». Нет, даже если Вы никогда не станете публиковать ничего иного, кроме этих максим, если это произведение действительно является и останется вашим наследием, это будет по-своему логичным и совершенным. Тот, кто живет столь самостоятельно, вправе рассчитывать на то, чтобы его избавили от похвал и ожиданий. (…)[90]
116
80 Карлу фон Герсдорфу в Острихен — Базель, 13 декабря 1875
Вчера, мой дорогой друг, пришло твое письмо, а сегодня утром, прямо к началу тяжелой рабочей недели, — твои книги (…) Мысль о том, что жизнь не имеет никакой ценности, что все цели обманчивы, столь часто напрашивается ко мне, особенно когда я лежу больной в постели, что мне хочется услышать на этот счет поболее, только вот чтобы это не имело ничего общего с фразами из иудео-христианского оборота[91], — к ним я в какой-то момент преисполнился такого отвращения, что мне впору остеречься быть несправедливым… Я думаю, что желание познавать остается последним бастионом воли к жизни, промежуточной территорией между волением и утратой всяких желаний, своего рода чистилищем, коль скоро мы обращаем на жизнь взгляд неудовлетворенный и презрительный, и нирваной, поскольку благодаря этой вотчине душа приближается к состоянию чистого созерцания[92]. Я стараюсь разучиться торопливости[93] в желании познавать; от этой торопливости страдают все ученые — она крадет у них божественное спокойствие обретенного понимания вещей. Покамест еще разные обязанности моей службы рвут меня на части так, что часто я сам против своей воли бываю вынужден впадать в подобную торопливость. Но мало-помалу я приведу это в порядок. Тогда и здоровье станет крепче, а его я обрести не смогу до тех пор, покуда не заслужу, покуда не приду именно в то состояние духа, которое мне словно бы завещано; это будет состояние здоровья человека, который сохранил одно только стремление — желание познания — и освободился от всех прочих порывов и вожделений[94]. Простота в обустройстве быта, строго продуманный распорядок дня, никаких излишних раздражителей вроде честолюбия или широкого круга общения, жизнь вместе с моей сестрой (благодаря чему все вокруг меня становится таким ницшевским и удивительно покойным[95]), сознание, какие у меня замечательные любящие друзья[96], 40 хороших книг всех времен и народов под рукой[97], неизменное счастье находить в Шопенгауэре и Вагнере воспитателей, а в греках — объект своего каждодневного труда, вера в то, что впредь у меня не будет недостатка в хороших учениках[98], — вот что составляет сейчас мою жизнь. К сожалению, к этому добавляются хронические мучения, на которые каждые две недели приходится по целых два дня, а то и более, но это ведь должно когда-нибудь кончиться. (…)
117
81 Карлу
фон Герсдорфу в Хоэнхайм — Базель, 18 января 1876
(…) У меня с трудом выходит писать, поэтому я буду краток. Дорогой друг, я пережил самое худшее, мучительное и жуткое Рождество в своей жизни! В первый день Рождества после нескольких не суливших ничего хорошего предвестий меня свалил настоящий удар; у меня нет больше ни малейших сомнений, что я мучился серьезным заболеванием мозга, а желудок и глаза страдают лишь вследствие этой, главной причины[99]. Мой отец умер в 36 лет от воспаления мозга; возможно, что у меня процесс пойдет еще быстрее[100]. По совету Иммермана я на несколько часов ставлю на голову ледяной компресс, рано утром делаю обливания, и теперь, после целой недели полного бессилия и мучительных страданий, мне уже немного легче. Однако до выздоровления еще далеко; это ужасное состояние не прошло, каждое мгновение напоминает мне о нем. меня до Пасхи освободили от педагогиума, в университете я снова преподаю. Я терпелив, но по поводу своей будущности у меня большие сомнения. Я питаюсь почти исключительно молоком, и оно мне помогает, сплю крепко[101]. Молоко и сон — это лучшее, что у меня сейчас есть. Только бы прошли эти ужасные приступы, продолжающиеся целыми днями! Без них хоть как-то еще можно перебиваться со дня на день.
Моя сестра читает мне вслух, поскольку мне самому чтение и письмо даются с трудом. Наряду с молоком и сном я мог бы еще назвать Вальтера Скотта. Где-то 19 марта я наверное отправлюсь на Женевское озеро, до тех пор будет еще слишком по-зимнему и прогулки по холоду могут оказаться мне скорей вредны, чем полезны. Вскоре сюда приедет моя матушка. (…)
Пожалуйста, держи содержание этого письма в секрете — не будем тревожить байройтцев[102]. Ах, Байройт! То мне не разрешали, то я не могу туда ехать. Но должна быть еще и третья возможность[103], и стоит мне подумать о том, сколько я уже перенес, я начинаю верить в то, что смогу пережить и эту зиму.
Будь здоров хотя бы ты; мне остается искать свое счастье в счастьи своих друзей. Ведь все мои собственные планы — как дым: пока еще я вижу их перед собой и пытаюсь ухватиться за них. Потому что жить без них очень грустно, почти невозможно…
Твой Ф. Н.
118
82 Францу Овербеку в Базель — Близ
Шильонского замка <Женевское
озеро>. 5 апреля
1876
Я корю себя за то, что не написал тебе, мой славный дорогой друг, в наказание одаривший меня еще одним письмом. Я вижу, какое у тебя всепрощающее настроение, и что ты счастлив настолько, что можешь еще и делиться этим чувством. А вот я, одинокий, все еще сижу здесь; слово «сидеть» надо, конечно, понимать не буквально, поскольку с утра до вечера хожу по горам и среди бесконечных недомоганий переживаю целые часы настоящего счастья. Ты знаешь ведь, что мои физические страдания достаточно часто бывают так похожи на «нравственные», что можно спутать, — так же и это чувство счастья есть нечто большее, чем просто отсутствие головной боли. У меня ощущение, что я в очень многих вещах зажат в тиски, — здоровье означает для меня возможность вырваться из них. Это счастье я временами испытываю, бродя по горам, я не знаю ничего, что может быть лучше («как это грустно!», скажешь ты и, в общем-то, будешь прав).
Завтра я еду в Женеву. Новый город страшит меня хуже дикого зверя. Визит в Лозанну носил какой-то жутковатый характер: мне было плохо и грустно, и я испытал ни чем не сравнимое облегчение, когда снова увидел луну над Шильонским замком и снежные вершины Савойских гор, сияющие в прохладной ясной ночи. (…)
83 Матильде
Трампедах* в Женеву — Женева, 11
апреля 1876
Милая фройляйн,
нынче вечером Вы что-то напишете для меня, и я тоже хочу Вам
что-нибудь написать.

Соберитесь с духом, чтобы не испугаться вопросу, который я Вам сейчас задам: хотите ли Вы быть моей женой? Я люблю Вас и испытываю такое чувство, как если бы Вы уже были моей. ни слова о неожиданности моего увлечения! Во всяком случае, в этом нет ничьей вины, и тут не за что вообще извиняться. Но что мне хотелось бы знать, — это ощущаете ли Вы так же, как и я, что мы вообще не были чужими друг другу, ни единого мгновения! Верите ли вы так же, как и я, что в союзе
119
каждый из нас был бы свободней и лучше, чем поодиночке? Вы готовы отважиться идти вместе со мной как с человеком, который всем сердцем стремится к освобождению и совершенствованию? Идти по всем тропам жизни и мысли[104].
Будьте же откровенны и ничего не утаивайте от меня. Об этом письме и моем вопросе не знает никто, кроме нашего общего друга господина фон Зенгера1[105]. Утром около 11 часов я еду скорым поездом обратно в Базель, я должен туда вернуться. Мой базельский адрес я прилагаю к письму. Если на мой вопрос Вы сможете ответить «да», я тотчас же напишу Вашей матушке, чей адрес тогда попрошу у Вас. Если у Вас получится принять быстрое решение — с согласием или отказом, то Ваше письмо еще застанет меня до 10 часов утра в отеле «Гарни де ля пост»[106]:
Навеки желающий Вам всего доброго и благословенного
Фридрих Ницше.
*По
свидетельству Матильды Трампедах, она виделась с Н.
всего три раза — в течение нескольких дней, предшествовавших этому письму. Во
время первой встречи, когда их представили друг другу, он держал над собой
«солнечный зонтик с зеленым подбоем», несмотря на сумеречное освещение. В
следующий раз они вместе с большой компанией прогуливались по берегу Женевского
озера, последняя же встреча состоялась, когда Н. зашел с прощальным визитом. Он
сыграл немного на рояле[107],
«вскоре после этого мы расстались; прощание было безмолвным», — вспоминает
Матильда Трампедах, — «перед уходом Н. отвесил мне
глубокий поклон».
84 Мальвиде
фон Мейзенбуг в Рим — Базель, 14 апреля 1876
Глубокоуважаемая фройляйн
Воскресенье, бывшее 14 дней назад, я провел на берегу Женевского озера — в одиночестве и притом всецело находясь рядом с Вами, с утра до полнолунного вечера: я с каким-то обновленным чувством читал Вашу книгу, прочтя ее до конца, и все время говорил себе что никогда еще не бывало у меня такого глубоко торжественного воскресенья. Меня не покидало настроение чистой любви, и сама природа была в
120
этот день не чем иным, как отражением этого настроения. Вы предстали передо мной как высшее, значительно более высокое в сравнении со мной существо, и все же Ваше превосходство не унижало меня, а придавало мне силы. Таким виделся мне Ваш образ, и я мерил по нему свою жизнь и спрашивал себя о тех многих, многих вещах, которых мне недостает[108]. Я благодарен Вам за гораздо большее, чем просто за книгу. Я был болен и сомневался в моих силах и моих целях. После Рождества я думал отказаться от всего и ничто не страшило меня так, как необходимость долго еще влачить существование, которое, лишившись своих высоких целей, превратилось бы просто в чудовищный гнет. Теперь я чувствую себя более здоровым, более свободным; задачи, которые я должен выполнить, ясно рисуются моему взору, не мучая меня <своей неосуществимостью>[109]. Как часто наедине с собой я хотел задать Вам такие вопросы, ответ на которые может дать лишь более нравственный и сущностный, чем я, человек! И вот теперь из Вашей книги я получаю эти ответы на очень определенные затрагивающие меня вопросы. Я думаю, что не смогу быть доволен своими поступками прежде, чем они получат Ваше одобрение. Однако Ваша книга для меня, возможно, еще более строгий судья, чем Вы сами могли бы быть. Какие поступки должен совершить мужчина, чтобы при виде этого полотна Вашей жизни не уличить себя в немужественности? Я часто задаю себе этот вопрос, и вот мой ответ: он должен совершить все то, что совершили Вы, и не более того! Но скорее всего он просто не сможет этого, ему не хватит уверенного первородного инстинкта всегда готовой прийти на помощь любви[110]. Один из самых возвышенных мотивов, о котором у меня появилось представление лишь благодаря Вам, — это мотив материнской любви без физического союза матери и ребенка[111]; это одно из самых удивительных откровений caritas[112]. Уделите мне немного этой любви, моя высокочтимая подруга, — ведь перед Вами тот, кто как сын нуждается, ах как нуждается в такой матери![113]
Нам будет много что сказать друг другу в Байройте. Сейчас я снова вправе надеяться, что смогу поехать туда, меж тем как пару месяцев назад мне приходилось отметать даже самую мысль об этом. (…)
85 Матильде
Трампедах в Женеву — Базель, 15 апреля 1876
Высокочтимая фройляйн,
Вы достаточно великодушны, чтобы простить меня: я чувствую это по мягкости Вашего письма, которого я по правде не заслужил. В сво-
121
их мыслях я столько страдал по поводу своего брутального насильственного образа действий[114], что не могу даже передать, как я благодарен за эту мягкость. Я ничего не хочу объяснять и не знаю, как оправдаться. Я хотел бы только высказать последнее пожелание, чтобы Вы, если приведется снова увидеть мое имя или встретить меня самого, думали не только о том страхе, который я внушил Вам. Какими бы ни были обстоятельства, я прошу Вас верить мне, что я очень хотел бы исправить то, в чем я поступил дурно.
С уважением Ваш
Фридрих Ницше
86 Карлу
фон Герсдорфу в Хоэнхайм [Базель, 15 апреля 1876]
(…) Я понял одну очень важную вещь: единственное, что люди, каковы бы они были, безоговорочно признают и перед чем они преклоняются — это благородный поступок. Ни за что на свете ни единого шага с целью приспособиться! Достичь настоящего успеха можно лишь оставаясь верным себе. Я знаю, какое влияние имею уже сейчас, и если бы я ослабел или впал в скептицизм, то нанес бы этим вред и уничтожил бы не только самого себя, но и многих развивающихся вместе со мной людей.
Применительно к тебе, мой дорогой друг: я настоятельно прошу тебя не принимать во внимание некоторых вещей, которые я в минуты слабости высказал тебе в связи с твоей женитьбой. Ни за что на свете не соглашайся на брак по расчету (каковы все до сих пор называвшиеся тобою мне и предлагавшиеся тебе другими браки)! Цельность нашего характера не должна давать слабину в этом пункте! В десять тысяч раз лучше всегда оставаться одному — таков теперь мой выбор в этом вопросе[115]. (…)
87 Эрвину
Роде в Йону [Базель, 15 июля 1876]
Пусть то, о чем ты мне сообщаешь, мой дорогой, верный друг, будет к лучшему, действительно к лучшему: этого я желаю тебе от всего своего сердца. Итак, в благословенном 1876 году ты хотел бы построить, как и наш Овербек, свое гнездо, и я думаю, что не потеряю вас оттого, что Вы станете счастливей. Да, мне будет спокойней за тебя, пусть даже
122
я сам не смогу последовать этому твоему шагу. Ведь тебе так была нужна душа, полная доверия к тебе, и ты обрел ее[116], а заодно, на более высокой ступени, и себя самого. Со мной же все по другому — бог знает или же не знает как. Мне все это кажется, за исключением редких дней, не таким уж нужным.
Может быть, во мне в этом смысле какой-то изъян. У меня иное стремление, иная нужда — я едва ли смог бы назвать и объяснить ее.
Этой ночью мне пришло в голову сказать об этом в стихах; я не поэт, но ты меня, должно быть, поймешь.
Шагает странник по тропе
В ночной тиши,
И мир по капле льется вглубь
Его души:
И поворот
С собой он в путь, еще неведомый, берет.
Вдруг слышит рядом птичье пенье:
«Ах, птичка, что за наважденье?
Зачем поешь ты сладко так,
Что сам собою медлит шаг
И в сердце больше нет покоя?
О чем поешь с такою
Любовью и такой тоскою?»
Но птица говорит в ответ:
Нет, странник, нет,
Не для тебя ни мой привет,
Ни эта песня.
Она о том, что ночь чудесна.
А твой удел — всегда идти
И быть в пути,
Но песнь мою
Тебе с собой не унести.
Едва вдали затихнет звук твоих шагов,
Как затяну я песню вновь
И буду петь до самой рани.
Прощай же, одинокий странник!»
Так говорила мне ночь после того, как я получил твое письмо.
Ф. Н.
123
88 Элизабет Ницше в Базель [Байройт, 1
августа 1876]
Моя дорогая сестра,
мои дела плохи, это очевидно! Постоянная головная боль, хотя и не в наихудшем своем варианте. Вчера я смог слушать «Валькирию», только находясь в полной тьме: любые зрелища исключены. Мне хочется уехать, будет слишком бессмысленно, если я останусь. Меня страшит каждый из этих долгих вечеров искусства, и все же я по-прежнему здесь. (…)
К первому представлению я хочу, чтобы меня тут уже не было. Где угодно, но только не в Байройте, который для меня — сплошная мука.
Может быть, ты напишешь пару слов Шмайцнеру и предложишь ему мое место на первое представление? Или кому-то другому, кому захочешь.
Прости, что у тебя со мной опять столько хлопот! Я хочу уехать в Фихтельгебирге1 или еще куда-нибудь
Твой Фриц.
89 Луизе
Отт* в Париж — Базель, 30 августа 1876
Моя милая госпожа Отт,
все вокруг померкло, когда Вы покинули Байройт, мне казалось, будто меня лишили света. После этого мне нужно было снова собраться с духом, но это я уже сделал, и это письмо Вы можете брать в руки не тревожась.
Мы хотим хранить верность чистоте духа, который свел нас вместе, мы хотим во всем добром оставаться верны друг другу.
Я думаю о Вас с такой братской сердечностью, что смог бы полюбить Вашего супруга потому, что он — Ваш супруг; и поверили ли Вы мне, что мысли о Вашем маленьком Марселе по десять раз на дню приходят мне в голову?
Хотите, я пришлю Вам мои первые три «Несвоевременных размышления»? Ведь Вам следует знать, во что я верю, для чего я живу.
Будьте же благосклонны ко мне и помогите мне в том, что является моим предназначением.
124
Ваш Фридрих Ницше.
*Некоторый
неясный свет на предысторию этих отношений проливает письмо Луизы Отт от 2
сентября того же года: «Как это хорошо, что теперь мы можем прийти к верной,
здоровой дружбе между нами, так что каждый из нас сможет думать о другом всем
сердцем, не боясь укоров совести. Пусть же мы дадим друг другу лучшее: наши сердца и дух! Но ваши глаза я забыть не
могу: все так же, как тогда, покоится на мне Ваш ласковый глубокий взгляд…
О да, пришлите мне Ваши
произведения — ведь я должна ближе узнать своего верного друга! Таким,
совершенно естественным, путем сможет развиться наша переписка. Только при этом
не упоминайте ничего о Вашем и моем письмах — пусть все, что происходило
до сих пор, останется между нами — это будет нашим святилищем лишь
для нас двоих»[117].
90 Луизе
Отт в Париж [Базель, 22 сентября 1876]
Дорогая славная подруга,
сперва я не мог писать, поскольку мне лечили глаза — теперь же писать мне и вовсе воспрещено, надолго вперед! Несмотря на это, я снова и снова перечитываю оба[119] Ваши письма, я думаю, что читаю их слишком часто, но эта новая дружба — она, как молодое вино, — так приятна, но, пожалуй, немного опасна*.
Во всяком случае для меня.
Но также я опасаюсь и за Вас, стоит мне помыслить о том, какой свободный ум Вам попался: человек, который ничего не желает так сильно, как ежедневно лишаться хотя бы одной успокоительной мысли, который ищет и находит свое счастье в этом, все возрастающем день ото дня, освобождении духа. Может быть, даже и так, что я гораздо больше хочу быть свободным умом, нежели могу им быть!
Что же нам остается? «Похищение из сераля» веры, только без моцартовской музыки?
Вам знакома история жизни фройляйн Мальвиды фон Мейзенбуг под заголовком «Мемуары идеалистки?
125
Как поживает маленький Марсель и его зубки?[120] Нам всем приходится страдать, физически и морально, прежде чем мы научимся по-настоящему кусаться. Кусаться, разумеется, не для того чтобы кусаться, а чтобы добывать себе пропитание[121].
Нет ли хорошего портрета, на котором запечатлена одна прелестная блондинка?
Я уезжаю через 8 дней в Италию, надолго. Вы получите весточку оттуда. Письмо на мой адрес в Базеле (Шютценграбен 45) в любом случае найдет меня[122].
Всем сердцем
Братски
Ваш
др. Фридрих Ницше.
*Осторожные
интонации этого письма и последующее его идейное содержание — ответ на письмо
Луизы Отт от 8 сентября: «Как мне найти слова, чтобы выразить ту радость,
которую я ощутила, получив Вашу книгу? Я даже не буду пытаться это выразить.
Выв поймете меня и так — без слов! Мне стало тепло, так тепло на душе, мне
хотелось громко зарыдать, и все же это было счастье — одно только счастье! Мой
друг, мой друг! Я хочу читать Ваше произведение с Вами, останавливаясь на всех
местах, которые мне неясны и расспрашивая Вас. Ах, я еще так несведуща и должна
бы стыдиться, думая о Вас, который, несмотря на это, так добр ко мне.
Знаете ли Вы, что я
христианка?.. Вы говорите, что со времен
Почему Вы не верите в то,
что говорит и обещает Христос?
Дорогой господин Ницше, Вы
слишком благородны, чтобы смеяться надо мной, пусть даже вы[123]
найдете меня ребячливой, поэтому я хочу всегда чувствовать себя свободно и открыто
с Вами». И т. д.
91 Эрвину Роде в Йену [Базель, 22 сентября 1876]
(…) Твое нынешнее состояние можно преодолеть; насколько я знаю, женщины это умеют — у них на это инстинкт. Благо твои страдания —
126
не такая уж редкость, в особенности для жениха. После всяких тяжких страстей остается темная потребность вернуться к ним. По-видимому есть некая услада высшего порядка в том, чтобы намучаться как следует от бичей и языков пламени страсти. И вот уже человек отбрасывает прочь предлагающее себя более спокойное и солнечное счастье ради демона воспоминания и этим по-новому доставляет себе боль, во имя чего все это, возможно, и делалось — ибо так уж удивительно человек устроен.
Но я прошу и заклинаю тебя, дражайший друг, обождать и запастись терпением и по-настоящему доброй волей к тому, чтобы почувствовать подаренное тебе счастье юной души! Если у тебя не найдется этой доброй воли, из тебя сделают ревнивца. (…)
92 Рихарду
Вагнеру в Болонью — Базель, 27 сентября 1876
Глубокоуважаемый друг,
данным мне маленьким поручением Вы доставили мне радость: это живо напомнило о трибшенской поре. Сейчас я помногу сиживаю в темной комнате из-за курса атропина, который мне прописали по возвращении, и у меня есть время подумать о прошлом, как недавнем, так и отдаленном. Осень, наступившая после этого лета, предстала мне, и, пожалуй, не только мне одному, гораздо более по-осеннему, чем предшествующая. За великими событиями пролегла полоса чернейшей меланхолии, в одночасье спастись от которой в Италии или в творчестве[124] или же в них обоих едва ли получится. Когда я представляю себе Вас в Италии, мне вспоминается, что именно там к Вам пришло вдохновение для вступительных тактов «Золота Рейна». Пусть этот край всегда остается для вас страной начинаний!..
Вы знаете, наверное, что я в следующем месяце тоже еду в Италию, но не как в страну начинаний, а как в страну окончания моих страданий. Они снова достигли своего пика; мое начальство знает, что делает, предоставляя мне отпуск на целый год, хотя эта жертва непомерно велика для такого маленького коллектива. Если б они не предоставили мне этого выхода, то наверняка так или иначе потеряли бы меня. Последние годы за счет кротости своего темперамента я проглатывал одну боль за другой, как будто только для этого и ни для чего больше я и родился на свет. Философии, которая этому примерно и учит, я на деле выплатил богатую дань. Эта невралгия взялась за дело столь основательно, по-научному; она форменным образом зондирует, до каких
127
пределов я могу выносить боль, и посвящает этому исследованию всякий раз часов по тридцать. С промежутками в 4–8 дней эксперимент возобновляется. Вы видите, что это болезнь ученого. Однако теперь я сыт ею по горло, я хочу или быть здоровым или не быть вовсе. Полный покой, мягкость воздуха, прогулки, затемненные комнаты — всего этого я жду от Италии; перспектива быть там зрителем и слушателем меня, наоборот, устрашает. Не подумайте, что я становлюсь брюзгой; не болезни, а только лишь люди способны меня огорчить, вокруг же — такие внимательные, всегда готовые прийти на помощь друзья. Вначале после моего возвращения тут был моралист доктор Рэ, сейчас — композитор Кезелиц, тот самый, который пишет под диктовку это письмо (…)
93 Элизабет
Ницше в Наумбург — Сорренто, 28 октября 1876
Вот мы и здесь в Сорренто. (…) У меня очень большая высокая комната, перед нею терраса. Я сейчас вернулся с первого морского купания; вода, как сказал доктор Рэ, теплей, чем в июле на северном море. Вчера вечером мы были у Вагнеров, которые живут в пяти минутах от нас, в отеле «Виктория» и останутся здесь еще на ноябрь.
Сорренто и Неаполь прекрасны, без всякого преувеличения. Здешний воздух — это смесь горного и морского. Моим глазам пребывание тут идет на пользу. Внизу перед моей террасой простирается большой зеленый парк (он и зимой остается зеленым), за ним — море глубокого темного цвета, за ним — Везувий.
С любовью ваш верный Ф.
94 Козиме
Вагнер в Байройт — [Сорренто, 19 декабря 1876]
(…) Уединенность моего теперешнего вызванного болезнью образа жизни столь велика, что все бывшее за последние восемь лет почти померкло в моем сознании, зато более ранние времена, о которых я в однообразных заботах этих лет вовсе не думал, нахлынули в памяти, властно заполнив ее. Почти каждую ночь я общаюсь в снах с давно позабытыми людьми, в основном даже умершими. Детство и школь-
128
ная пора вспоминаются так, будто это было только вчера. Размышляя о своих прежних целях и о том, что на деле оказалось достигнуто, я обнаружил, что во всем достигнутом далеко превзошел ожидания и абстрактные упования моей юности. При этом все, что было запланировано сознательно, я смог осуществить в среднем только на треть. Вероятно, так оно будет и впредь. Будь я совершенно здоров, кто знает, не принялся ли бы я реализовывать свои задачи на какой-нибудь совершенно авантюрной ниве? Однако покамест я принужден убрать паруса. На следующие базельские годы я наметил себе завершение некоторых филологических трудов, и друг Кезелиц уже вызвался помогать в качестве секретаря, читая мне вслух и переписывая (поскольку со зрением у меня обстоит никудышным образом[125]). После того как я снова наведу порядок в делах филологических, меня ожидает самое трудное. Удивит ли Вас, если я признаюсь Вам в моих внезапно осознанных разногласиях с учением Шопенгауэра? Почти что во всех общих положениях я стою не на его стороне; еще когда я писал о Шопенгауэре, то заметил, что попросту игнорирую все догматическое в нем, мне было до него дело только как до человека. (…)
95 Мальвиде
фон Мейзенбуг в Сорренто [Лугано, 13 мая 1877]
Глубокоуважаемая подруга,
поскольку по здравом размышлении я пришел к выводу, что открытка, хоть и легче письма, идет, все же, не быстрее, чем письмо, придется Вам принять этот обстоятельный отчет о моих одиссеевых странствиях. Человеческое ничтожество в морских путешествиях ужасно и в то же время по сути комично — примерно так, как это мне видится с моей головной болью, которая ничуть не мешает находиться в прямо-таки цветущем физическом состоянии. Словом, сегодня у меня снова настрой «бодрого инвалида», меж тем как на корабле мной безраздельно владели черные мысли, и касательно самоубийства я раздумывал только о том, где бы найти место поглубже, чтобы меня не выудили тотчас же, вынудив вдобавок уплатить моим спасателям дань благодарности в виде груды золота. (…) Ко всему добавлялось то неудобство, что мне в каждую минуту по три, а то и по восемь раз приходилось менять положение, причем днем и ночью; ну а рядышком разносились запахи и велись разговоры закусывающих соседей, что было отвратительно сверх всякой меры. В гавань Ливорно мы прибыли в ночи, шел дождь,
129

тем не менее я хотел сойти[126], но хладнокровные заверения капитана удержали меня. Все на корабле с величайшим шумом болталось туда-сюда, кастрюли прыгали и оживали, дети плакали, буря завывала; «вечная бессонница была моим уделом», как сказал бы поэт. Высадка принесла с собой новые страдания; весь пронизываемый жуткой головной болью, я тем не менее все время был начеку и с недоверием поглядывал на каждого. Но главное, а именно, надписать багаж для железной дороги, я все же забыл[127]. И вот мы уже отправляемся дальше, в мифический отель «Националь», с двумя мошенниками на ко́злах[128], которые изо всех сил пытаются ссадить меня у какой-то жалкой траттории. Мой багаж при этом все время в чужих руках — передо мной всю дорогу, пыхтя, бежал человек с моим чемоданом. Пару раз я пришел в ярость и пригрозил кучеру, второй малый удрал. Знаете ли Вы, как я прибыл в отель «Лондон»? Я этого не знаю, однако хорошо, что я там оказался; вот только ужасно было, как я туда входил, поскольку целая свита бродяг желала, чтоб им заплатили. В отеле я сразу же слег в постель в очень болезненном состоянии. В пятницу в пасмурную дождливую погоду около полудня я собрался с силами и отправился в галерею палаццо Бриньоли; и что удивительно — его портрет оказался тем, что меня привело в чувство и воодушевило: Бриньоли верхом, и в глазах его могучего боевого коня заключена вся гордость этого семейства — это произвело немалое впечатление на мою униженную человеческую натуру! Лично я поставлю ван Дейка и Рубенса выше всех художников в мире. Прочие полотна, за исключением «Умирающей Клеопатры» Гверчино, оставляют меня равнодушным.
130
Так я снова вернулся к жизни и остаток дня спокойно и мужественно просидел в отеле. На следующий день была другая приятность: весь путь из Генуи в Милан я проделал вместе с очень милой юной балериной из миланского театра; Camilla era molto simpathica?[129] — о, Вам бы надо было послушать мой итальянский! Если б я был паша, я бы взял ее с собой. Я и до сих пор еще время от времени бываю немного зол на себя за то, что не остался ради нее хотя бы на пару дней в Милане.
Но вот я уже почти добрался до Швейцарии и проехал первый завершенный участок Готтардской железной дороги из Комо в Лугано. Но как же это вышло, что я приехал в Лугано? Я этого и не хотел толком, однако оказался здесь. Когда я под сильным дождем проезжал швейцарскую границу, сверкнула яркая молния с громовым раскатом. Я счел это за доброе предзнаменование; не скрою и того, что по мере приближения к горам мое самочувствие становилось все лучше.
В Кьяссо мой багаж уехал от меня на двух разных поездах; там была ужасная неразбериха, вдобавок еще таможня. Даже оба зонта поддались противоположным порывам. Но тут выручил славный носильщик — он был первым, кто заговорил со мной на швейцарском немецком; вообразите только, что я даже умилился этим звукам1. Еще подумалось, что мне гораздо больше нравится жить среди швейцарских немцев, чем среди немцев. Этот человек так заботился обо мне, с такой отеческой хлопотливостью бегал туда-сюда (во всех отцах есть нечто нескладное). В конце концов, все снова было собрано воедино, и я отправился дальше в Лугано. Меня ждал экипаж отеля дю Парк. И вот тут-то во мне родился возглас настоящего ликования: все было настолько хорошо, что я хотел сказать, что это лучший отель в мире. Я немного пообщался с мекленбургскими дворянами: это такой род немцев, который как раз по мне; вечером понаблюдал за незатейливым импровизированным балом — сплошные англичане, и все было так забавно. Потом я заснул, впервые крепко и глубоко, и сегодня с утра вижу перед собой все мои любимые горы — горы воспоминаний. Уже восемь дней как здесь идет дождь. Как обстоят дела на альпийских перевала, я собираюсь узнать сегодня на почте.
Мне вдруг пришло в голову, что я уже много лет не писал таких длинных писем, а также, что Вы его даже не сможете прочесть. Так что уже в самом факте написания этого письма можно увидеть знак улучшения моего самочувствия. Если Вы только сможете разобрать его концовку!..
131
96 Элизабет Ницше в Наумбург [Рагац, 2 июля
1877]
(…) Знаешь ли ты, что я очень серьезно колеблюсь, не оставить ли мне совсем мою базельскую службу? Боюсь, что будет безответственно начинать осенью все сызнова… Я должен решиться до 15 июня (…) Эта скороспелая базельская профессура оказывается прямо-таки главным бедствием моей жизни. ты не поверишь, насколько утомлены и не способны к работе голов и глаза (о том, как бывает в самые худшие дни, я даже не говорю). Когда я выздоровлю, то снова смогу найти себе место — в этом недостатка не будет, у меня есть друзья по всему свету.
Женитьба* — вещь, хотя и очень желательная, но совершенно невероятная, это мне полностью очевидно.
Впрочем, посмотрим. Не думай, что мне в моем нынешнем одиночестве чего-то недостает. Мне даже показалось, будто эдак гораздо здоровей для меня — жить совершенно одному, без всяких занимательных бесед и оглядок на общество.
Я почти все время провожу в прогулках. Чувствую себя лучше, чем в Сорренто. (…)
*В письме от
25 апреля 1877 Н. делился с сестрой планами «женитьбы на подходящей мне, но
непременно состоятельной особе. “Хорошей,
но богатой”, как сказала госпожа фон
Мейзенбуг (мы очень смеялись над этим “но”). С этой гипотетической особой я бы прожил тогда в
следующие годы в Риме… Этот план будет претворяться в жизнь нынешним летом, так
чтобы осенью я приехал в Базель женатым человеком. Приглашены разные
«создания», некоторые совершенно не знакомые тебе имена, например, Элиза Бюлов
из Берлина, Элизабет Брандес из Ганновера. По своим духовным качествам наиболее
подходящей кандидатурой мне всегда казалась Натали Герцен»[130].
97 Паулю
Рэ в Йену [Розенлауибад, конец июня 1877]
В это местечко, которое Вы видите на картинке, я взял с собой 3 книги: новую вещь американца Марка Твена (чьи дурачества нравятся мне больше, чем немецкие умничанья), «Законы» Платона[131] и Вашу, дорогой друг[132]. Так что я, наверное, первый, кто читает Вас вблизи ледни-
132
ка; и я могу Вам сказать, что это верное место для того, чтобы взглянуть на человеческую сущность (очень даже включая свою собственную) с толикой презрения и пренебрежения, перемешанного с состраданием…
В жизни так много избыточных бет, что боль мы, казалось бы, получаем сполна. Так нет же: к ней еще добавляются всевозможные страдания, которые проистекают из мнений. Отчего человеку так хорошо на лоне природы? Оттого, что у нее нет никакого мнения о нас.
Я, кстати, все больше изумляюсь тому, как хорошо оснащено Ваше изложение в логическом плане. Я-то ничего подобного не умею максимум — немного повздыхать или напеть что-нибудь, но доказывать, так что было приятно голове читающего: это умеете Вы и в этом заключено во сто крат больше. (…)
98 Мальвиде
фон Мейзенбуг в Зеелисберг [Розенлауибад, 1 июля 1877]
(…) до осени мне осталось решить прекрасную задачу: добыть себе женушку, пусть даже мне придется искать ее себе на улице — да придадут мне боги бодрости для этого! У меня опять был целый год для раздумий, и я дал ему пройти впустую. И все же я давно знаю, что без этого невозможно даже рассчитывать на облегчение моих страданий. Я решил в октябре снова отправиться в Базель и вернуться к моей прежней деятельности. Я не могу без ощущения того, что приношу пользу, а базельцы — единственные люди, которые дают мне это почувствовать. Мои столь насыщенные проблемами мыслительские и писательские заботы до сих пор всякий раз делали меня больным. До тех пор пока я действительно был ученым, я был здоров, но тут на меня свалились расшатывающая нервы музыка с метафизической философией и заботы о тысяче вещей, до которых мне самому нет никакого дела. Так что я хочу снова быть преподавателем, если этого не выдержу, то пускай уж упокоюсь в своем ремесле. (…)
99 Паулю
Дойзену в Аахен [Розенлауибад, начало августа 1877]
Дорогой друг, с каким опозданием ты получишь мою благодарность за присылку твоей книги! (…) Ты очень хорошо использовал прошедшие
133
годы: каждая
страница твоей книги свидетельствует о непреклонной воле к учению, об обретенной
ясности и несомненной способности быть выразительным, которая, должно быть, в
устных докладах проявляется на еще более высокой ступени. Всем тем, кому нужно
узнать Шопенгауэра, а в особенности тем, кто хотел бы проконтролировать
собственное знание о нем, ты вручаешь замечательную путеводную нить. Кроме того,
каждый читатель найдет в ней и нечто твое, причем такое, за что он должен быть
признателен (в первую очередь из труднодоступной области индологии).
Если говорить лично обо мне, то я сожалею только об одном, а именно — что не обрел такую книгу, как твоя, на некоторое количество лет раньше! Насколько благодарней был бы я тебе за нее! Теперь же, сообразно тому, как человеческая мысль движется своими путями, книга твоя удивительным образом служит мне замечательным собранием всего того, что я больше не считаю за истину*. Это печально! И я не хочу более говорить об этом, дабы не причинить тебе боль различием в наших суждениях. Уже когда я писал свой маленький труд о Шопенгауэре, я более не придерживался практически никаких его догматических пунктов. Однако и сейчас, как тогда, я верю, что на каком-то этапе очень важно пройти сквозь Шопенгауэра и использовать его в качестве воспитателя. Только вот не верю я больше, что шопенгауэровская философия является и целью этого воспитания. (…)
*Об
окончательном переломе в оценке Шопенгауэра свидетельствует также написанное за
несколько дней до того письмо Карлу Фуксу: «Как можно меньше используйте
выражения из шопенгауэровской метафизики, — я думаю, — простите, я не только
думаю, но и знаю, — что она вещь ложная и что все тексты, которые отмечены
ее печатью, станут скоро не понятны никому».
100 Эрвину
Роде в Йену [Розенлауибад, 28 августа 1877]
Дорогой, дорогой друг,
не знаю даже, как мне это назвать, но всякий раз, когда я думаю о тебе, меня охватывает умиление, и когда недавно мне кто-то написал, что «юная жена Роде — очаровательное существо, во всех ее чертах сквозит благородство души», я даже расплакался, чему не могу подыскать
134
никаких убедительных объяснений. Надо бы спросить у психологов, может быть, они в конце концов укажут, зависть ли это, не дающая мне смириться с твоим счастьем, или же досада на то, что кто-то увел у меня друга и теперь Бог знает где, на Рейне или в Париже, прячет его и не хочет отдавать обратно![133] когда я недавно напевал про себя мой «Гимн одиночеству», мне вдруг почудилось, что тебе совсем не нравится моя музыка, что тебе хотелось бы песен о счастье вдвоем. На следующий вечер я попробовал сыграть такую, как умел, и это мне удалось, так что все ангелочки, в особенности человеческие, с удовольствием послушали бы ее. Только было это в темной комнате, и никто этого не слышал — так что и счастье, и слезы, и все мне пришлось проглотить самому.
Рассказать ли о себе? О том, что я все время в пути — на прогулках: уже за два часа до того, как солнце встанет над горами, и потом тоже — в длинных предзакатных тенях. О том, как много я всего передумал и действительно обогатился после того, как этот год наконец позволил мне стряхнуть с себя мох каждодневной преподавательской и мыслительной повинности?[134] Живя здесь так, я вполне выношу всевозможные боли. Конечно, они преследуют меня и на высоте, однако в просветах между ними бывает столько счастливых взлетов в мыслях и чувствах!* (…)
Через три дня я возвращаюсь обратно в Базель. Моя сестра уже там, вовсю занята устройством быта. Верный музыкант Кезелиц переселится в мое жилище и возьмет на себя заботы писца. Меня немного страшит предстоящая зима; все должно стать по-другому. Тот, у кого изо дня в день остается слишком мало времени для главного дела и кто почти все время и силы должен уделять обязанностям, с которыми бы и другие справились не хуже, — тот не гармоничен, тот в разладе с собой, в конечном итоге он станет больным. Если я и оказываю какое-то влияние на юношество, то за это я должен быть признателен моим произведениям, а за них — украденным часам[135], отвоеванным за счет болезни промежуткам между профессией и профессией. (…)
*3 сентября
1877 г., уже по возвращении в Базель, Н. напишет Мальвиде фон Мейзенбуг: «В
Альпах, где я один и у меня нет врагов кроме самого себя, я становлюсь
непобедим».
135
101 Луизе
Отт в Париж — Розенлауибад, 29 августа 1877 (ах, послезавтра я должен уезжать!
Снова — в прежний Базель!)
Моя милая подруга
я не хотел бы расставаться со своим горным одиночеством, не высказав Вам еще раз в письме того, сколь я к Вам расположен. Сколь излишне говорить, писать об этом, не правда ли? Но мое дружеское чувство к каждому приставуче, как колючка, и подчас, как колючка же, обременительно, — от него нелегко освободиться. (…)
Недавно в темное я внезапно увидел перед собой Ваши глаза. Почему ни один человек не смотрит на меня такими глазами, с горечью воскликнул я. О, это ужасно!
Почему я никогда не слышал Вашего пения?* Вы знаете, женский голос до сих пор еще никогда не оказывал на меня глубокого воздействия, хотя я слышал всевозможных знаменитостей. Но я верю в то, что в мире есть голос для меня, я ищу его. Где же он?
Будьте счастливы, пусть все добрые духи будут с Вами.
Преданный Вам
Фридрих Ницше
*1 сентября
Луиза Отт ответила: «Вы можете смеяться надо мной, но я прекрасно знаю, почему
Вы увидели мои глаза: я так много думала про прошлый год, что Вы просто должны
были это почувствовать. Я заново проживала все, день за днем, и чувствовала
себя богатой, такой богатой от того[136],
что Вы подарили мне свое сердце.
Ваше письмо не «излишне»,
мой друг; оно — благодатный бальзам для моей души, которого так мало в моей
жизни! приезжайте этой зимой в Париж, — конечно, вы услышите мой голос, хотя
мой дорогой учитель Франц Штокгаузен любил говорить мне, что он хорош только
для церковного пения. Я думаю, что он не производит особого впечатления».
Тем не менее 5 лет спустя в
письме Лу Саломе (см. № 160) Н. назовет голос Луизы Отт
«поразительно сильным и выразительным» а также вспомнит и про это приглашение в
Париж.
136
102 Марии
Баумгартнер в Леррах — Розенлауибад, 30 августа 1877
(…) Я знаю, я чувствую, что для меня существует более высокое предназначение, чем то, что реализуется на моем столь почтенном базельском посту. Я больше, чем филолог, — настолько, что ради моего высшего предназначения я и саму филологию могу поставить себе на службу. «Я жажду себя» — вот что собственно было постоянной темой моих последних 10 лет. Сейчас, когда, благодаря году пребывания с самим собой, все стало совершенно ясно и зримо (я не могу выразить, сколько внутреннего богатства, сколько творческой радости я в себе, несмотря на все страдания, ощущаю, стоит только мне остаться одному), сейчас я могу совершенно осознанно сказать Вам, что возвращаюсь в Базель не для того, чтобы остаться там. Как все это сложится, я не знаю, но мою свободу (внешние ее условия должны быть как можно более скромными) — эту свободу я себе завоюю. (…)
137
Но в самой уединенной пустыне совершается второе превращение: львом становится здесь дух, свободу хочет он себе добыть и быть господином в своей собственной пустыне.
Ф. Ницше «Так говорил
Заратустра» («О трех превращениях»)
103 Эрнсту
Шмайцнеру в Хемниц — Базель, 3 декабря 1877
Глубокоуважаемый господин издатель! Я благодарю Вас за то, что Вы выказали склонность принять в свое издательство мою новую книгу — я мог бы, пожалуй, сказать: главную книгу. Само собой разумеется, что это предварительное согласие не может рассматриваться непременно как твердое обязательство, поскольку Вам до сих пор не были известны мои условия. Так что спешу теперь сообщить Вам их, причем, что, надеюсь, будет простительно, в форме параграфов. Но сначала я укажу полное название моей книги; звучит оно так:
Фридрих Ницше
Человеческое, слишком человеческое
Книга
для свободных умов.
Посвящается памяти Вольтера
к годовщине его смерти
30 мая 1778 г.
1) Должно быть напечатано 100 экземпляров. Гонорар — 10 талеров за лист. (…)
3) Касательно букв и их размера я после тщательного обдумывания должен все же настаивать на том, чтобы использовались такие же, как в «Несвоевременных размышлениях». Вы имеете дело с автором, который с достаточной определенностью видит, что ему предстоит ослепнуть. Так уж по крайней мере мне хотелось бы ослепнуть не от собственных сочинений (…)
141
104 Карлу фон Герсдорфу в Берлин — Базель, 21
декабря 1877
Дорогой друг, самая большая банальность в мире — это смерть, вторя по величине рождение, ну а третья — женитьба. Только представь себе, сколько людей каждую минуту вступает в брак[137], и останется лишь посмеяться над ребячливым важничаньем всех этих любящих; обыкновенно они уже спустя несколько месяцев сами видят, что ничего существенного не изменилось даже для них самих, не говоря уж обо всем остальном мире. В том, что до брака дело так и не доходит, если стороны не могут договориться о денежных отношениях, тоже нет ничего необычного, и нет никаких оснований поднимать вокруг этого много шума. Похоже, что в твоем случае именно этой договоренности и не произошло. Это может тебя еще долго огорчать, но когда ты однажды со всей ясностью взглянешь на эту ситуацию, то еще порадуешься тому, что все так обернулось. Друг Роде сказал еще тогда в Байройте: «Если Герсдорф останется в итоге без своей Нерины, ему следует возблагодарить за это Всевышнего!» Что стало теперь уже совершенно очевидным для всех зрителей этого чересчур затянувшегося спектакля, и что еще тогда увидел Роде — это то, что ваши с ней натуры абсолютно не подходят друг другу.
Судя по тому, что́ ты знаешь о семействе Финочьетти, и как ты описывал их мне, когда мы были на Женевском озере, жениться на Нерине имело бы смысл лишь для того, чтобы ее спасти, — в этом мы с тобой были тогда согласны. Однако само собой разумеется, что если речь идет о спасении человек, не приходится рассчитывать на то, что спасешь заодно и все его имущество, — в этом отношении нужно быть заранее готовым к потерям…
Кстати, спасение означает в этом случае гораздо больше, чем просто оторвать Нерину окончательно от семьи; тут требуется гораздо более трудное — отделить и спасти благородные и ценные свойства Нерины от неизбежно присущих ей фамильных свойств. Если это дочь отца, которого постоянно характеризуют как жалкого мошенника, если ее мать была любовницей своего повара, то, значит, девушку с самых ранних лет окружало дурное, предосудительное родство, некие сомнительные свойства должны быть скорее всего присущи и ей и требуется твердая рука, а также ясная и энергичная голова, чтобы выправить определенную кривизну подобной натуры. Если это еще вообще возможно![138] Что ж, фройляйн Мейзенбуг верила в это, и она была о тебе настолько высокого мнения, что считала тебя способным выполнить эту труд-
142
ную миссию[139].
Другие думали иначе и сомневались [+++]
<вместо того чтобы> быть по-мужски твердым[140] с нею, ты совершенно подпал под ее влияние, так что можно сказать, что теперь есть две Нерины — одна в Париже, другая в Берлине, и обе являют собой, увы, столь жалкое зрелище! И обе эти Нерины ведут себя отвратительно неблагодарно по отношению к госпоже фон Мейзенбуг… Еще в Сорренто я нередко бывал возмущен той безоглядной назойливостью, с которой всякий коме не лень обращается в длиннющих эпистолах к этой чистейшей душе, к женщине, у которой на самом деле есть гораздо более высокая миссия, нежели снова и снова обдумывать и оборачивать к лучшему неясные дела путаных персонажей[141]. Она любила и ценила вас обоих больше, чем вы того заслуживали, в этом нет никакого сомнения. Она как никто другой жертвовала собой ради вас в этих ваших сомнительных делах… Если Нерина теперь в обществе немецких дам льет в сторону этой чистейшей души помои своей подозрительности и своей неблагодарности, то этим она как раз и подтверждает, что недалеко ушла от своей флорентийской родни. Я бы счел, что для немецкого дворянина постыдно и бесчестно оказаться полицейским агентом на службе у этой неблагодарной, стать орудием в ее руках, я бы счел это достаточным для того, чтобы порвать с ним всякие личные отношения, если бы только я не знал, что он действует в состоянии полнейшей ослепленности. Но от имени госпожи фон Мейзенбуг я этим письмом впредь запрещаю этому ослепленному направлять ей письма. И даже в том, безусловно подразумеваемом, случае, если его охватит глубокое чувство свое неправоты и ему захочется попросить прощения, — даже в этом случае окончательный адрес на письме будет надписан лишь в Базеле. Состояние здоровья госпожи фон Мейзенбуг сделало необходимыми эти средства предосторожности.
…Думаю, после этого письма1 я более чем когда-либо вправе называть себя
Твоим искренним другом
Фридрихом Ницше.
143
105 Рихарду и Козиме Вагнер в Байройт
(черновик) — [Базель, начало
1878]
Пересылая, я с доверием вручаю Вам и Вашей благородной супруге свою тайну и полагаю, что впредь это будет и Вашей тайной. Эта книга написана мною: в ней я вынес на свет свое сокровенное восприятие людей и вещей и впервые обошел периферию моего собственного мышления. Во времена, полные пароксизмов и мучений, эта книга была мне утешением, которое действовало там, где не справлялись все другие утешения. Возможно, я и живу до сих пор потому, что оказался способен на нее.
Для нее должен быть выбран псевдоним, во-первых, потому, что я не хотел бы мешать эффекту моих прежних произведений, далее — потому, что надеюсь таким образом воспрепятствовать общественному и приватному оскорблению моего личного достоинства (поскольку подобного мое здоровье вынести бы уже не смогло), и, наконец и главным образом, потому, что я хотел бы сделать возможной дискуссию по существу, в которой и мои всевозможные интеллигентные друзья могли бы участвовать, не чувствуя себя вынужденными при этом к особому нежничанью. Никто не хочет писать и высказываться против моего имени. Но я не знаю ни одного из них, кто разделял бы воззрения этой книги. При этом я жду и жажду контраргументов, которые могут быть в данном случае приведены.
У меня на душе, как у офицера, который взял штурмом редут. Хоть он и ранен, но он наверху и теперь разворачивает свое знамя…
Хотя, как было сказано, я не знаю никого, кто разделял бы сейчас мои взгляды, я не могу отделаться от ощущения, что мыслил не как индивидуум, а как коллектив — диковинное чувство одиночества и в то же время общности. Выехавший вперед герольд, не знающий в точности, следует ли за ним воинство и существует ли оно вообще.
106 Рейнхарту
фон Зайдлицу в Зальцбург — Базель, 4 января 1878
(…) Вчера ко мне прибыл присланный Вагнером «Парсифаль». Впечатление от первого прочтения: скорее Лист, чем Вагнер, дух контрреформации. Для меня, слишком привыкшего к греческому, человечески всеобщему, все это чересчур ограничено христианской эпохой; психология сугубо фантастическая; никакой плоти и чересчур много
144
крови (в особенности во время причастия чрезмерная, на мой вкус, наблюдается полнокровность), кроме того, я не люблю истеричных баб. Многое, что переносимо для внутреннего взора, станет едва ли выносимым при постановке: ну вообразите себе наших актеров молящимися, дрожащими и впадающими в экстаз. Также и внутренность крепости Грааля не может быть эффектно воплощена на сцене, равно как и раненый лебедь. Все эти прекрасные находки — для эпоса и, как было сказано, для внутреннего зрения. Речь звучит как перевод с чужого языка. Однако ситуации и их последовательность — разве это не высочайшая поэзия? Разве это не последний вызов музыки? (…)
107 Генриху
Кезелицу в Венецию [Базель, 31 мая 1878]
Дорогой друг, в юбилей Вольтера я получил две вещи; то и
другое было трогательно и волнующе. Это Ваше письмо и затем анонимная посылка
из Парижа — бюст Вольтера с карточкой, на которой значилось только «l’âme de Voltaire fait ses c
Если к Вам я добавлю еще двоих, кто действительно выказал радость по поводу моей книги, Рэ и Буркхардта (последний то и дело повторял: «Это суверенная книга»), то это может дать некоторое представление о том, какими должны стать люди, если моя книга сможет в скорейшем времени оказать значительное воздействие. Однако этого она не сделает и сделать не сможет, сколь бы жаль мне ни было при этом нашего славного Шмайцнера. В Байройте она уже угодила в опалу и похоже, что ее автору грозит бойкот. При этом, теряя меня, пытаются удержать моих друзей — в результате чего я узнаю о некоторых вещах, которые происходят и планируются за моей спиной. Прекрасную возможность проявить благородство натуры Вагнер оставил неиспользованной. Но меня это не сможет заставить изменить мое мнение ни касательно него, ни касательно себя.
(…) Рэ говорит, что подобное состояние продуктивного наслаждения ему до сих пор дарила лишь одна книга, а именно — «Разговоры <с Гете>» Эккермана… И это как раз самое лучшее, на что я мог надеяться — побуждать других к продуктивности и «приумножать в мире независимость» (как сказал Я. Буркхардт).
145
107 Эрвину Роде в Йену [середина июня 1878]
(…) Я теперь спокойно пережидаю, пока постепенно улягутся волны, в которых барахтаются мои бедные друзья. Может быть, я даже и столкнул их в эти волны, но для жизни они опасности не представляют — это я знаю по опыту. И если даже в некоторых случаях окажется, что они представляют опасность для дружбы — что ж, будем тогда верны истине и признаемся: « до сих пор мы любили друг в друге просто химеру».
Можно было бы многое сказать, держа при этом в голове еще больше несказанного. Отважусь только на одно шутливое сравнение: я похож на человека, который устроил большой пир и от которого при виде прекрасных угощений разбегаются гости. И если кто-то из гостей позволяет себе отведать хотя бы кусочек, то хозяин уже за одно это весьма признателен.
Не ломай себе голову над тем, как возникла подобная книга, а лучше продолжай пробовать одно за другим. И тогда, быть может, наступит день, когда ты с помощью своей прекрасной конструктивной фантазии посмотришь на все как целое и разделишь со мной величайшее счастье, каким я вообще наслаждался до сих пор.
Замечу попутно: ищи в моей книге лишь меня, а не друга Рэ*. Я горжусь тем, что смог открыть его замечательные свойства и цели, однако на концепцию моей «Philosophia in nuce1» он не оказал ни малейшего влияния: она была уже готова и по большей части изложена на бумаге, когда я осенью 1876 года близко познакомился с ним. Мы застали друг друга на одной и той же ступени; удовольствие, которое мы получали от наших бесед, было безграничным, польза — несомненно огромной для обеих сторон (так что Рэ с милы преувеличением надписал мне в своей книге «Происхождение нравственных восприятий» посвящение: «От матери этого труда с благодарностью — его отцу»[142].)
Возможно, после этих признаний я покажусь тебе еще чужеродней, непонятней? Если бы ты только почувствовал, как я ощущаю себя теперь, с тех пор как наконец установил свой жизненный идеал, с его свежим чистым воздухом высот и мягкой теплотой, ты бы очень, очень порадовался за своего друга. И однажды это случится.
Всем сердцем
Твой Ф.
146
*16 июня
Роде писал Н. по поводу «Человеческого, слишком человеческого»: «Мое удивление
этой новейшей ницшеане было, как ты можешь себе представить, очень велико; так,
наверное, бывает, когда из caldarium1 человека гонят прямиком в frigidarium2.
Скажу со всей откровенностью, мой друг, что удивление это было достаточно болезненным.
Возможно ли вот так вынуть свою душу и взамен впустить в себя другую? Стать
вдруг Рэ вместо Ницше? Я все еще стою в изумлении перед этим чудом, не в силах
ни радоваться ему, ни составить о нем какое-либо определенное мнение, поскольку
я этого еще просто не понимаю».
109 Матильде
Майер в Майнц [Базель, 15 июля 1878]
Уважаемая фройляйн,
тут уж ничего не поделаешь: я должен всем своим друзьям
усложнить жизнь* — именно тем, что я наконец высказываю,
каким образом я сам смог облегчить ее себе. Это метафизическое
затуманивание всего подлинного и простого, эта борьба против разума с
помощью разума, который во всем и в каждом желает видеть чудеса и вздор, а
вдобавок к этому — соответствующее барочное искусство взвинченности и возвеличенной
несоразмерности — я имею в виду искусство Вагнера: то и другое было тем, что
все больше делало меня больным и едва не похитило у меня мой темперамент и мой
дар. Если бы Вы могли ощутить, в каком чистом воздухе высот, с каким
мягким расположением к людям, которые все еще обитают во мгле долин, я живу сейчас,
с небывалой еще для меня внутренней готовностью ко всему доброму и деятельному,
ближе к грекам на сотню шагов, чем прежде; как я сейчас сам, даже в
самом малом, живу стремлением к мудрости, в то время как прежде я лишь
почитал мудрецов и преклонялся
перед ними, — словом, если бы Вы могли ощутить вместе со мной эту перемену и
этот кризис, — о, тогда бы Вы наверняка пожелали себе пережить нечто подобное!
Летом в Байройте
мне это стало совершенно понятно: после первых же спектаклей, на которых я присутствовал,
я бежал прочь в горы, и там, в маленькой лесной деревушке возник первый
набросок — примерно треть моей книги, тогда еще носившей заглавие «Лемех».
Затем
147
по просьбе моей сестры я возвратился в Байройт, но теперь я уже владел
собой, чтобы выносить трудновыносимое — молча, не открываясь
никому! Сейчас я отряхиваю с себя все, что не имеет ко мне отношения: людей — как друзей, так и врагов, — привычки, удобства, книги;
я буду жить в одиночестве многие годы, покуда снова как философ жизни созревшей
и устоявшейся не буду иметь права (но тогда уже, вероятно, и обязанности) вступить в круг людей.
Останетесь ли Вы несмотря на все это так же добры ко мне, как Вы были прежде, или, вернее, сможете ли Вы это в будущем? Видите, я дошел до такой степени честности, когда я могу выносить лишь самые чистые человеческие отношения[143]. Половинчатостей в дружбе и даже союзничества я избегаю, последователи мне не нужны[144]. Пусть каждый (и каждая) будет лишь своим собственным настоящим последователем[145].
Всем сердцем благодарно
преданный Вам Ф. Н.
*По словам Матильды Майер, книга «Человеческое, слишком человеческое»
вызвала в ней такое глубокое огорчение, что она несколько ночей не могла спать.
Думаю, будет небезынтересно привести несколько выдержек из ее письма: «Когда
дух столь совершенный, как Ваш, и притом наделенный столь ярко выраженной потребностью
в метафизическом, — когда он столь неожиданными путями приходит к заключению,
что “философия будущего будет идентична с естествознанием”,
это не может не потрясти меня до глубины души! (…) Какими трудами создавалась
безбожная религия, чтобы, пусть даже потеряв Бога, можно было сохранить божественное,
— и вот теперь Вы вытаскиваете из под нее фундамент, который, несмотря на всю
свою воздушность и туманность, был все-таки достаточно крепок, чтобы нести на
себе целый мир — мир всего того, что для нас дорого и свято.
Пускай
метафизика — лишь греза, но что есть сама жизнь без этой грезы? Впрочем, что за
дело беспощадному логику до этого вопроса? Разве может этот вопрос остановить
его на пути, которым он идет? Но разве не вправе человечество протянуть ему
бокал с ядом взамен его истины? Ведь с падением метафизического мира эта жизнь
обрела бы единоличное господство и, таким образом, тираническую власть! Так
неужели Вы думаете, что она признала бы за истиной самостоятельную ценность и
стерпела бы похищение самых своих важных иллюзий? Но тут, похоже, ничего не
поделаешь. Несмотря ни на что, Вы должны идти дальше и остановиться для Вас так
же невозможно, как камням — плавать по небу. Ваше заклинание: “Вперед!” Но
я могу лишь с огорчением смотреть на то, как Вы отбрасываете от себя все, чтобы
идти даль-
148
ше по крутой тропе, вдоль
которой кроме мимолетных радостей познания не растет уже никаких цветов! Я
слышу, как Вы говорите это: “Уберите от меня этих стенающих
женщин!” (…)
В одном важном пункте, а именно в том, что касается
воспитания, особенно женского, я смогла благодаря Вашей книге в целом что-то
для себя решить. Я часто спрашивала себя: может ли и вправе ли человек
неверующий растить детей верующими[146].
Теперь наконец я со всей определенностью отвечаю на этот вопрос утвердительно,
пусть даже идею Бога следует понимать столь широко и обобщенно, насколько это
вообще возможно! Ужасное оскудение грозило бы человеческому роду, если бы для
него оказался утрачен мир религиозных переживаний и вместе с ним — понимание
высшего и лучшего, что у них есть; прийти к этому пониманию сызнова иным
образом невозможно. (…) Мне кажется чрезвычайно важным, чтобы женщины были
религиозны. Я, утратившая веру необычайно рано, начинаю теперь придерживаться
здесь мнения до крайности консервативного, даже реакционного. Мне хочется,
чтобы женский пол любой ценой сохранил утешительные иллюзии не только ради того
влияния, которое этим может быть оказано на воспитание, но и ради блага самих
женщин. Какой надежный фундамент сохранится благодаря этому для женской души, а
следовательно, и для семьи! Поскольку любовь во всех ее обличиях образует самую
сердцевину жизни женщины, без веры ее судьба была бы куда труднее, чем мужская:
ведь без спасительного приюта веры любовь стала бы почти непрекращающейся мукой[147].
Вам покажется странным, что Ваша «Книга для
свободных умов» вызвала во мне такие страстно реакционные порывы, только лишь
усиливающиеся от мысли, что я должна последовать Вашим путем[148]. Со
страхом и ужасом я цепляюсь за все то, что для меня придавало жизни какую-то ценность,
лишь бы не отчаяться! К самому страшному для меня относится крушение вечной
идеи, которая для меня — единственная спасительная точка в череде вечного
становления! И вот Вы все это разрушаете! Все течет, ни единого прочного
образа, одно только вечное движение! Это же с ума можно сойти! Как сможет
устоять искусство среди этого дикого потока?.. И все это исходит именно от Вас,
чей авторитет был для меня в минуты скепсиса главной поддержкой!»
Письмо сопровождалось рисунком, на котором был
изображен «мудрец, выпивающий чашу с ядом и оплакивающие его женщины»[149].
149
110 Марии
Баумгартнер в Леррах — Базель, 15 ноября 1878
(…) Вы знаете, уже с давних пор я ощущаю, что «не заслуживаю всей той дружбы и любви, которую мне довелось узнать», что временами я полон досады на своих друзей, потому что не могу вернуть им должное. В этом-то все и дело: давать куда радостней, чем возвращать, но все время лишь брать, быть вынужденным брать — это может сделать несчастным. Тут ничего не изменишь, здесь все решает фатум.
111 Эрнсту
Шмайцнеру в Хемниц — Базель, 12 января 1879
Многоуважаемый господин издатель,
уже 12 января, — и до сих пор ни листа гранок? Это меня
удивляет. Вы знаете, что у Вас в авторах тяжелобольной, что мне день изо дня
приходится заранее тщательно экономить немногие имеющиеся в распоряжении
— в распоряжении моих глаз и
головы — четвертьчасовые отрезки времени?
Что за каждое отклонение от этого распорядка мне приходится
расплачиваться жестокими приступами моих болей? Что то, как обстояло с печатью
в прошлом году, является для меня мучительнейшим, болезненнейшим воспоминанием?
Я должен знать день и час, когда
прибудут гранки: пожалуйста, скажите это в типографии и введите, если это
понадобится, штрафные санкции. (…)
112 Франциске
и Элизабет Ницше в Наумбург (на открытке) [Базель, 9 февраля 1879]
…Три дня я не мог написать ни строчки, мне снова очень плохо, плохо всю неделю, хотя я сейчас не веду занятий. Но все должно наладиться. Вот только приходится слишком много думать о коллегиуме — кроме него, я не занимаюсь ровным счетом ничем…
Головные боли усилились, спазматические явления (из-за которых я вынужден по многу часов держать правый глаз полузакрытым) в некоторые дни распространяются по всему телу. Я не буду писать сейчас больше, а то мне придется за это расплачиваться. С сердечной любовью и благодарностью за все хорошее, что вы мне пишете и делаете, ваш Ф.
150
(Одиночество — это самое ценное из всей моей лечебной методы, так что не расстраивайтесь по этому поводу! Если летом мне не станет лучше, я оставлю университет).
113 Эрнсту
Шмайцнеру в Хемниц (на открытке) [Базель, 14 марта 1879]
Ах, господин Шмайцнер, господин Шмайцнер! Перепечатывать что-либо из моих писем — это то, что я отношу к числу тягчайших преступлений. Мало что может меня огорчить так, как это грубейшее злоупотребление доверием.
Относительно приложения к «приложению»1 вопрос у меня только один: для публики я и так уже фигура достаточно одиозная, так неужели Вам как издателю нужно, чтобы я был еще и смешон? Мне самому и до того, и до другого нет никакого дела. Так что я скромно интересуюсь, принесет ли это Вам какую-то пользу?
Две непостижимые ошибки в напечатанном тексте, несмотря на мою однозначную правку… дурацкое «wahrhaft»2 вместо «nahrhaft»3, отчего пропадает эффект всего отрывка. Вот Вам мое огорчение и моя досада.
114 Эрнсту
Шмайцнеру в Хемниц (на открытке) [Базель, 18 марта 1879]
Только что снова восстал из мертвых. В Венецию я поехать не смогу: мне слишком плохо. Пару дней я повторял себе все самое хорошее
и благоприятное, что о Вас знаю, дабы восстановить внутреннее равновесие. Вы —
человек способный на рискованные шаги — это тоже черта характера…
151
Ответственность
за издательскую рекламу, помещенную в книге, весь мир в равной степени возлагает и на автора книги, и смеется над его тщеславием. Как, например, в случае
с Э. фон Гартманом. В случае же с моей книгой контраст этот очень заметен:
больше всего на свете я желал анонимности.
Никакого списка опечаток*.
В наказание Вам
придется выслушать вот это: Вы напечатали одни из самых бездарных фраз,
какие я когда-либо писал1
(я был, как я теперь в точности припоминаю, болен, когда в тот раз писал Вам из
Сорренто про доктора Рэ). (…)
*Еще по поводу издания основного текста «Человеческого, слишком человеческого»
Н. 14 апреля 1878 г. писал Шмайцнеру: «Никакого списка опечаток! Это ведь не
книга для ослов».
115 Карлу
Буркхардту в Базель — Базель, 2 мая 1879
Глубокоуважаемый
господин президент!
Состояние моего
здоровья, из-за которого я уже несколько раз бывал вынужден обращаться к Вам с
прошениями, заставляет меня сегодня сделать последний шаг и выразить просьбу
разрешить мне оставить мою нынешнюю должность университетского преподавателя.
Значительно усилившиеся за это время головные боли, недееспособность вследствие
приступов, длящихся от двух до шести дней, вновь засвидетельствованное
(господином профессором Шиссом) значительное ухудшение зрения, из-за которого я
и двадцати минут не могу безболезненно читать и писать — все это в совокупности
заставляет меня констатировать, что я отныне не в силах удовлетворять своим
академическим обязанностям, более того, с этого момента не в силах их вообще
исполнять, притом, что в последние годы я уже бывал вынужден, всякий раз к
моему великому сожалению, позволять себе некоторую нерегулярность в исполнении
этих обязанностей. Это может пойти во вред нашему университету и филологическим
занятиям в нем, если я продолжу занимать должность, которой более не заслуживаю
(…)
152
116 Марии
Баумгартнер в Леррах [Базель, 7 мая 1879]
Если, уважаемая подруга, Вы хотите уделить еще полчасика страждущему и отбывающему, то приходите завтра (в четверг) в обычное время. Я тяжко страдал, все дошло до крайности, с профессурой покончено. Через несколько дней я навсегда покидаю Базель. Моя обстановка распродается. В субботу приезжает моя сестра.
Всем сердцем Ваш
Ф. Ницше
117 Франциске
Ницше в Наумбург (на открытке) [Санкт-Мориц, 23 июня 1879]
Моя милая славная мама, после трех очень скверных недель (в Визене) я наконец прибыл в свое летнее убежище. Адрес: «Санкт-Мориц в Граубюндене, Швейцария». Пожалуйста, скрой ото всех, где я нахожусь. Иначе мне придется немедленно покинуть это место, которое мне так нравится и которое оказывало на меня до сих пор действительно благотворное действие. Я не вынесу никаких визитов…
С любовью,
Твой сын.
118 Франциске
Ницше в Наумбург — Санкт-Мориц, 21 июля 1879
(…) Занятия садоводством* вполне отвечают моим желаниям и вовсе не являются чем-то недостойным будущего «мудреца». Ты знаешь, что мне близок простой и естественный образ жизни, — я все больше укрепляюсь в этом убеждении. Да и для моего здоровья не существует никакого другого лекарства. Я испытываю нужду в настоящей работе, которая требует времени и усилий и не нагружает при этом голову. Разве моему отцу не приходила мысль, что я мог бы стать садовником?..
Санкт-Мориц — единственное место, которое оказывает на меня явно благотворное влияние: день изо дня, в хорошую и в дурную погоду я благодарен его воздуху**. Нужно будет время от времени снова приезжать сюда — это мне уже ясно. (…)
153
Только вот с глазами никакого улучшения, они мен очень тревожат… Найдется ли в Наумбурге кто-нибудь, кто ежедневно в определенные часы смог бы читать мне вслух*** или записывать за мной?
С сердечной благодарностью
Твой сын.
*Речь идет о
неосуществившихся планах, которые Н., в частности, описывает в письме Кезелицу
от 30 сентября 1879 г.: «Я взял в аренду у города Наумбурга сроком, как тут
заведено, на 6 лет (!) небольшой кусок средневековой городской стены, чтобы
заниматься здесь садоводством… в крепостной башне для меня будет обустроена
длинная, очень старинного вида комнатка, где я смогу жить. У меня 10 плодовых
деревьев, розы, лилии, гвоздики, крыжовник и смородина. Весной я примусь за
работу на 10 грядках».
**К
этой, в общем-то «утилитарной» характеристике Верхнего Энгадина Н. в те же дни
в письме Паулю Рэ добавляет: «Его природа родственна моей, мы не удивляемся
друг другу — мы внутренне заодно».
***Осенью
в Наумбурге этот труд возьмет на себя сама Франциска Ницше. Среди книг, которые
она будет читать ему вслух, «Гоголь, Лермонтов, Брет Гарт, М. Твен
(«Приключения Тома Сойера»), Э. А. По» (из письма Овербеку от 14 ноября 1879
г.). О Лермонтове (очевидно, по поводу «Героя нашего времени») Н. напишет Паулю
Рэ 31 октября 1879 г.: «Совершенно чуждое мне состояние — эдакая западноевропейская
пресыщенность; описано совершенно очаровательно, с русской наивностью и
подростковой умудренностью. Разве не так?»
119 Генриху
Кезелицу в Венецию [Санкт-Мориц, 11 сентября 1879[150]]
Дорогой мой друг, когда Вы прочтете эти строки, моя рукопись будет уже у Вас в руках; пусть она сама донесет до Вас свою просьбу — я на это не отваживаюсь. И все же несколько мгновений счастья, посещающего меня при мысли о моем ныне законченном произведении, Вы должны разделить со мной. Завершается 35-й год моей жизни; «середина жизни», как говорили об этом возрасте полтысячелетия назад[151]. В 35 у Данте было видение, о котором он говорит в первых строках своей поэмы. Вот и я теперь на середине жизни так «смертью окружен», что схватить она меня может в любое мгновение. Особенность
154
моих страданий заставляет меня думать о мгновенной смерти из-за спазмов (хотя я во сто крат предпочел бы медленную, когда сохраняешь ясность ума и можешь говорить с друзьями, — будь она даже гораздо мучительней). Вот поэтому, а еще потому, что я завершил свое главное произведение, я чувствую себя сейчас в чем-то глубоким старцем. Мною выжата добрая капля масла, — это я знаю, и этого мне не забудут. В сущности, я уже испытал на деле свои взгляды на жизнь, а многим это еще только предстоит. Снова и снова возвращающиеся жестокие страдания до сих пор так и не смогли меня сломить; подчас мне даже кажется, что я настроен радостней и добродушней, чем когда-либо в жизни. И кому же мне приписать это укрепляющее, это улучшающее влияние? Не людям, поскольку все, за исключением очень немногих, «возмутились против меня» и даже не постеснялись дать мне это понять. Когда будете просматривать эту мою последнюю рукопись, дорогой друг, задавайте себе все время вопрос: можно ли в ней найти следы страдания и угнетенности. Я верю, что это не так, и уже одна эта вера служит знаком того, что в моих воззрениях заключены силы, а не бессилие и усталость, которых будут искать мои недоброжелатели.
(…) Итак, я выполнил свою летнюю программу… и ее исполнение пошло мне на благо. Однако легким оно не было! Отказ ото всего (ни друзей, ни вообще какого бы то ни было общения; я не мог читать книг; никаких художественных впечатлений; каморка с кроватью; пища аскета… этот отказ был полным, за исключением единственного пункта: я предавался своим мыслям — а что же мне оставалось делать?! Но это как раз самое вредоносное для моей головы, только вот я по-прежнему не знаю, как мне этого избежать. Словом, программа на эту зиму гласит: отдых от себя самого, от моих мыслей — отдых, которого я не знаю уже многие годы. Может быть, в Наумбурге я заведу такой распорядок дня, который принесет мне этот покой. Но сперва — «Приложение»! «Странник и его тень»! (…)
120 Генриху
Кезелицу в Венецию [Наумбург, 5 октября 1879]
(…) Вы не поверите, насколько верен я оставался до сих пор своей запланированной бездумности. И у меня есть причины хранить ей верность, поскольку «за думами притаился черт» нещадного приступа боли. Рукопись, которая Вам пришла из Санкт-Морица далась мне такой дорогой ценой, за какую ее, наверное, никто на свете, имей он
155
такой выбор, писать бы не стал. Я сейчас нередко содрогаюсь при чтении, особенно — больших фрагментов, из-за чудовищных воспоминаний. Все, за исключением нескольких строк, сочинено по пути и набросано карандашом в 6 маленьких тетрадках; от переписывания мне почти всякий раз становилось дурно. Примерно двум десяткам пространных цепочек умозаключений мне пришлось дать ускользнуть, поскольку у меня не нашлось достаточно времени, чтобы выудить их из ужасных карандашных каракулей, как это случалось у меня уже и прошлым летом. Задним числом я уже не могу восстановить в памяти взаимосвязь мыслей; мне приходится всегда выкраивать минуты и четвертинки часа «мозговой энергии», о которой Вы говорите, выкрадывать их у страдающего мозга. Пока что мне кажется, что я никогда уже этого не сделаю. Я читаю Ваш чистовик, и мне так трудно понять самого себя — настолько устала моя голова.
Соррентскую рукопись побрали черти; мой переезд и затем окончательный отъезд из Базеля произвели в некоторых вещах очень основательную чистку, что для меня сущее благодеяние, поскольку иные рукописи поглядывают на меня как кредиторы.
Дорогой друг, о Лютере я уже давно не в состоянии честным
образом сказать что-либо уважительное[152];
что следует приписать влиянию солидного собрания материалов о нем, на которые
обратил мое внимание Я. Буркхардт. Я имею в виду Янссеновскую «Историю
немецкого народа», т. II,
впервые изданную в этом году (она у меня есть). Здесь мы впервые имеем дело не
с фальсифицированной протестантской
концепцией истории, в которую нас приучили верить. В настоящий момент то, что мы
предпочитаем человека по имени Лютер Игнатию Лайоле, кажется мне не более
чем делом национального вкуса северян и южан! Это омерзительное высокомерное
завистливо-желчное грубиянство Лютера, которому бывало прямо-таки не по себе,
если он не мог выместить на ком-нибудь свою ярость, вызвало у меня слишком
сильное отвращение. Конечно, Вы правы насчет «развития европейской демократии
благодаря Лютеру», однако ясно, что этот ярый враг крестьян (говоривший,
что их надо убивать, как бешеных собак, и специально призывавший князей
зарабатывать себе царствие небесное избиением и удушением скотов-крестьян[153])
оказался поборником демократии, совершенно не желая того. (…)
156
121 Эрнсту Шмайцнеру в Хемниц — Наумбург, 18 декабря 1879
(…) Я ужасно болен, безо всякого просвета. Приступ за приступом. Я думаю бежать на юг, — возможно, на озеро Гарда. Но, быть может, уже и нет никакого юга…
Законченный «Странник» — для меня что-то почти невероятное: 21 июня я приехал в Санкт-Мориц — и вот!..
Все это «Человеческое» со своими двумя приложениями родилось в пору жесточайших и неотступных страданий, и все же видится мне вещью прямо-таки пышущей здоровьем. Это мой триумф.
Всецело преданный вам
Доктор Ницше
122 Отто Айзеру во Франкфурт — Наумбург [начало
января 1880]

(фото
— Наумбург, улица)
Дорогой господин доктор,
Сердечное спасибо! Именно в эти дни я думал о Вас, меня
тянуло снова пообщаться с Вами; нет никого, кто бы заслуживал доверия в такой
степени, как Вы. Однако прежде, чем отважиться на письмо, мне приходится
выжидать в среднем по четыре недели, пока не выдастся сносная минута, а
после этого мне еще приходится расплачиваться за свою смелость! Поэтому
простите, если с моей стороны все остается по-старому, — в молчании, но с любовью.
Мое существование — ужасное бремя, я бы давно отбросил его, если бы именно в этом состоянии страданий и почти абсолютного отречения мне не удавались поучительнейшие пробы и эксперименты в духовно-нравственной сфере. Эта жаждущая познания радость поднимает меня на высо́ты, где я одолеваю всякую муку и всякую безнадежность. В целом я счастливее, чем когда-либо в моей жизни, и все же!.. Постоянная боль, по много часов на дню ощущение полупарализованности (сродни какому-нибудь душевному заболеванию), когда речь дается мне с трудом; на смену приходят яростные приступы (последний — когда меня рвало три дня и три ночи; я жаждал смерти). Не иметь возможности читать! Писать очень редко! Не общаться с людьми! Не иметь возможности слу-
157
шать
музыку! Прогулки в одиночестве, горный воздух, молочно-яичная диета. Все прочие
средства смягчить состояние оказались бесполезны, мне больше ничего не
подходит. Холод очень вреден для меня.
В следующие недели я собираюсь на юг, буду вести прогулочное
существование.
Мое утешение — это мои мысли и перспективы. На
прогулках я то и дело корябаю[154]
что-то на бумаге, я ничего не пишу за письменным столом, друзья расшифровывают
мои каракули. Это, замечу, единственное, что они могут сделать, — не сердитесь,
прошу, даже если эти мои слова вызвали у Вас внутренний протест. (Сам я не ищу
никаких «последователей», — верите ли Вы мне в этом?[155]
— я наслаждаюсь своей свободой и желаю этой радости всем, кто созрел для духовной
свободы)…
Остаюсь преданным Вам
Ф. Ницше
Я уже несколько раз надолго терял сознание. В Базеле со мной
расстались прошлой весной. Зрение со времени последнего обследования снова
заметно ухудшилось.
123 Мальвиде
фон Мейзенбуг в Рим — Наумбург, 14 января 1880
Хотя писание превратилось теперь для меня в один из самых запретных плодов, все же еще одно письмо Вы должны от меня получить, — в знак того, что я люблю и чту Вас как свою старшую сестру. Ведь оно скорее всего будет последним. Ибо ужасная и почти не прекращающаяся пытка моей жизни заставляет меня жаждать конца, и, по некоторым признакам, спасительный удар уже достаточно близок и я могу на него надеяться. Мучения и самоограничения в последние годы сделали мою жизнь вполне соизмеримой с жизнью какого-нибудь аскета прежних времен; тем не менее за эти годы многое в душе моей прояснилось и сгладилось, — мне не нужны уже для этого больше ни религия, ни искусство (Вы заметили, что я горжусь этим; на самом деле только полнейшая беспомощность заставила меня найти свои собственные источники облегчения). Я думаю, что исполнил свой жизненный путь, — разумеется, в той мере, как тот, кому почти не было отпущено времени. Но знаю, что я выжал для многих тяжелую каплю доброго масла и что многим я подал знак к самосовершенствованию, миролюбию и правым помыслам. Я пишу Вам об этом «задним числом», — это, собственно, то, что следовало бы высказать, когда мой «земной путь» будет завершен. Ни-
158
какая боль не могла и не сможет
уговорить меня лжесвидетельствовать против жизни, какой я ее вижу.
Кому мог бы я все это высказать, если не Вам? Я думаю, — ну
не беззастенчиво ли говорить об этом? — что в наших характерах есть много
общего. Мы оба мужественны, и ни нужда, ни пренебрежение других не заставят нас
свернуть с пути, который мы признали верным. А еще мы оба пережили внутри и
вокруг нас самих нечто, сияние чего довелось видеть лишь немногим из
современников, — мы надеемся на человека и приносим самих себя в
скромную жертву, разве не так?
Есть ли у Вас добрые вести от Вагнеров? Уже три года, как я
ничего о них не слышал: они тоже покинули меня, и я давно знал, что Вагнер,
едва только заметив трещину между нашими устремлениями, расстанется со мной.
Мне рассказывали, что он пишет против меня. Пусть продолжает; тем или
иным способом правда должна выйти на свет! Я думаю о нем с неизбывной
благодарностью, поскольку ему я обязан одними из самых мощных стимулов к
духовной самостоятельности. Фрау В<агнер>, Вы
знаете это, самая очаровательная женщина, какую я встречал в своей жизни. — Но к
какому-либо общению и тем более воссоединению с ними я совершенно не готов.
Слишком поздно.
Вам, моей дорогой, по-сестрински чтимой подруге — привет от
молодого старика, который не питает злобы к жизни, хотя ему и приходится
жаждать конца.
Фридрих Ницше
124 Генриху Кезелицу в Венецию [Мариенбад, 18 июля 1880]
Мой дорогой друг, я до сих пор по несколько раз на дню вспоминаю свою приятную избалованность Венецией и еще более приятную избалованность Вами, и говорю себе только, что нельзя чтобы долго было так хорошо, и потому это совершенно правильно, что я теперь снова отшельник, прогуливающийся в одиночку по десять часов в день, пьющий свою фатальную водицу и ожидающий, когда она подействует. Одновременно я с азартом роюсь в своей моралистской шахте и кажусь себе временами при этом настоящим подземным жителем — сейчас мне видится так, будто я уже нашел ведущий к выходу путь, но тем не менее все еще должно быть сто раз обдумано и многое при этом отвергнуто. То и дело во мне звучит эхо шопеновской музыки, и благодаря Вашим стараниям я при этом всякий раз думаю о Вас и сверх всякой меры путаюсь в чувствах. (…)
159
Вы читали о пожаре в доме Моммзена? И что, возможно, погибли
его выписки, грандиозные наброски, которые делал оставшийся в живых ученый?
Говорят, он снова и снова бросался в огонь, так что в конце концов против него,
покрытого ожогами, пришлось применить силу. Такие предприятия, как моммзеновское, должно быть, очень редки; поскольку
невероятная память и соответствующая острота критической мысли, таланта к
компоновке огромного массива материалов редко соединяются в одном человеке, — скорее,
эти свойства имеют обыкновение исключать друг друга. — Когда я услышал про эту
историю, у меня просто все внутри перевернулось, я и до сих пор испытываю
физические страдания, когда думаю об этом. Что это? Сострадание? Но что мне до
Моммзена? Я ведь не испытываю к нему ни малейшего расположения.
Здесь, в затерянном среди леса «Эрмитаже», где я
отшельничаю, со вчерашнего дня творится что-то неладное: я не знаю толком, что
произошло, но над домом нависла тень какого-то преступления. Кто-то что-то
зарыл, другие это нашли, слышались ужасные вопли, прибыли жандармы, в доме был
обыск, а ночью я слышал из соседней комнаты такие тяжкие измученные стоны, что
с меня всякий сон слетел. Кажется, глубокой ночью в лесу опять что-то копали,
наткнулись на что-то неожиданное, и снова были слезы и крики. Один служащий
сказал мне, что это «история с банкнотами» — я не настолько любопытен, чтобы
знать столько, сколько, по видимости, знают все окружающие. Словом, одиночество
в лесу жутковато.
Читал новеллу Мериме «Этрусская ваза», в которой, должно
быть, описан Анри Бейль; если это так, то это, должно быть, Сен-Клер. В
целом — язвительно, аристократично и очень мрачно.
Напоследок одна рефлексия: перестаешь по-настоящему
любить себя, если перестаешь упражняться в любви к другим; посему
прекращать эти упражнения очень не рекомендую. (По собственному опыту). Всего
Вам наилучшего, мой дорогой и очень ценимый друг, пусть у Вас все будет
хорошо круглые сутки.
Преданный Вам Ф. Н.
125 Генриху Кезелицу в Венецию [Мариенбад, 20 августа 1880]
(…) Вы сделаны из более прочного материала, чем я, и вправе устанавливать для себя более высокие идеалы. Я же ужасно страдаю, когда лишаюсь чьей-либо симпатии[156]; и ничем я не могу для себя восполнить,
160
к примеру, того, что за последние годы я лишился симпатии Вагнера. Как часто он снится мне, и всякий раз это напоминает о наших прежних доверительных отношениях! Между нами никогда не было сказано ничего дурного, даже в моих снах, — но столько всего ясного, радостного, ободряющего, — и, должно быть, ни с кем я столько не смеялся вместе. Теперь это позади, и что толку быть в каких-то вещах правее него! Разве можно стереть этим из памяти утраченную симпатию? Что-то подобное мне приходилось испытывать и раньше и, вероятно, еще придется испытать. Это самые тяжкие жертвы, каких потребовал от меня мой путь в жизни и мышлении, — даже сейчас достаточно часа приятной беседы с совершенно посторонними людьми, чтобы зашаталось все здание моей философии; мне кажется такой глупостью желать быть правым ценой любви и не сметь поделиться с другим самым ценным для себя из опасения разрушить возникшую симпатию. Hinc meae lacrimae1.[157]

Я до сих пор в Мариенбаде: «австрийская погода» удерживает меня тут. Только вообразите себе, что с 24 июля здесь каждый день идут
161
дожди, иногда дни напролет.
Дождливое небо, дождливый воздух, но при этом прекрасные дорожки в лесу. Мое
здоровье при этом снова ослабло, однако в сумме я доволен Венецией и Мариенбадом.
Наверняка со времен Гёте здесь никто столько не думал, и даже сам Гёте
не впускал себе в голову таких принципиальных мыслей — я превзошел самого себя.
Однажды в лесу меня очень пристально разглядывал какой-то проходивший мимо господин,
— в это мгновение я почувствовал, что мое лицо, должно быть, прямо-таки излучает
счастье и что я уже 2 часа расхаживаю с таким выражением. Я живу инкогнито,
скромнее всех отдыхающих, и в списке гостей значусь как «господин учитель
Ницше». Здесь много поляков, и они, что удивительно, принимают меня за своего,
то и дело подходят ко мне с польскими приветствиями, и не верят, когда я представляюсь
швейцарцем. «Это же польская кровь, а вот сердце странствует Бог знает где»: с
такими словами распрощался со мной один из них, глубоко опечаленный.
(…) Получили ли Вы «Людей 18 столетия» Сент-Бёва?
Это превосходные человеческие портреты и Сент-Б<ёв>
— большой художник. Но я вижу над каждым образом еще некую дугу, которой не
видит он: это преимущество дает мне моя философия. Моя философия? Черт
меня возьми! Вас же да возьмет к себе Бог — его радуют такие, как Вы.
Преданно Ваш
Ф. Н.
126 Генриху Кезелицу (на открытке) [Генуя, 17
ноября 1880]
Ваше письмо пришло очень вовремя: как раз когда настал
первый светлый и спокойный момент после чрезвычайно мучительного непонятного
периода, когда на меня навалились все телесные и душевные недуги. О, эта
глубокая меланхолия в Стрезе!* Я напевал и насвистывал себе
Ваши мелодии, чтобы приободриться, — до того они мне запомнились! И ведь
в самом деле, все хорошее в музыке должно быть легко насвистываемо, только вот
немцы никогда не умели петь и все возятся со своими клавирами, — отсюда эта
маниакальная страсть к гармонии. — Не выдавайте никому, что я в Генуе и что останусь
здесь. Если что, скажите, прошу Вас, что я в Сан-Ремо. Я хочу наладить
себе незаметнейшее чердачное существование (я сейчас уже в четвертый раз
переехал в новое жилище)…
Генуя, до востребования.
162
* В Стрезе на озере Лаго-Маджоре Н. провел вторую половину октября, в
том числе свой день рождения: «на сей раз я забыл свой день рождения, впервые в
жизни — с чего бы это? Должно быть, голова моя слишком забита совсем другими
мыслями, а они оказывают на меня такое действие, что по десять раз на дню я восклицаю:
«что же могу я поделать?!» (это мой способ ободрить себя). Дело в том, что
очень часто я совершенно не понимаю, как примирить друг с другом мои слабости и
сильные стороны. Мое одиночество, не только в Стрезе, но и в мире идей, неописуемо…»
(из письма Овербеку от 31 октября)[158].
127 Францу Овербеку в Базель — [Генуя, вторая половина ноября 1880]

Ты, должно быть, весь в работе, дорогой друг, но несколько
слов от меня не будут Тебе большой помехой. Мне всегда так приятно представлять
себе Тебя за работой; кажется, будто некая здоровая стихия словно бы вслепую
действует через Тебя, и все же это сам разум, которому приходится иметь
дело с тончайшей и очень скользкой материей, и ему простительно выказывать
подчас нетерпение, сомнение и даже отчаяние. Я так благодарен Тебе, дорогой
друг, за то, что мне было даровано право быть свидетелем зрелища Твоей
жизни. На деле Базель подарил мне два образа: твой и Якоба Буркхардта, —
я имею в виду, что эта дружба дала мне не только пищу для ума. Достоинство и
притягательность собственного и во многом отшельнического пути в жизни и
мышлении: это зрелище, неоценимой милостью судеб, было неотъемлемой частью
моего собственного дома, и следовательно я покинул этот дом иным, нежели
вступил в него.
Сейчас все мои помыслы направлены на то, чтобы обустроить себе идеальное чердачное одиночество, при котором были бы учтены все необходимые и простейшие требования моей натуры… Ежедневная борьба с моей головной болью и умопомрачительное разнообразие моих недугов требуют такого к себе внимания, что я рискую при этом стать педантом — что ж, это противовес слишком всеохватным, чересчур возвышенным порывам, которые имеют надо мною такую власть, что без серьезных противовесов я сделался бы совершеннейшим сумасбродом. Я только что пришел в себя после жесточайшего приступа и
163
вот, едва только стряхнув
двухдневную немощь, с самого пробуждения гонюсь своим воображением за самыми
немыслимыми вещами и думаю, что утренняя заря едва ли рисовала перед
обитателями мансард более чудесные и желанные образы. Помоги мне сохранить это
уединение, не выдавай того, что я в Генуе, — я должен немалый срок прожить без
людей, в городе, языка которого я не знаю; повторяю, я должен это сделать,
— не бойся за меня! Я живу так, будто столетия — ничто, и следую своим мыслям,
не думая о датах и газетных новостях.
Я также не желаю больше иметь ничего общего с устремлениями
сегодняшнего «идеализма», особенно немецкого, — займемся каждый своим делом,
грядущие поколения так или эдак расставят нас по ранжиру, а может и не сделают
этого вовсе: главное, я хочу чувствовать себя свободным, чтобы мне не нужно
было говорить «да!» или «нет!», например, по поводу такой истинно
идеалистической книжицы, как та, что я тебе посылаю. Пусть это — сколь
трогательное, столь же и высокомерное и несказанно безвкусное — будет последним,
что я узнаю о сегодняшнем «немецком духе». Прочти ее, разумеется, вместе со
своей супругой, и Ты поймешь сам. А потом сожгите ее и, чтобы очиститься от
этой немецкой напыщенности, почитайте плутархову жизнь Брута. — Будь здоров,
дорогой друг! Поздравил ли я Тебя с Твоим днем рождения? Нет. Но себя я
с ним поздравил.
Любящий Тебя Ф. Н.
Генуя, до
востребования.
128 Франциске и Элизабет Ницше в Наумбург (на открытке) [Генуя, 24 ноября 1880]
Мои дорогие, я снова пытаюсь наладить такую жизнь, которая была бы в гармонии со мною самим, и думаю, что это, помимо прочего, еще и путь к здоровью; во всяком случае, на всех прочих путях я до сих пор своим здоровьем расплачивался. Я хочу быть своим собственным лекарем, а это подразумевает, чтобы я оставался верен себе и не прислушивался более ни к чему чуждому. Я не могу выразить, как же хорошо на меня действует одиночество![159] Не подумайте только, что это вредит моей любви к вам! Лучше помогите сохранить это мое отшельничество в тайне; лишь так я смогу во всех смыслах помочь самому себе (и, возможно, стать наконец полезным для других). Этот большой, живой приморский город, куда ежегодно приплывает более 10 000 кораблей, —
164
он дает мне покой и уединение.
Добавьте к этому мансарду с отличной кроватью, простую здоровую пищу (я все
упростил), морской воздух, столь необходимый для моей головы, прекрасно
вымощенные улицы и для ноября очень теплую погоду (к сожалению, много дождей).
Большое спасибо за прекрасное письмо.
С любовью
Ваш Ф.
Генуя, до
востребования.
129 Генриху Кезелицу в Венецию (на открытке) [Генуя, 25 января 1881]
Дорогой друг, итак я отправляю свой генуэзский корабль в плавание к Вам! Зима стала суровой, и с этого времени состояние моего здоровья изменилось к худшему — я счастлив, что расстаюсь с этой рукописью1. — Теперь я снова могу сказать: «Друг, в Ваши руки предаю я свой дух!», и даже более того: «Вашему духу препоручаю я свои руки!». Я ужасно пишу, и вижу все как в кривом зеркале. Если Вы не разгадаете моих мыслей, рукопись останется нерасшифрованной… Теперь посмотрим, будет ли «жизнь» выносимой дальше; я все же выполнил свою задачу и с чистой совестью думаю о грядущем — каким бы оно ни было!..
130 Эрвину
Роде в Тюбинген [Генуя, 24 марта 1881]
Что ж, жизнь идет своим чередом, и лучшие друзья ничего не
знают друг о друге! Да, тут требуется немалое умение, — жить и не
впадать в уныние! Как часто я бываю в положении, когда охотно бы взял «взаймы»
у своего старого бравого цветущего друга Роде, когда я отчаянно нуждаюсь в
«переливании», и не крови агнца, а львиной крови, — но он застрял в Тюбингене,
в книгах и браке, во всех отношениях недостижим для меня. Ах, друг, так
вот и приходится мне опять и опять жить «собственными запасами»: или, как знает
каждый, кто хоть раз попытался так жить, пить собственную кровь! И тут
вся штука в том, чтобы не перестать жаждать самого себя и одновременно — не выпить
себя до дна.
165
В целом я с удивлением могу констатировать, сколь много
ключей человек может заставить бить в себе. Даже такой, как я, — далеко не
самый богатый. Думаю, что если бы я обладал всеми качествами, которыми Ты
выгодно отличаешься от меня, я был бы заносчив и несносен. Даже сейчас бывают
мгновения, когда я прогуливаюсь по высотам над Генуей с таким взглядом и такими
помыслами, какие, возможно, отсюда же некогда устремлял к морю и ко всему
будущему покойный Колумб.
Что ж, именно благодаря таким вот мгновениям отваги и даже
наверное сумасбродства я должен теперь попытаться вновь привести в равновесие
свой житейский челн. Ибо ты не можешь себе даже представить, сколь многие
дни и сколь многие часы даже в сносные дни мне приходится претерпевать,
если не сказать больше. С тех пор, как благодаря «мудрости» житейского опыта
удается облегчать и смягчать кризисы организма, я делаю по видимости все, что в
моем случае можно сделать,.. но я никому не пожелал бы того жребия, к которому
я начинаю привыкать — поскольку ко мне приходит понимание того, что я дорос до
него.
Но ты, мой дорогой любимый друг, ты не в таких тисках, из
которых можно ускользнуть лишь истончившись до предела; равно как и Овербек, вы
делаете вашу замечательную работу и, не распространяясь слишком об этом,
возможно и не думая особенно об этом, собираете жатву с полудня жизни, слегка
орошая ее по́том, как я полагаю. Как бы мне хотелось
услышать о твоих планах, больших планах, — поскольку с такой головой и таким
сердцем, как у тебя, человек даже за повседневной и, возможно, мелкой работой
вынашивает нечто обширное и великое — как бы ты меня обрадовал, сочтя
возможным поделиться со мной этим. Такие друзья, как ты, должны помогать мне
поддерживать во мне веру в самого себя; и ты смог бы это сделать, посвятив меня
в свои лучшие цели и упования. Если за этими словами скрывается просьба о
письме, что ж, дражайший друг, — я бы хотел снова держать в руках что-то очень,
по-настоящему личное от тебя, — и тем самым заключать в сердце не только
лишь бывшего друга Роде, но и нынешнего и — более того — становящегося и волящего.
Да, Становящегося! Волящего!
От всего сердца
Твой
Замолви за меня словечко твоей милой супруге: она не должна
сердиться, что я до сих пор ее не знаю, — когда-нибудь я все исправлю.
Генуя (Италия)
До востребования.
166
131 Генриху
Кезелицу в Венецию [Генуя, 30 марта 1880]
(…) Говоря строго по секрету: для кого я записывал свою
последнюю книгу? Для нас: мы должны сами в себе добывать свое сокровище,
на старость! Потому, что на память рассчитывать бесполезно, я, например, почти
забыл содержание моих предыдущих произведений, и нахожу это чрезвычайно
приятным, во всяком случае куда лучше, чем если бы все прежние мысли
по-прежнему были у меня в голове и мне приходилось бы иметь с ними дело. Если
же я и имею с ними дело, то происходит это «бессознательно», как пищеварение у здоровых
людей! Короче, когда я вижу свои собственные произведения, у меня такое
ощущение, будто услышал рассказ о старом забытом дорожном приключении. А если
попробовать всю свою жизнь таким вот образом монументализировать для себя
— мне глубоко безразлично, если такое желание называется «суетным». Посуетимся
же для себя и чем больше, тем лучше! (…)
132 Генриху
Кезелицу в Венецию (на открытке) [Рекоаро1,
17 июня 1881]
(…) Я устал от жизни, прекрасное Рекоаро стало для меня
адом, я все время болен и не знаю другого такого места, которое так неблагоприятно
действовало бы на меня своей постоянной сменой погоды… Я ломаю себе голову и не
могу придумать ничего другого, как повторить опыт с Энгадином: это должно произойти
дня через четыре. Я как измученный зверь, и жажду, чтобы боль хоть немного
отпустила…
ФН.
133 Францу
Овербеку в Базель (на открытке) [Зильс-
Прости, мой дорогой хороший друг, варварство моего почерка, который никто больше не может прочесть, в том числе и я! (Зачем я позволяю печатать мои мысли? Чтобы у меня была возможность их прочесть! Прости еще и за это!). Итак:
167
Зильс
(Энгадин) до востребования.
Дело в том, что в Граубюндене есть еще другой Зильс.
Только что восставший от тяжкого двухдневного приступа и
снова верящий в жизнь
Преданно Твой и Ваш
Ф. Н.
134 Марии
Баумгартнер в Леррах [Зильс-
Дорогая уважаемая госпожа Баумгартнер, снова я шлю Вам несколько рукописных слов как предвестники или спутники слова печатного, к которому я прошу проявить Вас все Ваше участие… У каждого своя ноша; но неся ее, как бы ни обременяла она нас, мы не должны разучиваться взлетать и вглядываться в даль! Одно с другим не так уж и плохо уживается. Есть много средств, чтобы стать сильнее и широко расправить крылья: лишения и боль относятся к их числу, они — средства из арсенала мудрости. Вновь и вновь торжествующая над всеми невзгодами песнь радости — не правда ли, это жизнь! Такой она может быть!
Преданный
Ф. Н.
135 Францу
Овербеку в Базель (на открытке) [Зильс-
(…) иногда я с ужасом думаю о тех испытаниях огнем и
холодом, которым моя «прямота» подвергает самых дорогих мне людей. Что касается
христианства, верь мне в одном: в душе я никогда не был настроен к нему
пренебрежительно и с младых ногтей отдавал немало внутренних сил его идеалам —
правда, в конечном счете всякий раз приходя к сознанию их полной невозможности
для меня.
Здесь мне тоже приходится немало страдать, лето на
сей раз жарче и наэлектризованней, чем обычно, что идет мне совсем не на
пользу. Тем не менее я не знаю ничего более соответствующего моей натуре, чем
эта горная[160]
местность. (…)
168
136 Францу Овербеку (на открытке) [Зильс-
Я в изумлении, более того, в восторге! У меня есть
предшественник, и какой! Я почти не знал Спинозу: то, что меня сейчас к нему
потянуло, было «инстинктивным действием». Дело не только в том, что его
тенденция в целом та же, что и у меня — сделать познание мощнейшим аффектом, — в
пяти важнейших пунктах его учения я нахожу самого себя, этот необычнейший и
невероятно одинокий мыслитель так близок мне как раз в этих вещах: он отрицает
свободу воли; целеполагания; нравственное мироустройство; неэгоистическое; зло;
и даже если различия громадны, заложены они скорее в разнице эпох, культур,
состояния науки. In summa[161]:
мое одиночество, от которого у меня, как на высокогорье, так часто захватывало
дух и колотилось сердце, по крайней мере сейчас нашло себе товарища. (…)
137 Генриху
Кезелицу в Венецию — Зильс-
Ну что же, мой дорогой друг! Над нами августовское солнце,
год проходит, в горах и лесах — все тише и умиротвореннее. На моем горизонте
возникают идеи, подобных которым мне еще не приходилось встречать — но мне пока
не хотелось бы предавать их огласке, дабы оставаться в неколебимом душевном
спокойствии. Пожалуй, я должен прожить еще несколько лет! Друг мой,
временами меня посещает предчувствие, что я веду чрезвычайно опасную жизнь, ибо
я принадлежу к тем машинам, которые могут взорваться! Интенсивность моих
чувств вызывает у меня одновременно ужас и веселье — пару раз я не смог выйти
из комнаты по смехотворной причине — а именно из-за слишком покрасневших глаз.
Отчего? За день до того во время моих прогулок я много плакал, и это были не
сентиментальные слезы, а слезы ликования; притом я еще и пел и бормотал бессвязные
речи, преисполненный новым видением, которое открыто пока только мне одному.
В конце концов, если бы я не черпал свои силы из себя самого, если бы я должен был дожидаться призывов, одобрений, утешений со стороны, где был бы я! И кем бы я был! Действительно, были моменты и целые периоды моей жизни (например, 1878-ой год), когда слово участия или дружеское рукопожатие я ощущал как высшую отраду — и как раз здесь-то мне и изменяли все те, на кого, я, казалось бы, мог положить-
169
ся и кто мог бы оказать мне это благодеяние. Сейчас я ничего уже больше не жду и испытываю только некоторое грустное удивление, думая, например, о письмах, которые получаю в последнее время — все так незначительно, ни у кого не связано со мной никаких важных переживаний, никто не составил обо мне ни малейшего представления — все, что мне говорят, очень почтительно и благожелательно, но далеко, бесконечно далеко… Даже наш дорогой Якоб Буркхардт написал какое-то малозначащее, унылое письмишко.

Зато я воспринимаю как награду то, что этот год открыл мне
две внутренне близкие вещи — Вашу музыку и этот ландшафт[162].
Это не Швейцария и не Рекоаро, а нечто совершенно другое, во всяком
случае, нечто гораздо более южное; мне бы пришлось отправиться к плоскогорьям
Мексики на побережье Тихого океана, чтобы найти нечто подобное,… там, правда, —
еще и тропическая растительность. Так что я хотел бы на будущее заполучить
Зильс-Марию. (…)
138 Элизабет
Ницше в Наумбург [Зильс-
Моя славная Лизбет, я не решился отправить телеграмму
господину Рэ несмотря на то, что каждого, кто вклинивается в мое энгадинское
рабочее лето, то есть в стоящую передо мной задачу, в мое «одиночество-необходимость»,
я рассматриваю как личного врага. Кто-то другой, кем бы он ни был, попавший в
самое средоточие моих неудержимо и всесторонне раскрывающихся идей — меня
страшит сама мысль об этом,
170
и если я впредь не смогу
гарантировать себе одиночества, клянусь, я покину Европу на много лет! У меня
больше нет времени на то, чтобы терять время, и без того я слишком много его
уже потерял; меня мучает совесть, когда мне не удается использовать выпадающие
для работы отрезки дня. Ты даже представить себе не можешь, исполнения каких
задач я требую от себя. Довольно, подобное не должно больше повториться; у меня
есть обязательства перед доктором Рэ, которые не позволяют мне ответить ему
отказом… О моем здоровье и о том, как подобные вещи имеют обыкновение на него
воздействовать, я уж и не говорю. — Я позаботился о том, чтобы в соседнем доме,
отеле «Эдельвейс», для моего друга приготовили комнату.
С сердечной и искренней
любовью
Твой брат.
139 Франциске и Элизабет
Ницше в Наумбург (открытка) [Генуя,
21 октября 1881]
Я пишу, сидя в кафе — в моей комнатушке недостаточно света,
чтобы читать и писать (но 25 числа этого месяца я съезжаю — уже в третий раз!).
Ах, дорогие мои, все обстояло и обстоит не лучшим образом! Мне даже не хочется
говорить ни о чем в отдельности. Это бесконечная борьба изо дня в день.
Хотелось бы, чтобы Ваши благие пожелания наконец “сбылись”! Особенно —
пожелания “стойкости”. — У нас настоящая зима, ледяной дождь, сильнейший ветер,
я очень опасаюсь, что возможно предстоит суровая зима — и снова без печки. Но
их здесь нет. Пребывание в Энгадине уже подготовило меня к этому. — Представьте
себе, ко всем неурядицам этого месяца добавлялось и то, что с 8 до 12 вечера
мне приходилось покидать свое жилище (из-за звучащей по соседству ужасной
музыки). Довольно, на все это нужно терпение. Будьте и вы со мной терпеливы.
С любовью и
благодарностью.
140 Эрвину
Роде в Тюбинген (открытка) [Генуя, 21 октября 1881 года]
Дорогой дружище, поскольку за это время Ты мне не писал, я
предполагаю, что это для Тебя почему-либо трудно. Поэтому сегодня я об-
171
ращаюсь к
Тебе с сердечной просьбой, безо всяких скрытых и болезненных для Тебя
задних мыслей: не пиши мне сейчас! От этого между нами ничего не изменится, но
мне просто невыносимо ощущение, что присылкой своей книги я по-видимому
оказываю на друга какое-то давление. Что книга!? Мне предстоит сделать
нечто более важное — и если бы этого не было, я бы не знал, зачем вообще жить.
Ибо мне приходится тяжко, я много страдаю.
С любовью
Твой Ф. Н.
141 Генриху
Кезелицу в Венецию (на открытке) [Генуя, 28 ноября 1881]
Друг! Ура! Вновь довелось встретить, а именно — услышать
нечто замечательное, оперу Франсуа Бизе (кто это?) «Кармен». Впечатление, как
от какой-нибудь новеллы Мериме — остроумно, сильно, местами потрясающе.
Подлинно французский дар комической оперы, совершенно не дезориентированный
Вагнером — напротив, настоящий ученик Г. Берлиоза. Не думал, что нечто
подобное возможно! Похоже, французская драматическая музыка находится на
более верном пути. И у них большое преимущество перед немцами в главном:
страсть у них — не надуманная, не высосанная из пальца (как, например,
у Вагнера).
Сегодня я был немного болен — из-за плохой погоды, а не
из-за музыки: если б не она, возможно я чувствовал бы себя куда более больным. Хорошее
— мое лекарство! Отсюда — и моя любовь к Вам!!
142 Генриху
Кезелицу в Венецию (на открытке) [Генуя, 5 декабря 1881]
(…) То, что Бизе оказывается умер, меня поразило. Я слушал
оперу во второй раз, и снова у меня сложилось впечатление, как от первоклассной
новеллы, к примеру, Мериме. Какая страстная и чудесная душа у этой музыки! Для
меня эта вещь равноценна путешествию в Испанию — очень южная вещь! — Не
смейтесь, дружище; едва ли я до такой степени могу ошибаться в моих «вкусах». —
С сердечной благодарностью.
172
143 Генриху
Кезелицу в Венецию (на открытке) [Генуя, 8 декабря 1881]
С большим опозданием я припоминаю, что у Мериме в самом
деле есть новелла «Кармен», и что схема, идея и даже трагический вывод,
сделанный этим писателем, сохранены и в опере (вообще, либретто удивительно
хорошо). Я бы даже решился сказать, что «Кармен» — лучшая из всех существующих
опер, и покуда мы живы, она будет во всех репертуарах Европы.
Господин О. Буссе
обещает опубликовать свои мысли о «Продолжении рода человеческого» (о, я
несчастный!), а покуда (в частности) в своем открытом послании он рекомендует
бросать детей на произвол судьбы на спартанский манер. Я не нахожу в себе ни
слов, ни душевных сил, чтобы ему ответить. (…)
Странно я живу, будто на самых гребнях волн бытия — как
какая-нибудь летучая рыба. Я все время вспоминаю о Вас, мой дорогой
друг!
Ф. Н.
144 Франциске
и Элизабет Ницше в Наумбург — Генуя, 10 февраля 1882
(…) С Сарой Бернар нам1 не посчастливилось. Мы были на
первом спектакле; после первого акта она рухнула наземь, словно подкошенная.
После мучительного часа ожидания она продолжила представление, но посреди
третьего акта у нее случилось кровоизлияние, прямо на сцене — на этом все
закончилось. Ощущение было невыносимым, тем более, что изображала она того
же самого рода болезнь («Дама с камелиями» Дюма-сына). Тем не менее назавтра
и через день она снова играла, с невероятным успехом, и убедила Геную в
том, что является «величайшей из ныне живущих актрис». — Своей внешностью и
манерами она живо напомнила мне фрау Вагнер. (…)
173
145 Францу Овербеку в Базель (типоскрипт, т. е.
на печатной машинке) [Генуя, 17 марта 1882]
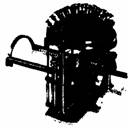
Дорогой друг, (…) весна позади: у нас стало по-летнему тепло
и по-летнему ярко. Наступила пора моего отчаяния. Куда? Куда? Куда? Мне так
неохота покидать море. Я боюсь гор и вообще всего континентального, но я должен
уезжать. Знал бы ты, какие приступы мне вновь довелось пережить! Меня теперь
рвет таким неимоверным количеством желчи, что даже самому интересно становится.
То, как газета «Берлинер Тагеблатт» осветила мое генуэзское существование, меня
позабавило — даже пишущая машинка не была обойдена вниманием. Кстати, пишущая
эта машинка — существо деликатное, как маленькая собачонка, доставляет немало
хлопот и требует заботы. Теперь моим друзьям осталось еще изобрести для меня
машинку для чтения вслух — иначе мне грозит оказаться совершенно отсталым и
лишиться всякой духовной пищи. А по существу — мне нужен секретарь, юное
существо, достаточно умное и образованное, чтобы работать со мной. Для
этой цели я готов был бы даже вступить в брак года на два (…)
146 Иде Овербек в Базель — Наумбург, на Троицу — 1882 [28 мая]
Высокочтимая госпожа профессор,
во время нашего последнего свидания я был слишком
взволнован, так что вызвал у Вас и моего друга тревогу и опасения, к которым собственно
нет ни малейшего повода — скорее, есть повод к совершенно противоположным
чувствам. В действительности судьба по счастью и как минимум к счастью
вышибла из меня всю мудрость — и разве я могу страшиться судьбы, особенно,
когда она стоит передо мною в таком нежданном облике Л<у>?
Заметьте, что преданность, которая движет мною и Рэ в отношении к нашей отважной и благородной подруге, продиктована одними и теми же чувствами, и что у нас с ним в этом пункте царит полное взаимное доверие. А ведь нас не отнесешь к числу несмышленых юнцов. — Здесь я до сих пор хранил обо всем этом полное молчание. Но похоже, что в
174
дальнейшем это уже будет ни к чему —
а именно по той причине, что моя сестра общается с госпожой Рэ. В то же время
мою мать я бы предпочел не впутывать в это дело: у нее и так достаточно забот —
к чему ей еще и ненужные?
Фройляйн Лу приедет к Вам днем в этот вторник… Прошу Вас,
высокочтимая госпожа профессор, говорите с ней обо мне совершенно свободно; Вы
ведь знаете и чувствуете, что по-настоящему нужно мне, чтобы достичь своей цели;
Вы знаете также, что я отнюдь не «дельный человек» и прискорбным образом
не поспеваю за своими лучшими намерениями. Также (и это связано с упомянутой
целью) я — злостный эгоист, и друг Рэ во всех отношениях куда лучший
друг, чем я (во что Лу не желает верить).
Другу Овербеку ни к чему присутствовать при вашей приватной
беседе? Не правда ли?
У меня все очень хорошо; все говорят, что никогда в жизни
еще не видели меня в таком радостном расположении духа. С чего бы это?
С глубокой признательностью, всецело преданный Вам
Ф. Н.
147 Лу
фон Саломе в Цюрих [Наумбург[163],
28 мая 1882]
(фото Лу — из книги с. 508 или 514)
Моя дорогая подруга, Вы написали мне именно те слова, которые были мне так нужны! Да, я верю в Вас: помогите, чтобы я всегда верил и в себя самого и был достоин нашего девиза и Вас:

«чтоб на красоту и цельность
навсегда решиться».
Мой последний план таков:
я собираюсь поехать в Берлин, в то время, когда там будете Вы, и оттуда немедленно забраться в какую-нибудь прекрасную лесную глушь, каковые имеются в окрестностях Берлина — достаточно близко от него, чтобы мы смогли встретиться, когда мы, когда Вы этого пожелаете. Берлин сам по себе для меня исключен. Итак, я останусь в «чащобе»* и буду дожидаться все то время, что Вы проведете в Штиббе1. Затем я в Вашем распо-
175
ряжении для любых дальнейших затей: возможно где-то мне встретится в лесу приличный домик лесника или священника, где Вы смогли бы провести пару дней рядом со мной. Поскольку, признаюсь в этом, мне бы очень хотелось как можно скорее оказаться с Вами наедине. Таким одиноким людям, как я, приходится постепенно привыкать даже к самым дорогим и желанным людям; будьте в этом снисходительны ко мне, или, вернее, немного пойдите мне навстречу! Но если Вам понравится путешествовать таким образом, то мы найдем неподалеку от Наумбурга еще один лесной приют… (До тех пор, пока все летние планы еще подвешены в воздухе, я поступлю правильно, если буду держать своих родных в полном неведении — не из любви к тайнам, а просто «зная людей»)** (…)
*Здесь,
по-видимому, игра слов: “Grunewald” можно
перевести как «зеленый лес» и в то же время это — название места в лесах под
Берлином, которое уже наметил себе Н., как свидетельствует его письмо от 29 мая
Паулю Рэ: «В одну из ближайших недель я собираюсь переселиться в Груневальд под
Шарлоттенбургом, и провести там столько времени, сколько Лу пробудет у Вас в
Штиббе, — чтобы затем принять ее там и сопроводить в какую-нибудь тюрингскую
глушь».
**Ответ
Лу Саломе. Гамбург, 4 июня 1882.
Дорогой друг,
сердечно жму Вам руку за
Ваше письмо, написанное на Троицу, — оно оказалось для меня первым приветствием
на гамбургской земле и я бы незамедлительно, то есть два дня назад, на него
ответила, если бы меня не приковало к постели острое недомогание. Меж тем
пришли два новых известия, которые придают нашим ближайшим планам несколько
иное направление: это письмо Рэ про его отъезд в Вармбрунн в середине июня и
несколько строк моего младшего брата с известием, что он приезжает сюда чтобы
забрать мою маму. Последнее обстоятельство сокращает наше берлинское пребывание
и удлиняет наше здешнее настолько, что мы вряд ли сможем увидеться в германской
столице. Вся моя надежда на то, что Вармбрунн окажется подходящим местом для
Вашего здоровья и что мы сможем вместе быть и работать там. Остаться надолго
вдвоем в настоящий момент невозможно: совершенно необходимо, чтобы моя
мать и брат были уверены, что я нахожусь сейчас с семейством Рэ, то есть с
госпожой Рэ. Скорее это может получиться в Байройте, но до этого еще далеко, и
хорошо бы, чтобы
176
мы
смогли встретиться в Вармбрунне. Верьте только, что если сейчас я говорю о
невозможности пребывания с Вами вдвоем, то это лишь в интересах наших же собственных
планов, дабы мы тем свободней и уверенней смогли осуществить главные наши
намерения. Всеми соображениями я подробно поделюсь с Вами при встрече, с
Овербеком я их уже обсудила и написала бы Вам про наш разговор раньше, если бы
постоянно, с самого Базеля, не была больна. Овербеки приняли меня очень радушно
и мы чудесно поболтали. Когда же только наступит радостный час, когда это
сможем сделать мы? Но — будем надеяться на лучшее.
Недавно,
когда я листала Вашу книгу, мне пришло в голову, почему все же такие люди, как
госпожа фон Мейзенбуг, относятся к Вашим взглядам с большей симпатией, чем к
взглядам Рэ, хотя Вы, если говорить с их точки зрения, худший из вас двоих.
Главное положение книги Рэ, что моральное суждение возникло, оно не было
вечным, не так уж и плохо для таких натур, как она, если только они верят в
дальнейшее развитие моральных суждений из неявного, незрелого начала — причем,
в развитие по прямой линии к некоему совершенству, к некой абсолютной морали.
Именно эту веру гораздо основательнее искореняет Ваша книга. Вы оба подобны
двум пророкам, обращенным к прошлому и к будущему, один из которых — Рэ —
вскрывает происхождение богов, а другой завершает их гибель. И все же в этом
внешне сходном стремлении заложено глубокое различие, охарактеризовать которое
лучше всего можно Вашими собственными словами. Эгоист Пауля Рэ, которого он, к
ужасу Мальвиды, демонстрирует «со всеми вытекающими последствиями» утверждает:
«наша единственная цель — удобно и счастливо устроить свою жизнь», — у Вас же
сказано где-то, что если человек должен отказаться от счастья в жизни, ему еще
остается жизнь героическая. Это глубокое различие во взгляде на эгоистическое
.., если попытаться увидеть воплощение обоих этих воззрений в вас двоих,
придает одному черты эгоиста, другому же — героя.
Я
вижу, что пишу на сей раз едва ли для Ваших глаз — это из-за того, что
подставкой для письма мне пришлось сделать подушку. «Утренняя заря» — мой
единственный собеседник. Но в постели они позволяет развеяться лучше, чем все
визиты, хлопоты и дорожная пыль.
Мне
хочется сказать: до скорого свидания. Оставайтесь только так же бодры и
здоровы, и всё будет хорошо. Мы умелые путешественники и отыщем путь даже по
бездорожью.
Ваша
Лу».
177
148 Францу
Овербеку в Базель [Наумбург, 5 июня 1882]
Мой дорогой друг,
я уже несколько дней болен, у меня был чрезвычайно мучительный
приступ. Очень медленно прихожу в себя. И вдруг — твое[164]
письмо! — Подобные письма получаешь лишь раз в жизни, я благодарю тебя от всего
сердца и никогда этого не забуду. Я счастлив, что моя затея, которая
непосвященному взгляду может показаться совершеннейшей химерой, в тебе и
твоей супруге встретила всецелое человеческое и дружеское понимание. На
самом деле в том, как я собираюсь и буду здесь действовать, я в полной мере
верен своим идеям, причем сокровеннейшим, — это согласие вызывает во мне такую же
радость, как образ моего генуэзского существования, опыт которого был тоже
продолжением моих идей, не отставал от них. Множество моих жизненных тайн
вплетено в это новое будущее, и мне предстоит здесь решать такие задачи,
которые могут быть решены только действием. Я настолько «препоручаю себя богам»[165],
— я называю это amor fati1 — что я
бы прыгнул в пасть льву, не говоря уж [– – –]
Касательно лета все еще в полнейшей неопределенности.
Я здесь по-прежнему ни о чем не распространяюсь. Касательно
моей сестры я полон решимости ни во что ее не посвящать; она может все только
запутать (и себя саму в первую очередь)…
Всем сердцем преданный тебе и твоей дорогой супруге
Ф. Н.
149 Лу
фон Саломэ в Берлин [Наумбург, четверг, 15 июня 1882]
Моя дорогая подруга,
вот уже полчаса как мне грустно, и уже полчаса я спрашиваю
себя: отчего? — и не нахожу никакой другой причины, кроме только что
полученного в Вашем драгоценном письме известия, что мы не увидимся в
Берлине.
А теперь судите сами, что я за человек! Итак, завтра утром, где-то в 11.40, я буду в Берлине, вокзал Анхальтер. Мой адрес: Шарлоттенбург под Берлином, до востребования. Мои намерения при этом: 1) [– – –] и 2) через несколько недель иметь возможность сопроводить Вас в Бай-
178
ройт,
если, разумеется, Вы не изберете себе лучшего спутника. — Это называется — внезапная
решимость! (…)
С сердечным приветом
Ваш друг Н.
150 Паулю Рэ в Штиббе — Наумбург, воскресенье,
при ясной погоде. [18 июня 1882]
Мой дорогой старый друг, эта немецкая облачная погода
обрекла меня на вялотекущую хворь, так что временами даже мой рассудок изменял
себе, допуская настоящие безрассудства; свидетельство тому (…) — моя поездка в
Берлин с тем, чтобы повидать Лу и Груневальд; достиг я, однако, лишь
последнего — с тем, чтобы немедля с этим местом и распрощаться. На следующий же
день я отправился обратно в Наумбург — полуживой…
Несмотря на все это я полон доверия к этому году и к
таинственному жребию, который он вытянул для моей судьбы.
Я не еду в Берхтесгаден, и вообще я более не в состоянии предпринимать
что бы то ни было в одиночку. В Берлине я был как потерянный грош,
которой я там сам же и обронил, и из-за своего зрения не мог разглядеть, что он
лежит у меня прямо под ногами, — над чем смеялись все прохожие.
Сравненьице! (…)
151
Лу фон Саломе в Штиббе [[166]Таутенбург,
26 июня 1882 г.]
Мой дорогой друг,
в получасе пути от Дорнбурга, где наслаждался одиночеством старый Гете, посреди великолепных лесов лежит Таутенбург[167]. Здесь моя милая сестрица устроила для меня идиллическое гнездышко, которое станет моим убежищем на это лето. Вчера я вступил во владение им; завтра моя сестра уезжает, и я останусь один. Однако у нас есть одна договоренность, которая может снова привести ее сюда. Если, паче чаяния, Вы не найдете лучшего применения месяцу августу и посчитаете для себя приличным и удобным пожить здесь со мной среди лесов, тогда моя сестра сопроводит Вас из Байройта сюда и Вы сможете
179
поселиться с ней
вместе под одной крышей (например у пастора, где она сейчас живет: в местечке
достаточно милых скромных комнат).
Моя сестра (Вы можете расспросить о ней Рэ) будет в это время нуждаться в уединении, чтобы высиживать свои маленькие новеллы. Мысль о том, что она будет при этом вблизи от Вас и от меня, ей чрезвычайно приятна. — Да! Будем искренни до последнего, «до самой смерти»! Мой дорогой друг! Я ничем не связан и могу изменить свои планы, если Вы что-то планируете, с легкостью. Если же мне не суждено быть вместе с Вами, то просто скажите мне об этом — и Вам незачем мне что-то объяснять! Я Вам полностью доверяю: но это Вы и так знаете.

Если мы друг другу подходим, то и наше здоровье обретет
равновесие и во всем этом должен обнаружиться тайный смысл. Я до сих пор не
думал о том, что Вы могли бы мне «читать вслух и записывать»; однако стать
Вашим учителем было бы для меня желанной честью. Итак, чтобы быть до конца
искренним: я ищу сейчас людей, которые могли бы стать моими наследниками;
что-то я ношу в себе, чего нельзя почерпнуть из моих книг — и стремлюсь обрести
для этого самую прекрасную и плодородную почву.
Вот такой я эгоист!
Когда я думаю об опасностях, угрожающих Вашей жизни, Вашему здоровью, моя душа переполняется нежностью; я не знаю, что еще могло бы так сблизить нас. И тогда мысль о том, что не только я, но и Рэ
180
является Вашим другом, неизменно
делает меня счастливым. Для меня истинное наслаждение представлять себе ваши
совместные прогулки и беседы.
Груневальд был слишком солнечным для моих глаз.
Мой адрес: Таутенбург под Дорнбургом, Тюрингия.
Всегда Ваш верный друг
Ницше.
Вчера здесь был Лист.
152 Генриху
Кезелицу в Венецию [Таутенбург, 13 июля 1882 г.]
(…) То стихотворение «К боли» принадлежит не мне. Это одна
из тех вещей, которые обладают надо мной полной властью, мне еще никогда не
удавалось прочесть его без слез; как будто звучит голос, которого я бесконечно
ждал с самого детства. Это стихотворение моего друга Лу, о которой Вы еще не
слышали. Лу — дочь русского генерала, ей двадцать лет; она зорка, как орел, и
храбра, как лев, при этом она еще совершенный ребенок, которому, может быть, не
суждено жить долго. Знакомством с ней я обязан фройляйн фон Мейзенбуг и Рэ.
Сейчас она в гостях в семье Рэ, после Байройта она приедет ко мне в Таутенбург,
а осенью мы вместе переедем в Вену. Мы будем жить в одном доме и вместе
работать; ее чуткость к моему способу мыслить и рассуждать поразительна.
Дорогой друг, я уверен, что Вы окажете нам такую честь и
исключите понятие влюбленности из наших отношений. Мы друзья, и для меня
неизменно святыми остаются эта девушка и ее доверие ко мне. В любом случае, у нее
столько уверенности и такой сильный характер, она очень хорошо знает, чего
хочет — невзирая на мнение всего света и не заботясь о нем.
Все это должно остаться между нами. Если же Вы будете
в Вене, это было бы чудесно!
Итак, кто же мои самые драгоценные находки? Вы — потом
Рэ — потом Лу.
Ваш верный друг Ф. Н.
181
152
Эрвину Роде в Тюбинген — «Таутенбург
под Дорнбургом, Тюрингия», [середина июля 1882]
Мой дорогой старый друг, ничего не поделаешь, сегодня мне
придется подготовить тебя к своей новой книге: покойной жизни без нее тебе
осталось от силы четыре недели. Смягчающим обстоятельством для меня служит то,
что она должна стать последней на изрядное количество лет — поскольку осенью я
отправляюсь в венский университет, чтобы сызнова начать годы учения после того,
как предыдущие, из-за чересчур однобокой филологической специализации, не
слишком-то мне удались. Сейчас у меня есть собственный план обучения и за ним
стоит моя собственная тайная цель, которой посвящена дальнейшая моя
жизнь — скажу тебе откровенно, мой старый товарищ, жизнь будет для меня невыносимой,
если я дам себе хоть какую-то поблажку в служении этой цели! Без цели,
которую я не полагал бы невыразимо важной, я не продержался бы здесь, на свету,
над темными водами! Это собственно единственное, что извиняет меня за
тот род литературы, который я произвожу с 1876 года: это мой рецепт и мое
собственноручно изготовленное лекарство против усталости от жизни. Что за годы!
Какие затяжные мучения! Какие внутренние помехи, перевороты, что за
одиночество! Кому, в конце концов, пришлось вынести столько, как мне? Леопарди —
наверняка нет! И если сегодня я стою надо всем, торжествуя как
победитель, и нагруженный новыми тяжелыми планами, и еще — благо я себя
знаю — предвидя новые тяжкие и еще более глубокие страдания и трагедии, и
приветствуя их то никто не вправе досадовать, что я столь высокого мнения о
своем лекарстве. (…) Я во всем был своим собственным врачом, и поскольку во мне
ничто не существует по отдельности, мне приходилось лечить душу, дух и плоть
разом и одними и теми же средствами. Тут еще стоит добавить, что другие от этих
моих средств могли бы и погибнуть; поэтому я с исключительной добросовестностью
предостерегаю от себя. Так и эта последняя книга, носящая название «Веселая
наука» отпугнет от меня многих, быть может, и Тебя, дорогой друг Роде! В ней
запечатлен мой образ, и я знаю наверняка, что это не тот образ, который
Ты носишь в своем сердце. (…)
Твой
Ницше.
[здесь неразборчивая надпись по центру: «…а, утром… мысль»]
182
154 Лу Саломе в Таутенбург — Таутенбург, 8/24
августа 1882
1.
Люди, стремящиеся к величию, как правило, злые люди; — для
них это стремление — единственный способ выносить самих себя. (…)
4.
Непомерные ожидания, которые женщины связывают с плотской
любовью, не позволяют им заглянуть дальше.
5.
Героизм — это настрой человека, преследующего цель, которая
ему не по силам. Героизм — это добрая воля к тому, чтобы погубить себя без
остатка.
6.
Противоположность героического идеала — идеал гармоничного
всестороннего развития; противоположность прекрасная и достойная того, чтобы к
ней стремиться. Однако этот идеал годится лишь для насквозь здоровых людей
(Гете, например).
Любовь для мужчины — нечто совершенно иное,
чем для женщины. Для большинства она, пожалуй, своего рода алчность, для некоторых
же мужчин любовь — поклонение страдающему, сокрытому пеленой божеству.
Если бы друг Рэ это прочел, он бы мною восхитился.
Как Вы? Здесь в Таутенбурге еще не было такого прекрасного
дня, как сегодня. Воздух чист, мягок и свеж — таков, какими пусть будем и все
мы.
Ф. Н.
155 Лу
Саломе в Таутенбург (посвящение) Таутенбург, 8/24 августа 1882 — Лето 1876
Возврата нет? И нет пути?
Да тут и серне не пройти!
[нрзб.] Ждать, намертво вцепившись, здесь,
И видеть только то, что есть.
183
Пять пядей тверди, час рассвета,
А там, внизу — мир,
смерть и Лета.
Ф. Н.
Моей возлюбленной Лу. Лето 1882
156 Генриху Кезелицу в Венецию [Таутенбург,
20 августа 1882]
Мой дорогой друг,
пришла «Веселая наука»; я сейчас же отправляю Вам первый
экземпляр. Кое-что будет для Вас ново: во время последней корректуры я изменил
некоторые места и кое-что, надеюсь, улучшил. Прочтите, к примеру,
окончания 2-ой и 3-ей книг; о Шопенгауэре я также сказал более
выразительно (к нему и к Вагнеру я, возможно, уже никогда не вернуть в
своих произведениях, я должен был зафиксировать свою позицию сейчас, имея при
этом в виду и свои прежние воззрения — ведь в конечном счете я учитель
и потому обязан сказать, в чем я остался тем же, а в чем стал другим).
Сделайте некоторые пометки к тому или иному фрагменту, дорогой друг. А также к целому
и всему настрою: передается ли он? А конкретнее: понятен ли
вообще Святой Януарий? После всего, что я пережил после того, как снова общаюсь
с людьми, у меня чудовищные сомнения на этот счет! Я не думал, что
возможна такая степень чуждости и безразличия к тому, что является для меня
самым важным, включая меня самого, — но все мои «друзья» оказались в этом
совершенно одинаковы. Кто, казалось бы, относится ко мне с большей любовью, чем
добрейшая Мейзенбуг? — но вот и она пишет мне теперь о своей уверенности в том,
что когда я «достигну своей вершины, то с радостью возвращусь снова к Вагнеру и
Шопенгауэру». А Шмайцнер в отношении «Заратустры» высказывается в том смысле,
что «судя по последнему номеру Вашей новой книги, книготорговцы могут
радоваться тому, что снова получат от Вас книги «для публики»; это может подстегнуть
и сбыт Ваших старых книг».
Жалостная картина [– – –]!
И это, как сказано, не исключения, а правила…
Однако, дорогой друг, мне все это уже по силам, и за это время пребывания среди призраков мое мужество не оскудело. — Удивительно! Так
184
ведь я вроде чувствительнейший
человек, но в том, что касается мнения обо мне, проявляю сейчас ослиное
терпение! И чем это объяснить?
Будьте счастливы! Нам не следует ожесточаться на жизнь, но —
все более становиться теми, кто мы есть: «радостно-наученными»1.
Лу еще неделю останется у меня. Она самая умная из всех
женщин. Каждые пять дней у нас разворачивается какая-нибудь трагическая
сценка. — Все, что я писал Вам о ней — вздор, в том числе, возможно, и то, что
я написал только что.
Всем сердцем преданный
и благодарный Вам Ф. Н.
157 Лу фон Саломе в
Таутенбурге (записка) [Таутенбург, 25 августа 1882]
В постели. Тяжелейший приступ. Я презираю жизнь.
Ф. Н.
158 Лу
фон Саломе в Таутенбурге (записка) [Таутенбург, 26 августа 1882]
Моя дорогая Лу,
простите за вчерашнее! Острейший приступ моей дурацкой головной боли — сегодня уже всё позади.
И сегодня я вижу некоторые вещи новыми глазами.
Часов в 12 я отвезу Вас в Дорнбург, но до этого мы должны еще поговорить с полчасика (вскоре — то есть, когда вы подниметесь). Да?
Да!
Ф. Н.
185
159 Паулю Рэ в Штиббе [Наумбург, конец августа
1882 года]
Мой дорогой друг,
я вспоминаю, что несколько раз ломал себе голову над тем,
почему с того самого момента, как Лу приехала к Вам в Штиббе, Вы не написали
мне ни единого письма. Теперь уже я, вовсе не намереваясь подражать, в подобном
случае повел себя точно так же — и притом уверен, что Вы над моим
поведением голову не ломаете. Написать о Лу невозможно, хоть бы это и
было «о ее даре» (что тоже было бы лишь способом ничего не написать о ней). Посмотрим,
получится ли у нас когда-нибудь поговорить о ней!
А впрочем во всей этой истории я вел себя сообразно своей личной
морали, и поскольку я не делаю ее законом для других, то не вижу ни
малейшего повода ни для того, чтобы меня хвалили, ни для того, чтобы порицали —
еще один резон не писать писем.
Попала ли уже к Вам в руки «Веселая наука» — самая личная
из всех моих книг? Учитывая, что все очень личное оказывается довольно-таки комичным,
я на самом деле ожидаю от нее «веселящего» действия[168].
И прочтите непременно хоть раз целиком «святого Януария»! Там прописана вся моя
личная мораль как сумма условий моего существования, которые делают для
меня объектом долга объект желания…
Адье, дорогой дружище! И пусть для
Вас тоже будут «все переживания полезны, все дни святы и все люди божественны» —
как это сейчас чувствую я.
С самыми сердечными пожеланиями
Ваш Ф. Ницше.
160 Лу
фон Саломэ в Штиббе — [Наумбург, конец августа 1882 года]
Моя дорогая Лу,
на день позже Вас я уехал из Таутенбурга, чувствуя в душе
гордость и отвагу — из-за чего, собственно?
Со своей сестрой я говорил совсем недолго, однако достаточно
для того, чтобы отправить начавшую было возникать новую химеру в небытие, куда
ей и дорога.
В Наумбурге мною вновь овладел демон музыки — я сочинил «Молитву к жизни», и моя парижская подруга Отт, обладательница пора-
186
зительно
сильного и выразительного голоса, однажды непременно исполнит ее для нас с
Вами.
И под конец, моя дорогая Лу, снова обращаюсь к Вам с моей
самой глубокой, самой заветной просьбой: станьте самою собой! Сперва
нужно освободиться от своих цепей, но в итоге нужно освободиться
и от этого своего освобождения! Каждому из нас, пусть и самыми разными путями,
предстоит потрудиться над нажитой в цепях болезнью, даже после того, как
он разбил эти цепи.
От всей души благоволящий
Вашей судьбе — ибо в Вас я люблю
еще и мои надежды.
Ф. Н.
161 Эрнсту
Шмайцнеру в Хемниц [Наумбург, начало сентября 1882 года]
Многоуважаемый господин издатель,
(…) Что касается моей последней книги, то я гарантирую Вам
ее долговечность среди изменчивых вкусов и течений. Я пишу только о том,
что пережито мною, и умею это выразить — а такие книги остаются «навсегда».
(…)
С сердечными пожеланиями Ваш
доктор Ницше.
162 Паулю
Рэ в Штиббе [Лейпциг, предположительно 15 сентября 1882 года]
Мой дорогой друг,
я полагаю, что мы оба и мы трое достаточно умны, чтобы быть
и оставаться добрыми друзьями. В этой жизни, в которой люди вроде нас легко
становятся привидениями, внушающими всем страх, надо радоваться друг другу и
пытаться радовать друг друга; так призовем же всю нашу изобретательность
— что касается меня, то я еще должен этому поучиться, ведь я был так долго
изолированным от всех чудищем.
Моя сестра между тем со всей силой обратила против меня свою врожденную враждебность, которую прежде срывала на нашей матери.
187
В письме к ней она объявила, что рвет со мной всякие отношения — из отвращения к моей философии и «потому, что я люблю зло, а она — добро», и тому подобные глупости. Меня самого она осыпала насмешками — а ведь правда заключается в том, что всю жизнь я был с ней слишком терпелив и мягок, хотя бы из простой вежливости к ее полу. Должно быть, это ее избаловало. «За добродетели тоже надо расплачиваться», как сказал мудрый святой Януарий из Генуи.

Завтра я напишу нашей дорогой Лу, моей сестре*
(после того как я потерял сестру по естеству, должна же мне быть ниспослана
сестра сверхъестественная). И до свидания в начале октября в Лейпциге!
Ваш друг Ф. Н.
*В середине
сентября Пауль Рэ отвечает: «Своим портретом и письмом Вы доставили нам всем —
моей маме, Вашей сестре Лу и мне — такую невероятную радость, что я должен не
медля ни минуты высказать Вам это. На самом деле, именно теперь и теперь уже
навеки ничто не сможет нас разлучить, поскольку мы соединились в третьем,
которому мы в свою очередь подчинены — не без некоторого сходства со
средневековыми рыцарями, но с лучшими основаниями, чем были у тех».
163 Готфриду
Келлеру в Цюрих — Лейпциг, Ауэнштрассе, 26, 2-й этаж.] 16 сентября 1882 года.
Высокочтимый муж,
я хотел бы, чтобы Вам откуда-нибудь уже было известно, что́
Вы для меня — очень почитаемый муж, человек и художник. Тогда бы сегодня мне не
пришлось просить извинения за недавно отправленную Вам книгу*.
Возможно, эта книга, несмотря на свое веселое название,
огорчит Вас. Но поистине, никого не хотелось бы мне огорчить менее, чем Вас,
дарителя радости! Я отношусь к Вам с такой благодарностью!
Сердечно Ваш доктор Фридрих Ницше
(бывший профессор
Базельского университета и на три четверти швейцарец).
188
*Это письмо,
сопровождавшее отправленную швейцарскому писателю книгу «Веселая наука»,
интересно, прежде всего, ответом Келлера на него: «Высокочтимый господин
профессор! Примите мою сердечную благодарность за Ваше литературное послание и
подарок с той же благосклонностью, с какой Вы письменно сопроводили оные. Хотя
я сознаю, что мало чем заслужил Вашу щедрую доброжелательность и не особенно ей
соответствую, лишь местами знаю Ваши прежние произведения, да к тому же местами
нахожусь с ними во внутреннем противоречии, все же помимо этого остается более
чем достаточно, чтобы гордиться выраженной Вами благосклонностью. “Веселую науку” я один раз уже просмотрел и как раз сейчас вновь с
сосредоточенным вниманием читаю эту книгу; нахожусь еще, однако, на данный
момент в положении старого дрозда, который в лесу видит свисающие со всех
ветвей силки, куда он должен совать голову. И все же симпатия растет, и я надеюсь
подойти к идее этого произведения настолько близко, насколько это позволит мое
легкомысленное ремесло новеллиста.
В качестве скромного
результата прочтения позвольте мне не оставить обойденным одно мое небольшое
замечание или наблюдение. В высшей степени интересном[169]
рассуждении о драматической дикции и т. д. (параграф 80) идет такое место: “где жизнь приближается к бездне и где действительный
человек чаще всего теряет голову и уж во всяком случае красноречие”. Я же среди людей низкого или простого происхождения
наблюдал почти что противоположность этому и обнаружил, что простой
крестьянский и рабочий люд, если они не погрязли в низости и вульгарщине, но
действительно очутились в бедственном положении, нередко вместе с возрастанием
душевных страданий и противостояния опасности прибавляют и в силе,
продуманности и уместности выражения в своих речах, без всякого осознания того
и представления о том, что ситуация для них это исключает. Это распространяется
даже и на физические страдания. В молодые годы я видел однажды на операционном
столе в хирургической клинике одного старика из низшего сословия, которому
обпиливали его больной костяк. Уже в начале, пока его раздевали и перевязывали
сосуды, он, стеная и охая, жаловался на боль; однако, когда пошла пила и
страдания возросли, жалобы становились громче и громче, но все артикулированней,
так сказать, оформленней и достойней. Не беспорядочный крик, не отвратительные
взвизгивания, но все явственно произносимые слова, а охи и ахи в промежутках
хотя и ноющие, но звучащие на излете все сдержанней. Правда, большинство людей
ведет себя, быть может, не столь стилистически выдержанно, sit venia verbo1,
189
однако
именно театр, трагедия должны ведь следить за стилем, коль скоро он есть в
природе.
Однако
я не хочу более надоедать Вам этими вещами и уж во всяком случае учинять
какого-либо рода критический разбор. Я просто предался воспоминанию.
Почтительнейше
преданный Вам
Готфр.
Келлер».
164 Лу
фон Саломэ в Штиббе — [Лейпциг, предположительно 16 сентября 1882]
Моя дорогая Лу, Ваша идея редукции философской системы к
личностным интенциям ее создателя — это поистине «сестринская идея». Я сам в
Базеле именно в этом смысле освещал историю античной философии и, в
частности, говорил своим слушателям: «Та система опровергнута и мертва, — но
стоящая за нею личность неопровержима, личность вообще невозможно
умертвить» — к примеру, личность Платона.
Я прилагаю Вам сегодня письмо профессора Якоба Буркхардта, с
которым Вам однажды следует познакомиться. В его личности тоже есть нечто
неопровержимое; но поскольку он в полном смысле слова настоящий историк
(величайший из живущих ныне), он никак не может удовольствоваться именно этой,
навеки присужденной ему сущностью и личностью; ему ужасно хочется глядеть еще и
другими глазами, к примеру, как явствует из этого странного письма,
моими. Кстати, он верит в свою скорую внезапную смерть, от апоплексии (фамильная
предрасположенность); возможно, ему хотелось бы видеть меня своим преемником в
университете? — Но моей жизнью уже распорядились. (…)
Что касается Вашей «Характеристики самой себя», которая, как Вы пишете, правдива, то мне вспомнились стишки из моей «Веселой на-
190
уки», с.
10, с заголовком «Просьба»1. Вы
догадываетесь, моя дорогая Лу, о чем я прошу? Но ведь сказал же Пилат: «Что
есть истина!».
Вчера днем я чувствовал такое счастье; небеса были синими,
воздух мягким и чистым, я был в Розентале, куда меня завлекла музыка «Кармен».
Там я сидел 3 часа, второй раз за этот год пил коньяк, в память о первом (ух!
какой же дрянной вкус у него был!) и самым невинно-проницательным образом
размышлял о том, нет ли у меня какой-либо предрасположенности к помешательству.
В конце концов я сказал себе: «Нет». Затем зазвучала музыка «Кармен», и на
полчаса я потонул в слезах и сердечной стукотне. — Когда Вы это прочтете, вы в
конце концов скажете: «Да!» и сделаете пометку в «Характеристике самой
себя».
Приезжайте же, поскорее приезжайте в Лейпциг! Почему
только 2 октября? Adieu, моя
дорогая Лу!
Ваш Ф. Н.
165 Лу
Саломе, предположительно в Берлин — Лейпциг, Kali phosphor. 8 ноября 1882
Дорогая Лу, всего несколько строк (у меня болят глаза).
Я позаботился о Вашем петербургском письме. Два дня назад я
также написал Вашей матери (и довольно обстоятельно)…
Какая грусть!
До этого года я и не знал, насколько я подозрителен. В
первую очередь — к самому себе. Общение с людьми испортило мне отношения с
самим собой.
Вы хотели сказать мне что-то еще?
Ваш голос нравится мне больше всего, когда Вы просите. Но
услышать это можно не часто.
Я буду стараться [– – –]
Ах, проклятая меланхолия! Я пишу вздор. Как мелки для
меня теперь люди! Где же мне найти море, в котором действительно можно утонуть!
Я говорю о человеке.
Моя милая Лу,
остаюсь преданный Вам
Ф. Н.
(Рэ и госпоже Рэ самый сердечный привет!)
191
166 Паулю
Рэ, предположительно в Берлин [Санта-Маргерита, предположительно 23 ноября 1882]
Но, дорогой мой, драгоценный друг, я полагал это вызовет в
Вас совсем иные чувства, и Вы будете радоваться про себя тому, что
проведете некоторое время без меня! В этом году можно насчитать добрую
сотню мгновений, начиная с самой Орты1,
когда я ощущал, что дружба со мной дается Вам «чересчур дорогой ценой». Я уже
более чем достаточно натерпелся от Вашей римской находки (я имею в виду
Лу), и мне все время, особенно в Лейпциге, казалось, что Вам стоило бы быть
более сдержанными в речах по моему поводу. Постарайтесь, дражайший друг, думать
обо мне хорошее, и попросите о том же Лу. Я связан с Вами обоими самыми
сердечными чувствами, — и думаю, что доказал это своим уходом больше, чем своей
близостью.
Всякая близость делает ненасытным — что же до меня, то я
вообще человек ненасытный.
Мы ведь будем видеться время от времени, не правда ли? Не
забывайте, что с этого года я внезапно стал беден любовью[170],
и следовательно очень нуждаюсь в любви.
Напишите мне что-нибудь без обиняков о том, что для
нас сейчас важнее всего, — что, как Вы пишете, «стоит между нами».
С любовью
Ваш
Ф. Н.
NB. Я так нахваливал Вас в Базеле, что фрау Овербек сказала:
«Ну Вы прямо расписываете Даниэля де Ронда!». Кто такой Даниэль де Ронда?
167 Лу
фон Саломэ, предположительно в Берлин — Санта-Маргерита Лигуре (Италия) [предположительно
24 ноября 1882]
Моя дорогая Лу,
прилагаемое к этому письмо я вчера написал для Рэ, но когда я уже собирался отнести его на почту, мне кое-что пришло в голову, так что
192
я снова переписал
адрес на конверте. Это письмо, касающееся Вас одной, возможно доставило бы Рэ
еще больше затруднений, чем Вам; короче, прочтите его, Вам решать, следует ли
его прочесть и Рэ. Прошу Вас воспринять это как знак доверия, моей искренней
воли к доверию между нами!
А теперь Лу, драгоценная моя, расчистите небо! Я не хочу
больше ничего, ни на йоту больше — ничего, кроме чистого неба, а уж со всем
остальным я как-нибудь перебьюсь, как бы сурово мне не приходилось сейчас. Но
одинокий ужасно страдает, подозревая двоих, которых он любит — особенно если он
подозревает в них недоверие к самой его сущности. Почему до сих пор нашим
отношениям не хватало ясности, бодрости? Потому что я должен был совершать слишком
много насилия по отношению к себе: облако нашего горизонта было моим облаком!
Вы, может быть, уже знаете, как невыносимы для меня любое
желание пристыдить, любые упреки, любая вынужденная защита. Делаешь много
несправедливого, это неизбежно, но ведь при этом обладаешь и божественной силой
уравновешивать, осчастливить, привнести мир и покой.
Я чувствую в Вас каждое движение высшей души, я не люблю в
Вас ничего, кроме этих движений. Я бы легко отказался от любой близости, если
бы только мог быть уверенным именно в этом — что мы чувствуем одно там, куда
нет пути низким душонкам.
Мои речи темны? Если бы я только мог довериться, то
Вы бы узнали, что у меня есть и слова. До сих пор мне все время
приходилось молчать.
Дух? Что мне дух?! Что мне познание?! Я не ценю ничего,
кроме инстинктов — и я готов поклясться, что в этом у нас есть нечто
общее. Посмотрите же сквозь этот этап, в котором я живу уже несколько
лет — взгляните на то, что за ним! Не стройте иллюзий на мой счет. Не думаете
же Вы, что «вольный дух» — мой идеал? Я —
Простите! Драгоценная Лу, будьте той, кем Вы должны
быть.
Ф. Н.
168 Эрвину
Роде в Тюбинген [Рапалло, начало декабря 1882 года]
Мой дорогой друг,
вот и опять я на юге; я по-прежнему не могу выносить
северное небо, Германию и «людей». За это время у меня было много всего
болезненного и меланхолического.
193

В твоем[171]
долгожданном письме, заставшем меня в Санта-Маргерите, одна вещь необычайно
меня порадовала: это то, что ты говоришь о концентрирующей работе над главным
трудом. На самом деле в душе я досадую на всех моих друзей, пока не получаю
от них никаких свидетельств того, что они взялись за главное. Мы должны
вкладываться во что-то целое, иначе множество незначительных целей раздробит
нас на осколки (…)
Что касается меня, драгоценный друг, то именно сейчас ты
рискуешь впасть относительно меня в заблуждение. Хорошо, пусть у меня есть «вторая
натура», но не для того, чтобы уничтожить первую, а затем, чтобы ее вынести.
С моей «первой натурой» я бы давно уже пропал — и даже почти было пропал.
То, что ты говоришь об «эксцентричном решении», кстати,
полностью верно*. Я мог бы даже назвать место и день.
Но кто же был тем, кто там и тогда решился? Несомненно, дорогой
мой друг, то была первая натура — она хотела «жить».
Уважь меня, перечти как-нибудь мой труд о Шопенгауэре. Там
есть пара страниц, где можно найти ключ. В том, что касается этой работы и
обрисованного в ней идеала, я до сих пор держал слово.
Высоконравственных потуг я теперь решительно не выношу — так
что словам в той работе тебе следует придавать несколько иной оттенок.
Теперь передо мной — главная задача.
Что же касается заголовка «Веселая наука», то здесь я имел в
виду только gaya scienza трубадуров — отсюда и стишки.
Сердечно
Твой старый друг Ницше.
194
*По поводу
«эксцентричного решения» Эрвин Родэ писал Н. 26 ноября 1882 г.: «эта “Веселая наука”, конечно же, по-прежнему не хочет казаться мне
наукой, но она и в самом деле становится всё свободней и веселей, что поначалу,
— позволь, драгоценный друг, сознаться в этом — представлялось мне
насильственным по отношению к твоей собственной природе, со стиснутыми зубами
принятым эксцентричным решением. Теперь же этот новый, самозабвенно
опьяняющийся трезвостью взгляд на вещи действительно стал, как мне кажется,
естественным для тебя, и сейчас, можно, пожалуй, заметить, он действительно
служит тому, чтобы сделать твою жизнь легче, яснее, — не обедняя при этом тебя самого».
169 Мальвиде
фон Майзенбуг в Рим (Фрагмент) [Рапалло, середина декабря 1882 года]
Моя дорогая высокочтимая подруга,
(…) Вы хотите знать, что я думаю о фройляйн Саломэ?* Моя сестра считает Лу ядовитым червем, которого нужно любой
ценой уничтожить, — и поступает соответственно. Мне больно это видеть. Мне самому
ничего не хочется так сильно, как быть ей полезным и нужным — в самом высоком и
скромном смысле этих слов. Способен ли я на это, был ли я на это
способен до сих пор — это, разумеется, еще вопрос, и ответ на него я едва ли
смогу дать. И все же я честно старался, чтобы это было так. Мои «интересы»
до сих пор не находили у нее особого отклика; я сам (как мне кажется) вызываю у
нее скорее не интерес, а пресыщение — признак хорошего вкуса в данном случае.
Многое в ней устроено иначе, чем у Вас — и чем у меня: это выражается в
каких-то наивных вещах, и в этой наивности для наблюдателя — так много
очарования! Умна она необычайно — Рэ считает, что умнее нас с Лу никого нет, из
чего явствует, что Рэ — льстец.
Семейство Рэ обращается с юной барышней наилучшим образом, и
Пауль Р. и в этом тоже — образец деликатности и заботливости.
Моя дорогая и уважаемая подруга, возможно, Вы хотели
услышать от меня нечто иное о Лу, — и когда мы с Вами увидимся, Вы наверняка
услышите еще и иное. Но писать об этом? Нет.
И все же я прошу Вас от всего сердца сохранить для Лу
то чувство нежного участия, которое Вы к ней испытывали. И даже более того!
[+++]
Одинокие люди ужасно страдают от воспоминаний.
195
Не тревожьтесь, в сущности, я солдат и даже в некотором роде
«мастер тысячи самопреодолений» (так меня недавно окрестил, к моему удивлению,
друг Родэ).
Дорогая подруга, неужели же нет ни единого человека на
свете, который бы меня любил? [+++]
*13 декабря
Мальвида фон Мейзенбуг писала Н.: «Мне хотелось бы знать, что Вы думаете о Лу
Саломе. Давно уже ни одна юная девушка не внушала мне при первом знакомстве
такой нежной симпатии, как она. Однако после Байройта я уже не знаю толком, что
мне и думать о ней… Я так еще и не поняла, отчего распался ваш союз, но
радуюсь, что Вы не остались на севере. Быть может, Вам в Вашем одиночестве
вновь, и в еще более проясненном обличии предстают древние боги, и тогда к Вам
подходят Ваши собственные слова: “сколько
же должен был выстрадать этот человек, чтобы стать таким прекрасным”».
170 Лу
фон Саломэ и Паулю Рэ в Берлин (фрагмент) [Рапалло, около 20 декабря 1882 года]
Мои дорогие, Лу и Рэ,
не стоит так сильно беспокоиться по поводу приступов моей «мании
величия» и моего «уязвленного честолюбия» — и даже если я однажды, пойдя на
поводу у аффекта, случайно лишу себя жизни — даже и тут не о чем особенно будет
сожалеть. Что вам до моих причуд! (Даже и до моих «истин» вам до сих пор не было
дела). Лучше по здравом размышлении полюбовно сойдитесь на том, что я в
конечном счете — просто измученный головной болью полупомешанный, которого
длительное одиночество окончательно свело с ума.
К этому, как я полагаю разумному, взгляду на
положение вещей я пришел после того, как в отчаянии принял чудовищную дозу
опиума. Однако вместо того, чтобы потерять от этого рассудок, я, похоже, наконец-то
его обрел. Кстати, я в самом деле был болен несколько недель, и если я
скажу, что здесь 20 дней стоял собачий холод, добавлять к этому мне ничего
уже не нужно.
Дружище Рэ, попросите Лу, чтобы она мне все простила — так
она даст и мне еще одну возможность простить ее. Потому, что я до сих пор
ничего ей не простил.
Куда труднее прощать своих друзей, чем своих врагов.
Тут мне вспоминается «защита» Лу [+++]
196
170a Франциске и Элизабет Ницше в Наумбург (черновик) <Раппало, 24 декабря 1882>
Тебе стоит выбрать другой тон для разговоров со мной, иначе я больше не приму никаких писем из Наумбурга, и я все меньше понимаю, каким образом вы намерены исправить то, что сделали со мной прошлым летом и от последствий чего я постоянно страдаю.
171 Францу
Овербеку в Базель [Рапалло, 25 декабря 1882]
Дорогой друг,
возможно, ты[172]
вообще не получил моего последнего письма? Этот последний кусок жизни
был самым черствым из всех, что мне до сих пор приходилось жевать, и все еще может
быть, что я им в конце концов подавлюсь. Позорящие и мучительные
воспоминания о последнем лете довели меня едва ли не до безумия — мои намеки,
которые я делал в Базеле и в своем последнем письме, умалчивали о самом
главном. Тут такое напряжение самых противоречивых аффектов, что это мне уже не
по силам. Всеми фибрами я пытаюсь преодолеть себя, но я слишком долго
жил в одиночестве и варился «в собственном соку», … Если б я мог хотя бы спать!
Но нет, сильнейшая доза моего снотворного помогает мне не больше, чем 6—8 часов
ходьбы.
Если мне не удастся алхимический фокус, как превратить все
это дерьмо в золото, я пропал. Тут-то мне и предоставился самый
удобный случай доказать, что для меня «все переживания полезны, все дни святы
и все люди божественны»!!!!
Все люди божественны…
Мое недоверие сейчас очень велико: во всем, что я слышу, мне
чудится презрение ко мне. Например, из последнего письма Роде. Я готов
поклясться, что, если бы не прежние наши дружеские отношения, он бы
сейчас самым гнусным образом судачил обо мне и моих целях.
Вчера я прервал еще и всякое письменное общение с моей матерью: это становилось попросту невыносимым, и было бы лучше, если бы я давно уже перестал это выносить. Насколько далеко расползлись за это время враждебные суждения моих близких и насколько они опорочили мое имя — об этом… Впрочем, мне скорее бы хотелось знать об этом, чем мучаться[173] неизвестностью.
197
Мои чувства к Лу находятся в состоянии последней,
мучительной агонии: по крайней мере, мне сейчас верится в это. Позже, — если
это позже вообще будет — я еще скажу об этом. Сострадание, мой дорогой
друг, — своего рода ад, что подтвердили бы и приверженцы Шопенгауэра.
Я не спрашиваю тебя: «Что мне делать?». Несколько раз я
подумывал о том, чтобы снять комнатку в Базеле, приходить к вам в гости,
слушать лекции. Иногда же мне представляется наоборот: довести свое одиночество
и отречение от мира до последней грани и…
Что ж, пусть все идет своим чередом! Дорогой друг, теперь ты
и твоя высокочтимая и мудрая супруга остаетесь для меня едва ли не последней
опорой в этом мире. Как удивительно!
Пусть все у Вас будет хорошо!
Твой Ф. Н.
172 Генриху
Кезелицу в Мюнхен [Рапалло, 10 января 1883]
Все это время, мой дорогой Кезелиц, мне не хватало одной
вещи — рассудка, так что я был не в состоянии ни ответить на Ваше
письмо, ни даже по-настоящему воспринять его. У меня было чувство, будто кто-то
обращался ко мне из неимоверно чуждого мира.
Недавно на прогулке я много думал о Вас: меня заинтересовала
проблема, которая стоит со времен Вагнера и остается нерешенной,
— как сделать, чтобы целый акт оперы был органичным симфоническим
единством. При этом я углубился в различные вопросы праксиса
или «практики»; к примеру, чтобы создать такую цельную вещь, композитор должен
во всех деталях знать соответствующие эпизоды драмы (аффекты, чередование и
борьбу аффектов) и живо представлять себе сценическую сторону действия.
Но ни в коем случае не слова! Собственно текст должен сочиняться
только после того, как готова музыка, постоянно подстраиваться под
музыку: в то время как до сих пор именно слово тащило за собой музыку. (…)
Адье, дорогой друг! И вперед и
выше! Только такая крутая траектория позволяет вынести землю и
жизнь.
Всем сердцем
Ваш Ф. Н.
198
173 Генриху Кезелицу в Венецию [Рапалло, 1
февраля 1883 года]
Дорогой друг, я долго не писал Вам, и так было правильно. Мое здоровье снова попривыкло к тому состоянию, которое, я думал, уже осталось в прошлом: это была сплошная мука — телесная и душевная, и нынешняя погода, стоящая в Европе, тоже немало здесь поучаствовала.

Правда в последнее время снова выдалось несколько ясных,
прозрачных дней, и вот я снова в ладах с самим собою. Все-таки великое благо,
когда можно в одиночестве разобраться с самим собою; а ведь сколь многие
не свободны и вынуждены общаться с другими, отчего их бремя только удваивается!
Замерз я на этот раз, между прочим, как никогда, и есть
хуже, чем теперь, мне тоже не доводилось. Мне сейчас просто необходима перемена
места; я уже снял было ту комнату в Генуе, где жил прошлой зимой, однако
последнее полученное мною известие — господин, живущий нынче там передумал и
решил остаться.
Моя старая добрая знакомая г-жа Мейзенбуг пригласила меня в Рим, с определенностью пообещав мне кого-то, кто ежедневно в течение двух часов будет писать под мою диктовку. Мне же как раз срочно нужен кто-
199
то, кому я могу диктовать, так что
теперь я намерен переселиться в Рим, хотя, как Вы знаете, это место не особенно
мне подходит…
Однако возможно Вам будет приятно услышать о том, что
именно <я собираюсь> диктовать и готовить к печати. Речь идет о совсем
небольшой книжке — где-то в сотню печатных страниц. Однако это лучшее из
всего, что я написал, и с написанием этой вещи я снял с души тяжелый камень. У
меня нет ничего более серьезного и вместе с тем более светлого; я желаю всем
сердцем, чтобы этот цвет — к которому мне даже не хочется примешивать
никаких других цветов — все больше становился цветом моего “естества”. Книга
будет называться
Так говорил Заратустра
Книга для всех и ни для кого.(…)
174 Францу
Овербеку в Базель [Рапалло, 10 февраля 1883 года]
Дорогой друг,
(…) Не хочу скрывать от Тебя, что мои дела плохи. Меня снова
окружает ночь; у меня такое ощущение, будто перед тем сверкнула молния —
какой-то краткий промежуток времени я был целиком в своей стихии,
залитый светом. И теперь все прошло. Я думаю, что неизбежно погибну, должно
быть, что-то случится, но я совершенно не представляю — что. Может быть,
все-таки кто-нибудь вытащит меня из Европы; я, со своим обыкновением сводить
все к физическим причинам, вижу в себе сейчас жертву климатического недуга, который
охватил Европу. Что же мне делать с тем, что у меня на одно чувство и на
один ужасный источник мучений больше, чем у других!
Уже в том, чтобы так мыслить есть облегчение — ведь так мне
не нужно сетовать на людей как на источник моих бед. Хотя я мог бы! И
даже частенько так поступаю! Все то, на что я Тебе намекал в своих
письмах — это не главное; нет, мне приходится нести такой многослойный
груз мучительных и ужасных воспоминаний! Так у меня еще до сих пор стоит перед
глазами та сцена, когда мать говорила, что я позорю своим существованием память
об отце.
О других примерах я бы предпочел умолчать; однако дуло
пистолета для меня сейчас — источник почти что приятных мыслей.
Вся моя жизнь подорвана в моих глазах: вся эта жуткая, сокровенная жизнь, которая все эти шесть лет делает один-единственный шаг и не желает ничего, кроме этого шага — в то время, как во всем прочем,
200
во всех
человеческих проявлениях люди имеют дело с моей маской, я же сам и впредь должен
оставаться жертвой того, что моя жизнь спрятана куда-то под спуд. (…)
Книга, о которой я Тебе писал, родившаяся всего за 10 дней,
кажется мне теперь моим Заветом. Она с максимальной остротой и четкостью
схватывает мою сущность, какой она будет, когда я однажды сброшу с себя
все свое многопудовое бремя. (…)
175 Мальвиде
фон Мейзенбуг в Рим <Рапалло, 21 февраля 1883>
(…) Смерть Вагнера глубоко затронула меня… и я до сих пор не
оправился еще от полученного известия. — И тем не менее я думаю, что это
событие окажется для меня облегчением. Тяжело, очень тяжело на протяжении шести
лет быть противником тому, кого прежде любил и почитал так, как я любил
Вагнера; и притом, будучи противником, обрекать себя на молчание — из почтения,
которого этот человек заслуживает в целом. Вагнер — скажу Вам прямо —
нанес мне смертельную обиду; его медленный отход и откат к христианству
и церкви я воспринял как нанесенное мне личное оскорбление: и поскольку прежде
я преклонялся перед тем, кто оказался способен на такой шаг,
запятнанными показались мне вся моя юность и ее идеалы.
Есть невысказанные цели и задачи, которые заставляют меня
ощущать это с такой остротой.
Сейчас тот шаг видится мне шагом стареющего
Вагнера; умереть вовремя — нелегкая задача.
Проживи он еще, страшно подумать, что могло бы произойти
между нами! В моем колчане есть смертельные стрелы, а Вагнер относился к тем
людям, которых слово может убить.
Это была во многих отношениях самая суровая и мучительная
зима в моей жизни… и не так уж важно, что послужило поводом к тому. У
меня словно бы была настоятельная необходимость измучиться до смерти и
посмотреть, позволяет ли и помогает ли мне выжить моя цель. Смерть Вагнера
вошла в эти переживания глубоким глухим раскатом грома; но возможно как раз на
этом утихнет моя буря.
С самой теплой благодарностью
Ваш Ницше.
Я написал Козиме. Вы ведь одобряете этот шаг?
201
176 Францу
Овербеку в Базель [Генуя, 22 марта 1883 года]
Мой дорогой друг, у меня такое чувство, будто Ты давно не
писал мне. Но может быть я заблуждаюсь; дни так длинны, я уже больше не знаю,
каким начинанием ознаменовать день, у меня пропал «интерес» ко всему. По
существу — неподвижная черная меланхолия. А в остальном — усталость. По большей
части — в постели, к тому же так правильнее всего для здоровья. Я прямо-таки
исхудал, даже удивительно; сейчас я нашел себе хорошую тратторию и надеюсь
снова откормиться. Но хуже всего: я совершенно не понимаю, зачем мне еще жить
даже полгода, все скучно болезненно отвратительно. Я переживаю слишком много
лишений и страданий, и надо всем довлеет ощущение несовершенства и ошибочности,
и того, наконец, что все мое духовное прошлое — сплошная нескладица.
Больше невозможно сделать ничего хорошего, я не сделаю больше ничего хорошего.
К чему еще что-то делать!
Тут я вспоминаю свою последнюю глупость, я имею в виду «Заратустру»
(можно ли сейчас разобрать мой почерк? Я пишу как свинья) Чуть ли не через день
я обнаруживаю, что забыл ее; я хочу понять, имеет ли она хоть какую-то ценность
— я сам этой зимой неспособен вынести оценку и могу ошибаться насчет ценности
или ее отсутствия самым грубым образом. (…)
177 Эрнсту
Шмайцнеру в Хемниц [Генуя, вторник, 2 апреля 1883 г.]
Глубокоуважаемый господин издатель,
«Не в моей власти» менять текст «Заратустры» в угоду
трусливым лейпцигцам, и я рад слышать, что Вы решили
сами защитить в этом случае мою позицию и мою независимость. В остальном же,
что касается «государства», я знаю то, что я знаю. При предвзятом отношении
можно причислить меня к «анархистам», но правда в том, что я предвижу
всеевропейскую анархию и потрясения, и притом в таких масштабах, которые любому
покажутся чудовищными. Все течения ведут к тому, включая и Ваше антисемитское.
Если взглянуть с определенной дистанции, антисемитизм — то
же самое, что борьба против богатых и практиковавшихся до сих пор средств
обогащения.
Прошу прощения! Вот уж не думал, что заговорю о политике!
202
Что касается обложки «Заратустры», то на сей раз я хочу
предложить нечто новое: на ней не должно быть ничего, кроме
Так
говорил Заратустра.
Разумеется, очень крупными красными буквами на
бледно-зеленом фоне. Что скажете? (…)
Поторопите же типографию! Я собираюсь покинуть Геную, на
корабле — к этому моменту вся правка должна быть завершена.
С сердечным приветом и благодарностью
Ваш Ницше
Пусть уж лучше выражения будут «сильными», чем «слабыми»[174].
178 Францу
Овербеку в Базель — Генуя, среда. [17 апреля 1883]
Дорогой мой, дорогой друг, я за это время снова обдумал твое[175]
предложение* и даже спросил совета у венецианского маэстро. (…)
До сих пор любые попытки, будь то профессиональная деятельность или служение
другим (в каковую рубрику, курьезным образом, попадают мои последние лето и
осень), свернуть со своего главного пути обходились мне слишком дорого.
А этой зимой меня ни что не удержало бы на этом свете, если бы не внезапное
возвращение на этот главный путь; в тех вещах, где я должен ставить перед собой
самые суровые требования, заключен мой долг, — в них же заключены и источники
моих сил. Быть учителем: о да, это сказалось бы на мне сейчас достаточно
благотворно (еще прошлым летом я был им, и почувствовал, как это мне подходит).
Но есть нечто более важное, рядом с чем даже полезная и благодарная
профессия преподавателя выглядит просто времяпровождением, забавой. И лишь
когда я выполню свою главную задачу, у меня появится чистая совесть для
того существования, какого ты мне желаешь.
Но, быть может, я уже выполнил ее?
За это время на свет появился «Заратустра». Да, я только теперь познакомился с ним! В те 10 дней его возникновения у меня совсем не было времени для этого. В самом деле, драгоценный друг, временами мне кажется, что я жил, работал и страдал именно для того, чтобы создать однажды эту маленькую книжечку в 7 листов, более того, что ею теперь, задним числом, оправдана вся моя жизнь. И даже на эту зиму, мучительнейшую из всех, смотрю я теперь другими глазами: как знать,
203
не требовалось ли именно столько мучений для того, чтобы я сделал себе кровопускание, каким явилась эта книга? (…)
*25 марта
Овербек писал Н.: «Не подумать ли тебе о том, чтобы снова стать преподавателем:
я имею в виду не академическую деятельность, а просто преподавание (к примеру,
немецкого) в какой-нибудь общеобразовательной школе». Желанием Овербека в этом
случае было на самом деле вернуть Н. в Базель.
179 Генриху
Кезелицу в Венецию (на открытке) [Генуя, 23 апреля 1883]
Сегодня я случайно узнал, что означает «Заратустра» —
оказывается, «золотая звезда». Это совпадение привело меня в восторг. Можно
подумать, что вся концепция моей книги коренится в этой этимологии, — а я-то до
сих пор и не подозревал об этом.
С неба льет потоками, издали до меня доносится музыка. То,
что эта музыка нравится мне, и как она мне нравится — этого я не могу объяснить
из собственного опыта. Скорее уж — из опыта моего отца. А почему бы и нет?
Ваш друг Н.
180 Готфриду
Келлеру в Цюрих — Генуя, 1 мая 1883
Высокочтимый государь,
в ответ на Ваше милостивое послание и одновременно в подтверждение выраженной в нем мысли, что великая боль делает людей красноречивее, чем это им свойственно, позвольте представить на Ваш суд прилагаемую книжку, которая носит название
«Так говорил Заратустра»
Удивительное дело! Из настоящей пучины чувств, в которую
забросила меня эта зима, опаснейшая в моей жизни, восстал я разом и десять дней
находился будто под самыми ясными небесами и выше самых высоких гор.
204
Плод этих дней лежит теперь перед Вами; пусть он будет
достаточно сладок и зрел, чтобы прийтись по душе Вам, искушенному в вещах
сладких и достигших зрелости.
Всей душой почитающий Вас
профессор доктор Ницше.
181 Франциске
и Элизабет Ницше в Наумбург — Зильс-
(…) Я приехал в Энгадин под дождем, совершенно продрогший:
через несколько часов Зильс-
Люди здесь добры ко мне и радуются моему возвращению,
особенно маленькая Адриена. Прямо в доме где я живу можно купить английские
бисквиты, солонину, чай, мыло, — да в общем все, что угодно. Это очень удобно.
Один богатый друг собирается построить мне дом в две
комнатки, поскольку надолго оставаться в этом низеньком побеленном
строении мне бы не хотелось. (…)
К счастью, за три года я приучился, переносить холод.
Настроение у меня хорошее.
Сердечно преданный вам Фриц.
182 Карлу
фон Герсдорфу[176]
в Острихен — Зильс-
(…) Дорогой друг, вот я и снова в Верхнем Энгадине, уже в
третий раз, и вновь чувствую, что здесь и нигде более — моя настоящая родина,
мои пенаты[177].
Ах, сколько еще всего таится во мне такого, что хотело бы стать словом и
формой! Насколько же тихо и высоко и одиноко должно быть вокруг меня, чтобы я
смог расслышать самые сокровенные свои голоса!
205

Зильс.
Мне хотелось бы иметь достаточно денег, чтобы построить
здесь своего рода идеальную конуру: я имею в виду деревянный домик с двумя
помещениями, и притом на вдающемся в Зильзерзе полуострове, где некогда стояла
римская крепость. (…)
Здесь живут мои музы: уже в «Страннике и его тени» я
говорил, что с этой местностью я ощущаю «более чем кровное родство».
Ну вот, кое-что и рассказал я тебе о твоем старом
друге-отшельнике Ницше — меня побудил к тому сон, увиденный этой ночью.
Не поминай лихом! — мы ведь давние товарищи и у нас есть
немало общего!
Твой
Фридрих Ницше.
206
183 Элизабет
Ницше в Наумбург [Зильс-
Моя дорогая сестра,
(…) Хорошо, что мы вместе были в Риме1; и даже если меня можно отнести к числу
самых больших молчунов, ты все же смогла услышать и выяснить достаточно, чтобы
узнать, как обстоит со мной. — То, что человек зовет своей целью (то, о чем он
по-настоящему думает днем и ночью), одевает все его существо в настоящую
ослиную шкуру, так что его можно забить чуть ли не до смерти — а он стерпит и
будет идти, как старый осел, своей старой дорогой, твердя свое «иа». Так
обстоит сейчас со мной. (…)
Должно быть, уже близится Твой день рождения? Я не имею
больше ни малейшего понятия, июнь ли на дворе или уже июль: вот так живут
философы — вне времени…
Твой Ф.
184 Францу
Овербеку в Штайнах-ам-Бреннер Зильс-
Мой дорогой друг Овербек,
Мне бы хотелось написать и тебе пару откровенных слов, как я недавно написал твоей высокочтимой супруге. У меня есть цель, которая вынуждает меня жить дальше, и из-за нее я обязан расправляться даже с самыми болезненными вещами. Не будь этой цели, я бы уже давно облегчил себе жизнь — попросту не жил бы вовсе. И не только этой зимой всякий, кто наблюдал бы вблизи мое состояние и понимал бы его, мог мне сказать: «Не мучься! Умри!», — нет, так было и раньше; в страшные годы физических страданий со мной обстояло точно так же. Уже мои генуэзские годы были длинной, длинной цепью самопреодолений ради той самой цели, а не в угоду вкусам какого-нибудь знакомого. Так что, дорогой друг, «тиран во мне», неумолимый, требует того, чтобы я победил и на этот раз (что касается физических страданий, их длительности, интенсивности и многообразия, я могу считать себя одним из самых опытных и закаленных людей; неужели мой удел — быть столь же искушенным и в страданиях душевных?) Мой сегодняшний образ мыслей и философия к тому же таковы, что мне необходима абсолют-
207
ная
победа, то есть превращение переживания в золото и пользу высшей пробы.
Ну а пока что я сам борющийся клубок; так что
недавние увещевания твоей милой супруги произвели на меня такое впечатление,
как если бы от Лаокоона потребовали, чтобы он поборол уже наконец своих змей.
Слишком многое разъединяет меня с моими близкими. Правило,
которое я завел этой зимой: не принимать никаких писем от них, по существу уже
не соблюдается (я недостаточно жесток для этого). Однако каждое презрительное
слово, написанное о Рэ или фройляйн Саломе, заставляет кровоточить мое сердце.
Кажется, я совсем не гожусь для вражды (меж тем как моя сестра так прямо и
написала мне, чтобы я держался молодцом, это де «радостная веселая война»).
Я уже пустил в ход сильнейшие отвлекающие средства,
какие мне известны; я прибег к тому, что выше и труднее всего — к собственной
творческой продуктивности. (За это время у меня созрел набросок «Морали для
моралистов»). Ах, друг, я же старый тертый моралист-практик, моралист
самообладания, и в этом отношении я потрудился столь же добросовестно, как,
скажем, нынешней зимой, врачуя себя от нервной лихорадки. Но со стороны
я не встречаю никакой поддержки, наоборот, кажется, будто всё сговорилось ни за
что не выпускать меня из моей бездны…
А ведь опасность велика. Я — натура чересчур
концентрированная, и все, что меня задевает, устремляется в самую мою
сердцевину. Несчастье последнего года оказалось столь велико именно в
соотношении с владеющими мною целями и задачами; во мне были и остаются ужасные
сомнения, имею ли я право ставить перед собой подобную цель. Меня охватило
ощущение моей слабости, в тот момент, когда всё, всё, всё должно было бы
придавать мне мужества!
Придумай же, драгоценный друг Овербек, как бы найти
что-нибудь абсолютно отвлекающее, — думаю, теперь могут понадобиться уже
самые крайние средства. Ты не можешь даже представить себе, как во мне день и
ночь бушует это безумие. То, что в этом же году я сочинил и написал самые свои солнечные,
светлые, ясные вещи, на многие мили возвышающиеся надо мной и моим
ничтожеством — это относится для меня к числу самых удивительных и
труднообъяснимых вещей.
Мне нужно, насколько я могу рассчитывать, прожить еще следующий
год — помоги мне продержаться еще пятнадцать месяцев.
Если для тебя действительно возможно осуществить идею
совместного пребывания в Шульсе, — дай мне знак. Я
чрезвычайно благодарен тебе уже за само предложение.
Преданный тебе Ницше.
208
185 Генриху Кезелицу в Венецию — [Зильс-
(…) Судьба Искьи1 все больше потрясает мое
воображение; и помимо тех вещей, которые задевают каждого, в этой истории есть
нечто затрагивающее меня лично, достаточно зловещим образом. Этот остров так
ярко присутствовал в моем воображении: когда Вы прочтете до конца вторую часть
«Заратустры», то Вам станет ясно, где я искал свои «Блаженные острова».
«Купидон, танцующий с девушками» — это становится понятным только на Искьи (жительницы Искьи говорят «Купедон»). Едва я закончил свое произведение, как этот остров
обрушился до основания. Вы знаете, что в тот час, когда я завершил первую часть
«Заратустры» на стадии гранок, скончался Вагнер. На сей раз я в соответствующий
час получил известия, которые меня так возмутили, что этой осенью у меня,
вероятно, будет дуэль на пистолетах. Silentium, дорогой друг! (…)
186 Францу
Овербеку в Штайнах-на-Бреннере[179]
— (Это письмо предназначено для тебя одного) [Зильс-
Дорогой друг,
расставание с тобой снова повергло меня в глубочайшую меланхолию и всю дорогу обратно я не мог избавиться от дурных черных мыслей, — в том числе, и от настоящей ненависти к моей сестре. Целый год своим молчанием — всегда не ко времени — и своими речами, которые тоже всякий раз были не ко времени, она умудрялась лишить меня всего, что я достигал путем самопреодоления, так что под конец я стал жертвой беспощадной мстительности, меж тем как в самом средоточии моего образа мыслей заложен отказ от всякого отмщения и наказания. Этот конфликт шаг за шагом приближает меня к безумию*, — я ощущаю это с ужасающей силой и не представляю себе, каким образом поездка в Наумбург могла бы уменьшить эту опасность. Напротив, могло бы дойти до жутких сцен, и как раз та давно подпитывавшаяся ненависть вышла бы здесь наружу в словах и поступках, — и я бы при этом в основном оказывался жертвой. Сейчас мне даже и писем моей сестре не сто-
209
ит писать, разве что самого безобидного толка (недавно я отправил ей еще одно письмо с забавными виршами). Возможно, что самым роковым шагом во всей этой истории было мое примирение с ней — я вижу сейчас, что из-за этого она решила, будто ей теперь дано право мстить фройляйн Саломе. (…) Я прилагаю к письму первое публичное высказывание о первой книге «Заратустры»; написано оно, как это ни удивительно, в тюрьме. Что мне доставляет удовольствие, так это констатировать, что первый же читатель чувствует, о чем здесь идет речь: о давно обещанном «Антихристе». Со времен Вольтера не было подобных покушений на христианство и, сказать по правде, даже Вольтер не имел представления, что на него можно так нападать. (…)
*К этому
месту у Н. сноска: «Может быть ты мог бы довести это видение ситуации со всей определенностью
до сведения моей сестры?».
187 Элизабет
Ницше в Наумбург [Зильс-
Моя дорогая сестра,
Сегодня[180], как и в предшествующие три дня, стоит прозрачно-ясная погода, и я с бодростью и уверенностью обозреваю достигнутое и не достигнутое мной до сих пор и то, чего я еще хочу от себя. Ты этого не знаешь, и поэтому я не вправе ставить тебе в вину, что Ты предпочитаешь видеть меня стоящим на другой почве, стоящим на ней крепче и защищенней. Меня заставило призадуматься Твое письмо к Георгу Рэ, а в еще большей степени — Твое недавнее замечание, что лучше всего мне до сих пор жилось в Базеле. Я же, напротив, смотрю на это так: весь смысл ужасных физических мук, которым я был подвергнут, заключается в том, что только лишь с их помощью я был вырван из плена ложных представлений о моей жизненной задаче, во сто крат принижавших ее. И поскольку я от природы принадлежу к людям скромным, понадобилось самое сильное из возможных средств для того, чтобы призвать меня к самому себе. По отношению к тому, что мне предстоит сделать, даже авторитеты моей юности являются величинами незначительными и преходящими. То, что я сквозь них — сквозь всех этих Шопенгауэров и Вагнеров — созерцал их идеал, сделало их для меня совершенно излишними. Судить о себе по этим во всех смыслах преодоленным мною современникам — это, должно быть, самое несправедливое, что бы я мог сделать
210
сейчас с собою. Каждое слово моего «Заратустры» — это же торжествующая насмешка, и больше чем насмешка, над идеалами того времени; а ведь почти за каждым словом здесь стоит личное переживание, самопреодоление из числа самых трудных. Совершенно необходимо, чтобы я был понят превратно, более того, я должен добиться, чтобы меня истолковывали в дурную сторону и презирали. То, что с этого должны начать мои «ближайшие» родственники, я понял прошедшим летом и осенью, и меня наполнило божественное сознание того, что именно так я оказываюсь на своем пути. В «Заратустре» это ощущение прочитывается повсюду. Злая зима и мое вконец расстроившееся здоровье отдалили меня от того состояния, лишили меня отваги; и точно так же та мелкая грязь, которая вот уже несколько недель как обрушилась на меня, поставила меня снова перед величайшей опасностью — а именно, что я сойду со своего пути. Теперь всякий раз, как я вынужден сказать, что не выношу больше одиночества, я ощущаю несказанное унижение перед самим собой — я стал изменщиком высшему, что есть во мне.

211
Что мне до всех этих Рэ и Лу! Как я могу
быть им врагом! И если они даже нанесли мне урон, что ж, они были мне
достаточно полезны, и именно тем, что это люди совсем другого сорта, чем я. Это
дает мне существенную компенсацию и даже обязывает меня быть благодарным по
отношению к ним обоим. Они оба — оригинальные натуры, а не копии, — поэтому я
выносил их рядом, как бы они ни претили моему вкусу. Что касается «дружбы», тут
я вообще до сих пор испытывал себя лишениями (Шмайцнер, например, утверждает,
что у меня вообще нет друзей, я «уже десять лет как полностью брошен на
произвол судьбы»). Что же до общей направленности моей натуры, то у
меня нет товарищей (и Кезелиц не исключение!), никто не имеет представления о
том, когда мне бывает нужно утешение, ободрение, рукопожатие; это было как
никогда заметно в прошлом году, после моего пребывания в Таутенбурге. А
если я жалуюсь, то все на свете считают себя вправе слегка выместить на мне как
на страдальце свой инстинкт властвования: называется это утешением,
сочувствием, добрым советом и т. д.
(…) Итак, суммирую, дабы вынести все же практический вывод
из всех этих обобщений: моя дорогая, дорогая сестра, не напоминай мне ни единым
словом, ни устно, ни письменно, о вещах, которые норовят лишить меня
доверия к себе, более того, результата моего жизненного пути! Прими во внимание
мое здоровье, учитывая, как сильно эти вещи влияют и влияли на меня! Дай
человеку забыться, попробуй что-то новое, что-то совсем в другом роде, чтобы я
научился смеяться над потерей таких «друзей»! И подумай о том, что к такому
человеку, как я, современность никогда не будет справедлива и что любой
компромисс ради «доброй репутации» недостоин меня.
Написано под чистыми небесами, с ясной головой и здоровым
желудком в ранний утренний час.
Всем сердцем
твой брат.
188 Генриху
Кезелицу в Венецию [Зильс-
Мой дорогой друг,
Ну вот и снова мне пора расставаться с Энгадином: в среду я
собираюсь уезжать — в Германию, где меня ждет немало дел. (…)
Этот Энгадин — место рождения моего Заратустры. Я как раз только что обнаружил первый набросок, на нем значится: «Начало августа
212
1881 года в
Зильс-Марии, в 6000 футов над уровнем моря и гораздо выше всего человеческого».
(…)
Кстати, не без огорчения я должен Вам сообщить, что теперь,
в третьей части, бедняга Заратустра действительно впал в уныние — настолько,
что Шопенгауэр и Леопарди рядом с его «пессимизмом» покажутся неопытными
юнцами. Так должно быть по плану. Однако чтобы написать эту часть
сам я нуждаюсь в глубокой, небесной ясности, — поскольку патетика высшего рода
может удаваться мне лишь как игра. (В конце всё проясняется).
Возможно, я разработаю тем временем еще и нечто
теоретическое; мои наброски на этот счет озаглавлены:
Невинность становления.
Путеводитель по освобождению от морали. (…)
189 Элизабет
Ницше в Наумбург [Генуя, начало ноября 1883]
Моя милая Лама (…) о тяжести задачи, которая на мне лежит, не имеет представления никто; и если кто-то представил бы ее себе в форме литературной работы, к примеру, моего «Заратустры», доведенного до завершения, мне бы от этого стало тошно, я бы почувствовал позыв то ли к смеху, то ли к рвоте, — настолько «поперек горла» мне всякое литераторствование, и мысль, что меня неровен час причислят в разряд писателей — из числа тех, от которых меня трясет.
Почитай толком, дорогая моя сестра «Утреннюю зарю» и
«Веселую науку» — самые содержательные, самые открытые в будущее книги на
свете; в Твоих последних письмах было что-то об «эгоистическом» и
«неэгоистическом» — что-то такое, что не должно бы быть написано моей
сестрой. Я различаю прежде всего сильных и слабых людей — тех,
кто призван к господству, и тех, кто призван к служению и послушанию, к «самоотвержению».
Что у меня вызывает отвращение к этой эпохе, так это невыразимая
тщедушность немужественность безличностность переменчивость добродушие, короче,
слабость «эго»-центризма, которая еще и желает драпироваться под
«добродетель». Что до сих пор было мне во благо, так это видеть людей долгой
воли, которые могут молчать десятилетиями, обходясь при этом без всяких
трескучих нравственных эпитетов, вроде «героизма» и «благородства», которые
честны потому, что ни во что не верят так, как в свое «я» и в свою волю
навсегда запечатлеть это «я» в людях.
213
Пардон! Что привлекало меня в Рихарде
Вагнере, так именно это; равным образом и Шопенгауэр жил только этим
чувством.
И еще раз пардон, если я добавлю: я верил, что обрел
существо такого рода в прошлом году — речь о фройляйн Саломе; я зачеркнул ее
для себя после того, как обнаружил, что она не хочет ничего, кроме как на свой
лад получше устроиться, и что вся потрясающая энергия ее воли направлена на
столь скромную цель, — словом, что она в этом отношении под стать
Рэ. (Справедливости ради хочу добавить, что она, так же как и Рэ,
обладает одним чрезвычайно привлекательным для меня свойством, а именно —
полнейшим бесстыдством в отношении себя, мотивов своих поступков и т. д.
Знаешь, возможно, в каждую эпоху наберется не больше пяти человек, которым
хватает этого свойства и вдобавок — духа, чтобы уметь выразиться себя. К их
числу относился Наполеон).
Я наверное лучше, чем кто бы то ни было, умею различать даже
сильных людей по рангу их добродетелей; понятно, что и среди
слабых есть сотни разновидностей, в том числе очень тактичные и милые, сообразно
добродетелям, которые присущи слабым. Есть сильные «самости», чью жажду себя
можно было бы назвать едва ли не божественной (например, Заратустра) —
но всякая сила уже сама по себе услаждает и радует взор. Почитай Шекспира:
там полно таких сильных людей — жестких, суровых, властных, словно высеченных
из гранита. Наша эпоха так бедна ими [– – –]
Так что не ставь так уж низко потерю, которую я понес в этом
году. Ты даже не можешь себе представить, насколько одиноко и замкнуто я
всегда чувствую себя посреди всего этого разлюбезного лицемерия тех, кого Ты
зовешь «добрыми», как то Мальвида, или Шюкинги, Хайнце, Зайдлицы и т. д. и
т. д., и как подчас всё во мне кричит, изнывая по человеку, который
был бы честен и способен говорить честно, будь это даже чудовище, вроде
Лу. Хотя, разумеется, я предпочел бы беседовать с полубогами.
Еще раз пардон, я пишу Тебе это от самого чистого сердца и
прекрасно знаю, что ты желаешь мне только хорошего. О, это проклятое
«одиночество»!
ФН.
(…)
190 Францу
Овербеку в Базель [Ницца, vallon St.
Philippe, Villa Mazzoleni 24 декабря 1883]
(…) Есть один новый человек, который, возможно, послан мне очень вовремя: его зовут Пауль Ланцки и он настолько мне предан, что охот-
214
но соединил бы наши с ним пути при
первой же к тому возможности. Он независим, друг одиночества и простоты, ему 31
год, настроен философски, больше пессимист, чем скептик, — он первый, кто
обратился ко мне в письме «Глубокоуважаемый мастер!» (что переполнило меня
самыми разными чувствами и воспоминаниями).
Он — совладелец отеля (foresteria1) в Валламброзе,
так что вдобавок может быть моя «философия» еще совьет себе «гнездо» в этом
великолепном славном уголке. (…)
191 Эрнсту
Шмайцнеру в Хемниц [18 января 1884]
Мой уважаемый господин издатель
Хорошая новость! Скорее даже — лучшая, какая только, на мой
вкус, может быть: мой «Заратустра» готов. Теперь ему нужна переписка
набело и — печать. В прошлом году я и помыслить не мог, что это невообразимо
трудное дело — найти концовку для первых двух частей «Заратустры» — удастся мне
уже этой зимой (сказать по правде, за пару недель). Я счастлив и, как это уже
не раз бывало в моей жизни, удивлен и «озадачен» самим собой.
Внутренний накал при этом, кстати, бывает настолько велик,
что, как стеклянный сосуд, можешь в конце концов треснуть; и покуда
вторая и третья часть не лежат передо мной в напечатанном виде и это
возбуждение мучает меня день и ночь, опасность в этом смысле остается
нешуточной.
Выручите же меня пока что хотя бы обещанием, что Вы, дорогой
и уважаемый господин Шмайцнер, сделаете всё возможное, чтобы ускорить
печать.
Этот третий акт моей драмы (скорее я даже могу говорить
здесь о финале своей симфонии) того же объема (по достаточно точной оценке),
что и второй…
В содержании встречаются
некоторые «немыслимые» вещи, — поглядим, как обстоят дела с немецкой «свободой
печати»! В конце концов, разве можно запретить «поэзию»? (…)
192 Франциске Ницше в Наумбург (черновик) — [Ницца,
январь-февраль 1884]
Но год спустя возвращаться к вещам, которые были до моей
тесной интимности с фройляйн Саломе в Таутенбурге и Лейпциге — это, я скажу,
было брутальностью, с которой не сравнится ничто. И потом письмо за письмом
сообщать мне вещи, которые для меня полнейшая новость и вдогонку еще
забрасывать грязью те полные самопожертвования месяцы — это я называю
подлостью. Если фройляйн Саломе высказалась обо мне, что я «под маской
идеальных целей преследовал в отношении нее грязные намерения», то почему
я узнаю об этом только год спустя? Я бы тогда с позором прогнал ее прочь и
освободил бы от нее Рэ. Это лишь один из сотни случаев, в которых проявилась
злосчастная извращенность моей сестры в отношении меня. Ну а в целом я давно
уже знаю, что она не угомонится до тех пор, пока я не буду мертв. Сейчас я
завершил своего «Заратустру», и что же? В миг, когда он был завершен, и я уже
входил в свою гавань, она была тут как тут, с полными пригоршнями грязи, чтобы
бросить ее мне в лицо.
В твоем письме есть такие намеки, что я просто теряю дар
речи.
Не я ли проявил в прошлом году по отношению к вам столько
незаслуженной доброты? И что же, вы до такой степени неблагодарны? Или
настолько изолгались, что простейшие истины перевернуты у вас с ног на голову?
Кто же обходился со мной дурно, если не вы? Кто поставил мою
жизнь под угрозу, если не вы? Кто как не вы полностью забросили меня в то
время, как я нуждался в утешении, ответили мне насмешкой и очернением всей моей
жизни и моих устремлений?
Я очень хорошо знаю, с самого детства, нравственную
дистанцию, которая разделяет меня и вас, и чтобы она не была для вас слишком
ощутимой, мне понадобились вся моя мягкость, терпение и умение молчать. Неужели
вам настолько не ясно, какую антипатию мне приходится преодолевать, общаясь с
такими людьми, как вы? Чего ж удивительного в том, что меня рвет, коль скоро я
читаю письма своей сестры и вынужден проглатывать эту смесь идиотизма и
дерзости, которая вдобавок еще и подается под соусом морализаторства?
Я уже два года, как до смерти измученный зверь, защищаюсь и
бегу от Лизбет; я заклинал ее оставить меня в покое, но она ни на мгновение не
переставала мучить меня. В прошлом августе я даже побоялся ехать в Наумбург,
чтобы попросту не расправиться с ней физически, и спросил совета у Овербека. А
теперь она снова тут как тут и делает вид, что ни в чем не виновата!
216
Я не знаю, что хуже: безграничная наглая
глупость Элизабет, пытающейся меня, знатока человеческих душ, просветить по
поводу двух человек, близко изучить которых у меня было достаточно времени и
желания; или же ее бесстыжая бестактность поливать мне грязью людей, с которыми
меня как-никак объединяет важный этап моего духовного развития и которые мне
следовательно в сто крат ближе, чем это глупенькое мстительное создание.
Мне отвратительно состоять в родстве с таким жалким
созданием.
Откуда у нее эта омерзительная грубость, откуда эта лукавая
манера жалить ядом (из-за которой ее письмо фрау Рэ доставило мне неописуемую
боль и заставило глубоко сочувствовать адресату)?
Если такой человек, как я, говорит: «такой-то и такой-то
входят в план моей жизни», как я говорил Лизбет о фройляйн Саломе, то нет
ничего глупее, чем пытаться повредить этому суждению и внутренней воле и мстить
тем, кто духовно выше тебя. И вдобавок еще — так подло работать против меня. И
все же в конце концов я добился того, чего хотел.
Глупая гусыня доходит до того, что приписывает мне зависть к
Рэ! И сравнивает меня с Герсдорфом, а себя — с Мальвидой!
Ты не можешь себе и представить, каким утешением для меня
годами был доктор Рэ — faute de
mieux1, само собой разумеется, — и какой
неимоверной благодатью было для меня общение с фройляйн Саломе.
Что же до письма Лизбет, то меня не смущают ее суждения обо
мне самом. Я думаю, что мне уже доводилось их слышать однажды — может быть, от
Лизбет? Или от фройляйн Саломе? По крайней мере в суждениях обо мне они тогда
совпадали. Так кто же ведет здесь двойную игру?
Не подумай, милая мама, что я в дурном настроении. Напротив!
Но тот, кто теперь не за меня, пусть катится к черту! Или, если угодно, в П<арагвай>![181]
193 Фройляйн
Симон (в альбом) Ницца, 6 февраля 1884
Одни путешествуют затем, что ищут себя, другие — затем, что хотят себя потерять.
217
* * *
Мы ведем себя наяву так же, как во сне: каждый раз придумываем и сочиняем себе человека, с которым общаемся, — и тотчас же забываем, что это мы его придумали и сочинили.
* * *
Честность — с самими собой и всеми, кто нам друг; отвага — с
врагом; великодушие — к побежденным; вежливость — со всеми.
194 Францу
Овербеку в Базель [Ницца, 12 февраля 1884]
(…) Я должен отучиться писать письма, в которых выступаю
страдальцем. Страдалец — это легонькая добыча для кого угодно, по отношению к
страдальцу каждый мудр. (Если смотреть совершенно объективно: сколько же
удовольствия доставляет страждущий тем, кого этим словом никак не назовешь!) (…)
Сердечное спасибо за присланные деньги! … Мои общие
«опасения» сводятся временами к таким весьма специфическим опасениям, как,
например, хватит ли мне денег на послезавтра, на спички и т. д. и т. п. (…)
Если б я еще не был так беден! Мне бы хотелось, по крайней мере, иметь раба, — ведь даже у беднейшего из греческих философов был какой-никакой раб. Есть так много вещей, для которых я чересчур слеп.
Всем сердцем преданный
Тебе и Твоей милой супруге
Н.
195 Эрвину
Роде в Тюбинген [Ницца, 22 февраля 1884]
Мой старый добрый друг,
Не знаю, почему так вышло, но когда я читал твое письмо и
особенно когда смотрел на милый портрет твоего ребенка, мне казалось, будто ты пожимаешь
мне руку и смотришь на меня с печалью — с такой печалью, будто хочешь сказать:
«Как же это вышло, что у нас так мало общего и живем мы будто в разных мирах! А
прежде —».
И так, дружище, обстоит у меня со всеми, кто мне дорог: все позади, все в прошлом; еще видишься, разговариваешь, чтобы не молчать
218
вовсе, еще пишешь
письма, чтобы не молчать. Но правду этим не обманешь, а она говорит мне (я
слышу это совершенно отчетливо!): «Ницше, дружище, теперь ты совсем один!».
А я меж тем продолжаю идти своим путем, по сути это даже плавание
— недаром я прожил годы в городе Колумба.
Мой трехчастный «Заратустра» завершен; первая часть у Тебя
есть, две другие я надеюсь отправить Тебе через месяц-полтора. Эта книга —
словно пролом в будущее, есть нечто ужасающее в ее счастливой безмятежности.
Всё в ней — мое собственное, без всякого образца, сравнивающей оглядки, без
предшественников. Тот, кому довелось пожить в этом, возвращается в мир
изменившимся. Однако об этом говорить не следует.
И все же одно признание от тебя как h
Прости! Я бы поостерегся делать такое признание кому-либо
еще, но ты был единственным, кто однажды высказал, что мой язык доставляет тебе
радость.
Кстати, я так и остался поэтом во всех значениях
этого понятия, хотя и намучил себя изрядно тем, что являет собой
противоположность всякой поэзии. Ах, друг мой, какую безумную, скрытную жизнь я
веду! Всё в одиночку! Всё без «детей»!
Твой Ф. Н.
196 Францу
Овербеку в Базель [Ницца, 8 марта 1884]
(…) Начало его <Кезелица> письма касается моего «Заратустры» — в такой манере, которая бы Тебя скорее обеспокоила*, чем удов-
219
летворила. (…) возможно, что именно мне впервые пришла мысль, которая расколет историю человечества надвое. Этот «Заратустра» — ни что иное, как предисловие, преддверие; я должен сам выработать в себе мужество, — поскольку со всех сторон только и делают, что лишают меня его, — мужество для того, чтобы нести эту мысль! Ведь я еще очень далек от того, чтобы уметь высказать или выразить ее. Будь она истинной или, верней, будь она воспринята как истинная, все изменится, ничто не останется как было, и все прежние ценности обесценятся. (…)
*Тут Н.
совершенно прав. 29 февраля Кезелиц писал ему: «О, этот Заратустра! Возникает
ощущение, что с него начнется новый отсчет времени». Эта «маниакальная» мысль,
к которой спустя четыре года, накануне безумия, постоянно будет возвращаться
Н., впервые прозвучала именно у Кезелица. И далее: «Однажды Вас будут почитать
больше, чем азиатского основателя религии, и, надеюсь, на менее азиатский
манер!».
197 Генриху
Кезелицу в Венецию — [Ницца, 22 марта 1884]
(…) Я говорил Вам еще в Лейпциге: в Вашей музыке есть
«прошлое столетие», а это для людей девятнадцатого века значит почти так же
много, как «невинность и блаженство». Но прежде всего — шутовство, и мне все
больше кажется, что жизнь без шутовства совершенно невыносима. (…)
198 Резе
фон Ширнхофер в Геную [Ницца, 30 марта 1884]
(…) Итак, я покажу Вам Ниццу и, насколько это получится,
самого себя, раз уж Вы так хотите «узнать» старого отшельника. Хотя у каждого
отшельника есть своя пещера — в нем самом, а иногда за этой пещерой следует еще
одна и еще; я хочу сказать, что это трудное дело — узнать отшельника. (…)
220
199 Францу
Овербеку в Базель [Венеция, 30 апреля 1884]
Сейчас я, по всей вероятности, самый независимый человек
в Европе. Мои цели и задачи обширнее, чем чьи бы то ни было, а то, что я
называю «большой политикой», дает по меньшей мере хорошую исходную
позицию, возможность увидеть современность с высоты птичьего полета.
Что касается практических сторон моей жизни, то я прошу
Тебя, мой дорогой, проверенный друг, придерживаться в дальнейшем в отношении
меня только одного: максимальной независимости и свободы, поступать без
оглядки на наши личные отношения. Я думаю, Ты знаешь, что именно
означает применительно ко мне призыв Заратустры: «Будьте тверды!». В следовании
своему принципу поступать с каждым по справедливости и мягче всего обходиться с
тем, что мне как раз наиболее враждебно, я дошел до какой-то крайности и
этим снова и снова подвергаю опасности — не только самого себя, но и мою
задачу; в этом смысле я нуждаюсь в закалке и, в воспитательных целях,
даже в некоторой жестокости. (…)
200 Паулю
Ланцки во Флоренцию (черновик) [Венеция, конец апреля 1884]
Однако же, почтеннейший господин Ланцки, зачем Вы мне это
пишите? Вам хочется побудить меня сказать больше, чем мне хочется
самому? Или я должен опуститься до абсурдной роли объяснителя моего
«Заратустры» (или его зверей)? Для этого, полагаю, некогда появятся кафедры и
профессора. Но покамест еще долгое время будет не до «Заратустры», и я не
удивлюсь, если за еще отпущенные мне годы встречу всего пять-шесть человек, у
которых есть глаза для того, чтобы увидеть мои цели. «Покамест» означает: до
тех пор, пока вся эта неметчина и niaiseries1 об
«утверждении и отрицании воли к жизни» [– – –]
Заметьте при том: этот сверхчеловеческий образ нужен мне был
для того, чтобы ободрить себя. Однако для тех, в ком есть некая героическая
направленность на свои собственные цели, мой «Заратустра» станет
источником сил.
Что мне до тех, у кого нет никакой цели!? Мимоходом замечу, что мой рецепт для таких людей — самоубийство. Однако последовать ему
221
обычно не удается — из-за недостатка
дисциплины. Поэтому здесь бы я посоветовал в качестве подготовки улучшенную
диету (мясную пищу и никаких проклятых итальянских паст) и ежедневно 5-8 часов
энергичных прогулок на природе. Солдатская служба тут тоже может пригодиться. (…)
Вы присутствуете при возникновении самой возвышенной и
чреватой будущим книги, которая когда-либо была написана; Вам выпала честь жить
в эпоху этой книги. И что же? Ничто в Вас не благословляет бытие за то, что
такие вещи могут появляться на свет? (…)
Что? Вы «не видите моих целей»? Пусть так, но чему же тут
удивляться? Моя ли в том вина, что у Вас нет моих глаз? Это что, цели для
каждого? Какое Вы имеете вообще отношение к моим целям? К моей жизни?! Хотелось
бы мне послушать о целях Вашей жизни! Если б у Вас таковые имелись, то,
возможно, Вы бы и могли послужить — орудием для моих. Подите
прочь, бесстыжий Вы человек! Gardez
votre distance, monsieur![182]
201 Мальвиде
фон Мейзенбуг в Рим [Венеция, начало мая 1884]
Надеюсь, моя высокочтимая подруга, что две последние части
«Заратустры» тем временем уже оказались в Ваших руках: во всяком случае я давно
уже дал такое поручение своему издателю. Это не тот подарок, за который можно
было бы спокойно сказать «спасибо»; я хочу, чтобы люди научились совсем
иному в самых милых, самых дорогих своему сердцу ощущениях, и даже гораздо больше,
чем просто «научились»! Кто знает, как много поколений должно смениться, прежде
чем появятся единицы, способные по-настоящему прочувствовать то, что сделано
мною. И даже тут меня страшит мысль, что к моему авторитету будут прибегать
совершенно не те и совершенно неоправданно. Но это — беда каждого великого
учителя человечества: он знает, что при неблагоприятном стечении обстоятельств
может стать для человечества злым гением — так же, как мог бы стать
благословением.
Что ж, я сам хочу сделать все возможное, чтобы по крайней
мере не дать повода для грубого злоупотребления; и сейчас, после того, как я
выстроил преддверие своей философии, я должен снова неутомимо трудиться, пока и
главное здание не будет построено. Люди, которые понимают только язык амбиций,
могли бы сказать, что я чересчур высоко замахнулся. Пусть так!
222
Но это одиночество, с младых ногтей!.. Эта
замкнутость, даже в самых близких контактах!.. Ко мне уже попросту не
подступиться, даже с самыми благими намерениями.
Недавно, когда меня в Ницце навещала фройляйн Ширнхофер*, я часто думал о Вас с большой благодарностью, поскольку
догадался, что Вы хотели сослужить мне этим добрую службу. И в самом
деле, это был своевременный визит, в котором были и радость и польза
(уж по крайней мере при этом не присутствовало никакой надутой гусыни — пардон,
я имею в виду свою сестру). По сути я однако не думаю, что мог бы найтись
человек, который бы избавил меня от этого укоренившегося чувства одиночества.
Я не находил еще никого, с кем бы я мог говорить так, как говорю с самим собой.
Простите меня, моя высокочтимая подруга, за это своеобразное признание самому
себе.
(…) Я досадую по поводу того антигуманного письма, которое отправил Вам прошлым летом; эта ядовитая травля сделала меня почти что больным. С тех пор ситуация изменилась настолько, что я радикально порвал со своей сестрой; ради бога, не пробуйте способствовать здесь примирению — между мстительной антисемитской гусыней и мной не может быть никакого примирения. При этом я все же стараюсь обходиться с ней как можно мягче, поскольку знаю, что́ может быть сказано в оправдание моей сестры и что́ стоит за этим ее мерзким и недостойным поведением в отношении меня — любовь. Совершенно необходимо, чтобы она как можно скорей отчалила в Парагвай. Поздней, через много-много лет она сама придет к пониманию того, какой вред она нанесла мне в решающий период моей жизни этими неуемными грязными подозрениями в мой адрес (эта история тянется уже 2 года!). Напоследок мне осталась чрезвычайно трудная задача в какой-то мере поправить в отношении доктора Рэ и фройляйн Саломе то, что напортила моя сестра (у фройляйн Саломе вскоре должна выйти ее первая книга: «О религиозном аффекте»1 — та самая тема, чрезвычайную одаренность и искушенность в которой я обнаружил в ней в Таутенбурге. Я счастлив, что моя старания тогда были не совсем напрасными). Моя сестра редуцирует столь одаренное и оригинальное создание ко «лжи и чувственности», она видит в докторе Рэ и в ней всего лишь двух «негодяев», — конечно же, мое чувство справедливости восстает против такой оценки, сколь бы вескими ни были основания, по которым я сам
223
считаю себя глубоко
обиженным этими людьми. Для меня было весьма поучительны убедиться в том, что
моя сестра действует и против меня с той же слепой подозрительностью, как
против фройляйн Саломе; тут-то до меня как раз и дошло, что всё дурное, что я
думал о фройляйн Саломе, идет от тех несчастных перебранок, которые были еще до
моего близкого знакомства с ней, — и сколько многое в этом могла неверно понять
и еще и домыслить моя сестра! Она ровным счетом ничего не смыслит в людях, не
дай бог, чтобы какой-нибудь враг доктора Ферстера однажды принялся наговаривать
ей на него!
Еще раз прошу прощения за то, что завел разговор об этой
давней истории. (…) Необыкновенные натуры, такие, как фройляйн Саломе,
заслуживают, особенно в юности, всяческого снисхождения и сочувствия. И если я
даже, в силу разных причин, еще не в состоянии желать ее нового
сближения со мной, то все же, в случае, если ее положение выглядит тяжелым и
отчаянным, я был бы готов забыть о всех своих личных опасениях. Теперь, благодаря
самому разному опыту, я слишком хорошо понимаю, с какой легкостью мои собственные
жизнь и судьба могут быть ославлены точно так же, как и ее —заслуженно и незаслуженно,
как это всегда и бывает с такими натурами.
Всем сердцем преданный и благодарный Вам
Ницше.
*Летом того
же года эта девушка навещала Н. в Зильс-Марии. 18 августа он пишет Овербеку:
«Это потешное создание, которое меня очень развлекает и по-своему привязалось
ко мне. Этой зимой она продолжит свои философское обучение в Париже». И 1
сентября — про ту же особу снова Мальвиде фон Мейзенбуг: «Жаль, что у нее
такая, выражаясь по-базельски, “нехорошенькая” внешность!
Я не могу подолгу выносить рядом с собой безобразное (уже по отношению к
фройляйн Саломе мне понадобилось в этом смысле некоторое самопреодоление)».
202 Мальвиде
фон Мейзенбуг в Рим [Венеция, середина мая 1884]
Моя уважаемая подруга,
благодарю от всего сердца за это письмо,
Всего одно слово в порядке комментария. Вы называете меня «несправедливым» в отношении моей сестры, как прежде, два года назад,
224
назвали меня
«несправедливым» в отношении Рихарда Вагнера. В обоих случаях Вы знаете,
могу добавить, к счастью, лишь половину дела, и я чрезвычайно далек от
того, чтобы разворачивать перед Вашим взором другую половину. Поверьте мне,
однако, в одном: если есть на свете люди испытывающие глубочайшую, неукротимую
потребность в справедливости, то я отношусь к их числу. Особенно, если меня
обидели. В моей жизни возникло даже несколько абсурдных ситуаций вследствие
моей склонности защищать себя некоей величавостью от возможности быть
обиженным. (…)
А вот забавное различие между нами: что мне было интересно в
докторе Рэ, а позднее также и во фройляйн Саломе, то, что меня чрезвычайно
притягивало к ним, так это исключительно их <как вы пишете> «ужасный
образ мыслей». В сущности это единственные два персонажа, в которых мне до сих
пор довелось повстречать свободу от того, что я, говоря о старой доброй Европе,
называю «моральным лицемерием»[183].
Вы не поверите, сколь многому я могу научиться в общении с подобными натурами,
— и насколько мне их не хватает. Как-то в Таутенбурге я окрестил фройляйн
Саломе моим «анатомическим препаратом» — и в моей ярости по отношению к сестре
есть нечто от ярости профессора Шиффа, у которого украли его любимую подопытную
собачку. Как видите, моя уважаемая подруга, я тоже злой-презлой вивисектор [– –
–]
Сердечно
Ваш Ницше.
203 Францу
Овербеку в Базель — Айроло, [12 июля 1884]
(…) Базель, или, скорее, моя попытка на прежний давнишний
манер пообщаться с базельцами и университетом, глубоко опустошила меня*. Подобная роль и подобное одеяние обходятся теперь моей
гордости чересчур дорого. В тысячу крат лучше — одиночество! И если тому
суждено, то и погибнуть в одиночку!
Мысль, которую я высказал тебе в «Белом кресте» — будто бы объясниться с помощью сугубо личного послания «моим друзьям» — была продиктована лишь минутным влиянием базельской атмосферы, была упаднической мыслью. От меня не будет больше ни слова! С «самообъяснением» я уже покончил — в последней части «Веселой науки». Также и мысль о лекциях в Ницце[184] пришла мне в голову в минуту отчая-
225
ния
— как бы мог я теперь читать лекции!? По правде, как мне пережить
следующие годы, этого я совершенно не представляю. И все же я перенес уже
немало тяжкого и рассчитываю, что моя изобретательность не оставит меня и на
сей раз. Меж тем я сейчас в глубокой, глубокой меланхолии, едва ли могу
сказать, отчего. Может быть, в глубине души я всегда верил, что в той точке
своей жизни, где оказался сейчас, уже не буду одинок: что многие
присягнут мне, что я смогу основать, организовать что-то, и тому подобные
мысли, служившие мне утешением во времена ужасающего одиночества. Вышло,
однако, по-другому. Слишком рано еще для всего этого. Я должен открыть в себе
новое терпение. И даже больше, чем просто терпение[185].
Думаю о тебе и твоей милой супруге с сердечной
благодарностью.
Твой Н. (…)
*В письме
Кезелицу от 25 июля 1884 Н. приводит такую деталь своего последнего визита в Базель:
«Самое забавное, что мне довелось наблюдать, так это затруднение, в котором
оказался Якоб Буркхардт. Вынужденный сказать мне хоть что-то о
“Заратустре”, он не смог родить ничего, кроме вопроса, не стоит ли мне попробовать
теперь написать драму».
204 Францу
Овербеку в Мюнхен — Зильс-
(…) Общая депрессия, которая, к сожалению, угнетала меня во
время нашей встречи в Базеле, миновала. Я думаю теперь, что принимал чересчур
близко к сердцу разногласия со своими близкими. Достаточно было предложить
рандеву с моей сестрой, чтобы все сразу сделали хорошую мину. В том-то и мой
вечно повторяющийся просчет: чужие страдания представляются мне непомерно
тяжкими. С самого детства я снова и снова нахожу подтверждение словам: «самая
большая опасность для тебя — в сострадании» (может быть, в этом сказывается необычайный
внутренний склад моего отца, которого все, кто его знал, причисляли скорее к
«ангелам», чем к «людям»). Хватит с меня того, что мой прискорбный опыт по
части сострадания сподвиг меня на теоретически весьма любопытную перемену в оценке
этого явления.
Событием этого лета был визит барона фон Штайна (он приехал в Зильс на три дня прямо из Германии и затем прямиком отправился об-
226

ратно к
своему отцу — эта манера делать акцент на визите мне чрезвычайно импонирует).
Это персона исключительной человеческой и мужской стати, и благодаря своему героическому
настрою он мне глубоко понятен и симпатичен. Наконец, наконец-то новый человек,
который близок мне и испытывает ко мне инстинктивное почтение! Покамест он,
правда, еще trop wagnetisé1, но благодаря рациональной
выучке, которую получил за время проведенное рядом с Дюрингом, все же
вполне подготовлен ко мне. Рядом с ним я все время острейшим образом ощущал,
какая практическая задача вытекала бы из моей жизненной задачи, если бы
только я располагал достаточным числом молодых людей совершенно определенного
свойства. Пока еще просто нет возможности говорить об этом, да я и не говорил
еще об этом ни с одним человеком. Какая странная судьба: дожить до сорока лет,
и всё самое существенное для себя, как теоретическое, так и практическое,
по-прежнему носить в себе, как какую-то тайну. О «Заратустре» Штайн со всей
откровенностью сказал, что понял в нем «двенадцать фраз, и не более того». Тут
мне есть чем гордиться: ведь этими словами характеризуется несказанная
чужеродность всех моих проблем (вышло так, что это лето неоднократно предъявляло
мне свидетельства того же применительно к «Утренней заре» и «Веселой науке» — «инороднейшим[186]
книгам на свете»).
Тем не менее Штайн в достаточной мере поэт, и поэтому его
глубочайшим образом трогает, к примеру, «Другая плясовая песнь» (из третьей
части). Он даже выучил ее наизусть. На самом деле тех, кто не проливает слез
именно над заратустровским весельем, я считаю еще очень далекими от меня, от
моего мира[187].
(…)
205 Франциске
Ницше в Наумбург [Цюрих, 4 октября 1884]
Моя милая мама,
должно быть, ты тем временем уже достаточно наслышана о том, что твои дети снова поладили друг с другом и во всех отношениях держатся молодцами. Как долго продлится это совместное пребывание, сказать
227
пока еще
невозможно; предстоящая работа в любом случае обречет меня вскоре на одиночество,
а то, что мне приходится за собой волочь — я имею в виду 104 килограмма книг, —
не позволит мне слишком далеко улететь отсюда.
Так что наша с тобой встреча в этом году оказывается
невозможной, я от всего сердца желал бы, чтобы это тебя не очень огорчало.
Благие планы, высказанные в твоем последнем письме —
способствовать тому, чтобы я ходил по свету в несколько более солидном одеянии,
— я принимаю с благодарностью; на самом деле я испытываю в этом определенную
нужду и несколько поизносился, а местами и свалялся от постоянной перемены
мест, как какая-нибудь горная овца. (…)
206 Франциске
и Элизабет Ницше в Наумбург [4/11 декабря 1884[188]]
(…) Для моей дальнейшей жизни здесь мне требуется: 1)
собственное жилье, 2) повариха, 3) мой композитор Кезелиц (давая еженедельно по
5 уроков и получая небольшую прибавку от своего отца*, он
смог бы здесь прожить — это он мне подтвердил. Моя старая добрая приятельница
Мансурова должна раздобыть ему учеников среди своих здешних русских знакомых).
Я мог бы еще добавить пункты 4) и 5), однако со всей определенностью хочу
заметить, что ничего похожего на «супругу» в эти пункты не входит.
7 декабря Кезелиц будет сам дирижировать своей увертюрой к
«Венецианскому льву» на филармоническом концерте. (…)
Шмайцнер может, если ему этого хочется, продать еще
имеющуюся тысячу экземпляров моих произведений какому-нибудь книготорговцу, но
он не может продать право на издание этих произведений, поскольку им он не
владеет! Право издавать мои произведения, а также выпускать новые тиражи могу
давать только я один; и распространяется оно еще на 30 лет после моей
смерти. (Вот оно — то, что при определенных обстоятельствах может сделать меня
состоятельным).
Так что, дорогая Лама, это большая глупость, что я сейчас не
могу ехать в Лейпциг. Однако по зрелому размышлению я думаю, что тебе не стоит
общаться вместо меня с лейпцигскими издателями. (…)
*В письме
Овербеку от 14 сентября 1884 Н. писал о том, что Кезелица, жившего до того в основном
в Венеции, отец больше не же-
228
лает отпускать из дома и обеспечивать ему независимое
существование, «пока сын не добьется успеха».
**Во
время пребывания осенью 1884 года в Цюрихе Н. много хлопотал о постановке оперы
Кезелица «Венецианский лев». 14 октября Н. писал Кезелицу о претензиях
(по-видимому, совершенно объективных), которые высказывает к этому произведению
цюрихский дирижер Хегар: «он без устали говорил о настоятельнейшей необходимости,
чтобы Вы сами попробовали управлять оркестром (в том, что касается
инструментовки, он постоянно встречает противоречие между тонкостью в намерениях
и «заблуждением в средствах», и демонстрирует это противоречие на примерах). Он
говорил о «воображаемом оркестре», а также о том, что отдельными пришедшимися
Вам по вкусу красочными эффектами Вы злоупотребляете так, что они в конце
концов приедаются. И вот что меня очень обеспокоило: он полагает, что Ваше
произведение неизбежно будет звучать совсем иначе, чем Вы это себе представляете,
и что Вы сами будете чрезвычайно удивлены, когда его услышите».
207 Францу
Овербеку в Базель — Ницца, Pension
de Geneve, 22 декабря 1884
(…) Обстоятельства этой зимы зовутся, увы, глазной болью.
Как следствие — приходится вовсю ограничивать себя в писании и чтении. О
причине этих болей у меня нет ни малейших сомнений: моя комнатка в Энгадине
лишена света (одно-единственное маленькое окошко, и в нем — черная стена скалы
совсем рядом), нельзя, чтобы я снова в ней жил! Должно быть, летом я
слишком много читал дурно напечатанные книги (немецкие книги по
метафизике!).
… Ницца вновь, как и прошлой зимой, оказывает поразительно
быстрое благотворное воздействие, и я понимаю теперь, что именно сухость
воздуха заставляет меня любить Ниццу и Верхний Энгадин: я имею в виду, что
места с самым сухим воздухом на всей Ривьере и во всей Швейцарии, то есть Ницца
и Верхний Энгадин, полезней всего для моей головы. (…)
В моем пансионе живет господин Пауль Ланцки, большой мой почитатель, в прошлом редактор rivista Еuropea, словом, литератор. Однако когда вчера он дал мне прочесть большое эссе обо мне (опубликованное в венгерской газете!), мне не оставалось ничего другого, как поступить так же, как я поступил в прошлом году с господином доктором Панетом, также большим моим поклонником, — а имен-
229
но, обязать его
не писать обо мне. У меня нет ни малейшей охоты взращивать вокруг себя
новую породу Нолей, Полей и «Колей», и мне в тысячу раз предпочтительней мое
абсолютное затворничество, нежели общество экзальтированных посредственностей. (…)
208 Франциске
и Элизабет Ницше в Наумбург [Ницца, начало января 1885]
(…) Ницца — место для долгого пребывания невозможное:
большой город, невыносимый шум экипажей и т.д. Ну и своими соседями по
пансиону я сыт по горло: тут просто попадаешь в дурную компанию, где страшно
даже взглянуть, как милые сотрапезники орудуют ножом и вилкой. О чем при этом
за столом идет разговор, лучше и не упоминать вовсе! Я грущу по своей
прежней генуэзской изолированности; я хоть и жил там бедняк бедняком, но зато
не был окружен таким заурядным немецким сбродом, — та жизнь, более гордая, была
мне более по нутру.
Господин Ланцки — внимательный и очень преданный человек, но
с ним все та же история: мне нужен кто-то, кто бы меня развлекал, а на деле всё
сводится к тому, что развлекаю я. Он молчит, вздыхает, выглядит вдобавок, как
сапожник, ни смеяться не умеет, ни остроумие выказать. Когда он рядом долго, то
просто несносен. (…)
209 Резе
фон Ширнхофер в Париж — Ницца, Pension
de Geneve, 11 марта 1885
(…) С погодой творится что-то для Ниццы невообразимое. У нас
тут шторм, каких не было лет 50, два маленьких землетрясения, четыре раза были
двух- трехдневные проливные дожди а la tedesca1, и небо, которое
никак не может выбрать между «да» и «нет», что довольно-таки неважно
сказывается на моем здоровье. При этом, правда, при мне в доме находился
до недавних пор один немец, который мне очень предан, — однако немцев я
недолюбливаю, это еще одна разновидность «низкой облачности», от которой мне совершенно
никакого проку.
Люблю ли я при этом французов? Из прошлых времен — некоторых, прежде всего Монтеня. Из этого столетия в сущности — лишь Бейля и то,
230
что выросло на его
почве. И это как раз то, что побудило меня сегодня на это письмо Вам,
моя милая, уважаемая фройляйн Реза, — вопреки тому, что глазная мораль, как я
говорил, предписывает мне: «Не читайте и не пишите, мой господин
профессор!». Речь о том, что во Франции, видимо, существует некий круг приверженцев
Стендаля; мне говорили о тех, кто называет себя «ружистами». Пожалуйста,
поохотьтесь на них немного, к примеру, на последнее издание «Красного и черного»
… Ничего более великого, чем эта книга, у него нет. И заведите все-таки
знакомство с самым актуальным из учеников Стендаля, господин Полем Бурже,
и расскажите мне, что нового он написал (я показывал Вам здесь в Ницце собрание
его эссе по сравнительной психологии). Он, как мне представляется, настоящий
ученик этого гения, которого французы открыли с опозданием на 40 лет (среди
немцев я первый, кто оценил его, причем безо всякого к тому побуждения с
французской стороны). Прочие прославленные литераторы этого столетия, к
примеру, Сент-Бев и Ренан по мне слишком приторны и undulatorisch2;
а вот то, что иронично, жестко, утонченно-язвительно, наподобие того, как у
Мериме — ах, как же мне это по вкусу! (…)
210 Элизабет
Ницше в Наумбург (черновик) [Ницца, середина марта 1885]
Когда я прочел твое письмо*, то снова
осознал, почему некоторые умники в Германии считают меня помешанным и даже
рассказывают, что я умер в сумасшедшем доме. Я слишком горд сейчас, чтобы
верить, что какой-нибудь человек может меня любить: ведь это предполагало
бы, что он знает, кто я такой. Столь же мало верю я в то, что я
когда-нибудь полюблю кого-то: это предполагало бы, что я однажды — чудо из
чудес! — встречу человека моего ранга. Не забудь, что таких существ, как Рихард
Вагнер или А. Шопенгауэр я в той же мере презираю, сколь и соболезную им, и что
основателя христианства я нахожу поверхностным в сравнении со мной. Я любил их
всех, покуда не понял, что такое человек[189].
Это одна из тех загадок, над которыми я нередко размышлял: как это вообще возможно, что нас связывает кровное родство? В том, что
231
меня занимает,
заботит, поддерживает, у меня никогда не было ни сообщника, ни товарища; жаль,
что нет Бога, а то был бы все-таки хоть один посвященный…
Покуда я здоров, у меня хватает юмора играть свою роль
и прятаться за нею от всего света, к примеру, в качестве базельского профессора.
К сожалению, я слишком часто бываю болен, и тогда я ненавижу людей, которых мне
довелось узнать, несказанно — включая себя.
Дорогая сестра, пара слов только между нами — после этого
можешь сжечь это письмо. Если бы только я не был в немалой степени актером, я
не выдержал бы и часа своей жизни.
Для таких людей, как я, не существует брака: разве что это
было бы в стиле нашего Гете. Я не думаю, что меня когда-нибудь полюбят. (Если я
очень сердит на тебя, так это потому, что ты вынудила меня отказаться от
единственных людей, с которыми я мог говорить без лицемерия. Теперь я один.)
[190]с
которыми я, не надевая маску, мог говорить об интересных для меня вещах. Что
они при этом думали обо мне, было мне совершенно безразлично. Теперь я один.
Спрячь это письмо от нашей матери и [– – –]
Мне кажется, что человек даже при самых благих намерениях
может причинить огромный вред, если он достаточно бесстыж, чтобы пытаться
принести пользу людям, дух и воля которых для него — потемки.
Чтобы привести пример, достаточно взглянуть на славную
Мальвиду: всю свою жизнь она не приносила другим ничего, кроме вреда —
благодаря этой самой бесстыжести[191].
Не сердись на меня за это письмо! В нем больше учтивости, чем было бы, если б я, как обычно, ломал комедию[192]. (…)
*По-видимому,
речь идет о письме Элизабет, которое сохранилось лишь частично и в котором она
желает Н. найти любящую его «всей душой» женщину, а также пускается в
воспоминания об «ужасных годах <размолвки>, которые, если бы не
сохранившиеся с тех пор письма и прочее, благодаря счастливому устройству моей
памяти, совершенно изгладились бы из нее, подобно всем прочим неприятным вещам.
Во мне остался некоторый гнев на фрау Овербек, поскольку это именно она в своей
глупой фарисейской манере подорвала твое доверие ко мне. Конечно же, мне не
приходится сожалеть о том, как оборот приняла моя судьба во время нашей размолвки.
Совсем наоборот: любить и быть любимыми так, как мы с Бернхардом — это
величайшее счастье на свете, … и все же я не могу избавиться от болезненного ощуще-
232
ния,
что мое счастье выросло из чего-то глубоко печального, из чего ты вынес в результате
лишь болезненные переживания. И все же давай подумаем о «Заратустре»: не будь
всего этого, не было бы в этом произведении того звука и тона, который
проникает теперь в самое сердце всем страдающим людям. Разумеется, те переживания
были повседневными и незначительными и нужно остерегаться того, чтобы говорить
о них, поскольку они могли бы повредить значению великолепных слов, если пытаться
увязывать их каким-то образом с теми незначительными событиями. Кстати, для
великих умов переживания — это лишь перегной, удобренная почва, на которой
вырастает редкое растение великого произведения. Песок, земля, сор, если
смотреть на них по отдельности — совершенно незначительны и даже неаппетитны». Возможно,
Н. задело, что этими словами Элизабет буквально сравнивает с землей все его
переживания 1882—1883 годов.
211 Генриху
фон Штайну в Галле (черновики) [Ницца,
середина марта 1885]
(…) Мой уважаемый друг, Вы не знаете ни того, кто я такой,
ни того, чего я хочу. Мое преимущество в том, что я наблюдаю, что делают и
хотят другие, не выдавая при этом себя. Я слишком хорошо знаю, что Ваши любовь
и уважение к Рихарду Вагнеру чересчур велики, чтобы Вы смогли признать
человека, который на корню порвал с ним. Что бы Вы подумали обо мне, если бы я
сказал, что я в той же мере презираю Рихарда Вагнера, сколь и соболезную ему?
Вы бы подумали, что я спятил. Это мой жребий — показываться только под масками;
с Вами я очень честен, открывая Вам так много о себе.
Это между нами
Преданнейший Вам
Н.
Вы очень нравитесь мне, но Вам следует всерьез стремиться к
тому, чтобы стать поэтом, а вовсе не эстетиком и философом. (…)
Нет нужды, чтобы Вам нравился «Заратустра», Вы не должны тут
себя ни к чему принуждать! Произведения такого рода очень требовательны, им
нужно время. Чтобы нечто подобное было верно прочтено, надо чтоб к нему
добавился сперва авторитет столетий.
При случае мне бы как-нибудь хотелось прочесть немецким
музыкантам нотацию — чему у Вагнера нужно учиться и чему вагнеровскому следует
во что бы то ни стало разучиваться…
233
Ну а уж что касается царства познания, то,
ради всего святого, — где у Вас глаза?! Что мог такого сотворить этот гений
немецкой неясности, который ничему толком не учился и понамешал в кучу все на
свете, пардон [– – –]
И что же, этот гений немецкой неясности так и будет
продолжать даже после своей смерти плодить хаос? Представить себе Вас посреди
хмурой зимы среди посторонних людей занятым словарем Вагнера — нет, это
вызывает во мне сочувствие и я начинаю вспоминать о том жалком времени, когда я
сам был молод. Почитайте же наконец, чтобы прийти в себя, что-нибудь
укрепляющее и подбадривающее, почитайте Монтеня, если у Вас нет никакой жажды к
моему, бесспорно, опасному в своей крепости вину, и если у вас нет никакого лучшего
чтения. (…)
212 Мальвиде
фон Мейзенбуг в Рим [Ницца, 26 марта 1885]
(…) Что касается музыки: то прошлой осенью я сознательно и с
любопытством поставил опыт, чтобы узнать, как я теперь отношусь к музыке
Р. Вагнера. Как же мне претит эта пасмурная, душная и, прежде всего,
лицедейская и претенциозная музыка! Настолько же, насколько… еще тысяча других
вещей, к примеру, философия Шопенгауэра. Это музыка неудавшегося
композитора и человека, но при этом — тут я готов поклясться — великого актера.
Зато я нахваливаю себе отважную и невинную музыку моего ученика и друга Петера
Гаста, настоящего музыканта; уж он-то позаботится о том, чтобы господа
лицедеи и мнимые гении впредь не* портили нам вкус. Бедняга Штайн!
Он-то считает Вагнера даже философом!
Почему я говорю об этом. Лишь для того, чтобы
показать Вам какой-нибудь пример. Юмор моего положения в том, что меня путают
— с бывшим базельским профессором доктором Фридрихом Ницше. К черту и его тоже!
Что мне за дело до этого господина!
(…) В конце этого месяца в Наумбург приедет господин доктор Ферстер1, подстегиваемый любовью (потому, как на месяц раньше, чем то диктует разум его сельскохозяйственных штудий). Как же я рад, что дело принимает такой оборот! И как я надеюсь, что он избавит меня на будущее от этих чудовищных и опасных для жизни пыток, которым я в последние годы подвергался!** (…)
234
*Цитируя эти
строчки в письме Г. Кезелицу от 30 марта 1885 г., Н. уточняет: «”Впредь не” —
это, пожалуй, сказано опрометчиво. В демократическую эпоху прекрасное
любого рода — достояние немногих».
**Эту
мысль Н. поясняет в письме Овербеку от 31 марта 1885: «Возможно, из замужества
моей сестры выйдет какой-то толк и для меня: у нее будет полно забот, и у нее появится
кто-то, кому она сможет полностью доверять и кому она действительно может быть
полезна, — то и другое в отношении меня не всегда было возможным».
213 Генриху
Кезелицу в Венецию [Ницца, 30 марта 1885]
Дорогой друг,
Я уж и не припомню, когда я в последний раз с удовольствием
собирался в поездку. Но на сей раз: сама мысль, что я скоро буду в Венеции,
рядом с Вами, оживляет и восхищает меня, — это как надежда на выздоровление у
того, кто долго и терпеливо болен. При этом я сделал открытие, что одна лишь
Венеция мне до сих пор нравилась и шла на пользу (хотя тут бы мне следовало
обойтись другими — более скромными — выражениями). Своим ландшафтом (к
сожалению, не сама по себе) мне близка Зильс-
Ах, если бы Вы знали, как одинок я сейчас в мире! И какую
приходится ломать комедию, чтобы, из отвращения, не плюнуть при случае
кому-нибудь в лицо! К счастью, некоторые вежливые манеры моего сына
«Заратустры» присущи и его рехнувшемуся папаше.
Но когда я приеду к Вам и в Венецию, то на некоторое время и
с «вежливостью», и с «комедией», и с «отвращением», и со всей этой проклятой
ниццкостью будет покончено, не правда ли, мой дорогой друг?
Не забудьте: мы снова будем есть «бажиколи»!
Всем сердцем Ваш Н.
214 Францу
Овербеку в Базель Ницца, 31 марта 1885
(…) С глазами обстоит все хуже. Шисеновские лекарства не помогли. С прошлого лета произошли изменения, которых я не понимаю:
235
они заволакиваются, какие-то пятна,
слезы ручьем. Вряд ли я смогу вернуться в Ниццу: тут слишком велика опасность попасть
под колеса. За столом я не могу накладывать себе в тарелку — это делают за
меня; я не хочу больше в подобном состоянии питаться на людях. (…)
Естественно, для четвертого «Заратустры» никакого издателя я
не нашел. Что ж, я доволен, и даже наслаждаюсь этим, как новым счастьем.
Сколько же стыда постоянно, со всеми моими публикациями, мне приходилось
преодолевать! Когда такой человек, как я, выводит сумму глубокой и сокровенной
жизни, то для этого нужны глаза и совесть отборнейших людей. Словом, тут нужно
время. Мое стремление иметь учеников и наследников то и дело лишает меня
терпения и склоняет к глупостям, которые опасны для жизни. Но в конечном счете
чудовищный вес моей задачи постоянно возвращает мне равновесие; и
я знаю очень хорошо, что самое важное и что второстепенно.
Сейчас я для развлечения читал признания святого Августина, очень сожалея, что Тебя не было при этом рядом. Ах, этот старый ритор! Какое лживое очковтирательство! Как я смеялся (к примеру, про то, как он «воровал» в юности — студенческая, в сущности, история)! Какое психологическое вранье (например, когда он говорит о смерти своего лучшего друга, с которым чувствовал себя одной душою, что он де «решился жить дальше затем, чтобы таким образом его друг не до конца умер». Подобные вещи отвратительно лживы). Философская ценность равняется нулю. Вульгаризированный платонизм, то бишь образ мыслей, который был исходно изобретен для высшей духовной аристократии, подредактированный для рабских натур. Кстати, в этой книге смотришь в самое нутро христианства; я при этом чувствую в себе любопытство радикального врача и физиолога. (…)
215 Франциске
Ницше в Наумбург [Венеция, конец апреля 1885]
(…) Дорогая мама, твой сын не создан для женитьбы; моя потребность — быть независимым до последнего предела, кроме того в силу своего опыта я стал чрезвычайно недоверчив как раз в этом пункте. Какая-нибудь старушка, а еще лучше дельный слуга были бы для меня наверное желательней. (…)
236
216 Элизабет Ницше в Наумбург [Венеция, 7 мая
1885[
Моя милая, милая Лама,
Вообще все это кажется мне совершенно удивительным,
например, что ты так погружена в заботы не о себе и не обо мне, а о чужом
человеке, и даже готова отправиться с ним в далекий, далекий мир. (…) Меня
тронуло, что Ты избрала <днем своего бракосочетания> 22 мая1; мне все время кажется, что ты, во всех
своих обстоятельствах, спускаешься на тот уголок земли, где я уже когда-то
прежде сиживал, и обустраиваешься на нем. Все, что ты делаешь — для меня
воспоминание, отзвук. Сам же я убежал оттуда очень далеко, и у меня уже не
осталось никого, кому бы я мог хотя бы даже рассказать — куда. Не стоит
думать, что мой сын Заратустра выражает мои мнения. Он для меня — подготовка,
интерлюдия.
Прости! (…)
217 Франциске
Ницше в Наумбург [Венеция, конец мая 1885]
(…) Эта весна — одна из самых грустных в моей жизни. Здесь
мне не хватает того, что могло бы меня отвлечь, и участливых людей; в Кезелице
я принимаю самое горячее участие, но он не создан для общения со мной, а тем
более — чтобы заботиться о полуослепшем. В день свадьбы мне посчастливилось
отправиться Лидо с одним базельским семейством, которое знакомо мне по Ницце:
возможность пообщаться с благожелательными и почти чужими людьми была для меня
настоящим облегчением.
Может быть это и к лучшему, что все так сложилось. К тому же
мы оба (я имею в виду доктора Ферстера и меня) вели себя до сих пор достаточно
пристойно, проявляя добрую волю. Однако дело это опасное и нам надо держать ухо
востро; нам мой вкус подобный агитатор при более близком общении — нечто совершенно
несносное. У него, должно быть, подобное же ощущение, недавно он написал мне:
«в том, что личное общение перед нашим отъездом сможет оставить в нас
продолжительное чувство удовлетворенности — в этом я позволю себе усомниться».
Ну ты понимаешь.
237
Я не понимаю, как будет устроено его
будущее, и у меня слишком аристократические взгляды, чтобы подобным вот образом
ставить себя в правовом и социальном отношении на одну доску с двумя десятками
крестьянских семейств, — как это значится в его программе. В подобных
обстоятельствах перевес получает тот, кто хитрей и у кого сильней воля,
— с обоими же этих качествами у немецкого ученого обстоит неважно.
Вегетарианство, к которому призывает доктор Ферстер, делает подобных людей еще
раздражительней и унылей. Взгляни только на «плотоядных» англичан: на
сегодняшний день это раса, у которой лучше всех получается основывать
колонии. Флегма и ростбиф — вот верный рецепт для подобных
«предприятий».
Что со мной будет этим летом, я до сих пор еще не знаю. Вероятно, я буду в своей прежней Зильс-Марии, хотя обо всех пребываниях там у меня жуткие воспоминания. Я все время был болен, мне не доставало как раз тех продуктов, которые были мне нужны, ужасно скучал — мне не хватало людей и света для глаз, — и всякий раз к сентябрю был уже почти в отчаянии. На сей раз я пригласил туда одну пожилую даму из Цюриха; ответа я еще не получил. Молодые дамы, по крайней мере всё то, что произрастает вокруг Мальвиды фон Мейзенбуг, мне не по вкусу; я потерял всякую охоту искать развлечения в компании этих полоумных особ. Я бы даже предпочел общаться с немецкими профессорами: они по крайней мере хоть учились чему-то основательному, и следовательно у них можно чему-то научиться. (…)
218 Францу
Овербеку в Базель — Зильс-
(…) Моя «философия», если я вправе назвать так то, что раздирает меня до самого основания моего существа, перестала быть чем-то излагаемым, по крайней мере в печатном виде. Временами меня охватывает желание провести конфиденциальную беседу с Тобой и Якобом Буркхардтом — скорей затем, чтобы спросить, как вам удается обойти эту проблему, нежели затем, чтобы поделиться с Вами новостями. Наша эпоха в целом безгранично поверхностна, и я достаточно часто стыжусь, что уже так много сказал publice такого, что ни в какую эпоху, даже в гораздо более ценные и глубокие времена не может быть услышанным публикой. Посреди «свободы и наглости прессы» этого столетия портишь себе вкус и инстинкты; я держу перед мысленным взором образы Данте и Спинозы, которые лучше меня справлялись со жребием
238
одиночества. Правда, их образ мыслей
по сравнению с моим таков, что он позволял выносить одиночество; к тому
же для всех тех, кто так или иначе находился в обществе «Бога», еще не
существовало по-настоящему того, что я зову «одиночеством». Для меня всё сосредоточилось
сейчас на желании, чтобы со всеми вещами обстояло иначе, чем я о них думаю,
и чтобы кто-нибудь сделал мои «истины» недостоверными для меня. (…)
239
Своего последнего господина ищет он себе здесь: врагом хочет он стать ему и своему последнему богу, ради победы он хочет бороться с великим драконом. (…)
Завоевать себе право на новые ценности — самом страшное завоевание для выносливого и почтительного духа. Поистине, для него оно грабеж и дело хищного зверя.
219 Генриху Кезелицу в Венецию — Зильс-
(…) Я записал себе вчера, чтобы тверже чувствовать себя на том жизненном пути, на который я вступил, некоторое количество черт, в которых мне видится «благородство или «аристократизм», и, наоборот, все то, что есть в нас «плебейского» ( во всех своих болезненных состояниях я с ужасом ощущаю сползание к плебейским слабостям, плебейской мягкости, даже к плебейским добродетелям — понимаете ли Вы это, любезный мой здоровяк?). Благородно, к примеру, всегда придерживаться видимой фривольности, которая маскирует стоическую твердость и самообладание. Благороден неспешный шаг — во всем, в чем только можно, а также неспешный взгляд. Нас трудно удивить. На свете не так много ценных вещей, и они приходят сами собой — они хотят к нам. Благородно — уклоняться от мелких почестей и не доверять тем, кто чересчур охотно хвалит. Благородно сомнение в изречимости того, что на сердце; одиночество не как выбор, но как данность; убеждение, что обязанности существуют только по отношению к равным, а с прочими можно обходиться по своему усмотрению. Благородно всегда ощущать себя тем, кому надлежит раздавать почести и очень редко позволять кому-нибудь воздавать почести нам; жить почти всегда замаскированным, путешествовать инкогнито, дабы избегать мучительных неловкостей[193]; быть способным к праздности, а не только прилежным, как курица, которая квохчет, сносит яйцо и снова квохчет. И так далее и тому подобное! Мой старый друг, я испытываю Ваше терпение, но Вы уже догадываетесь, что мне нравится и что радует в Вашей жизни, и что я все настойчивей хотел бы подчеркнуть.
(…) У Дюринга мне случайно попалась эта расчудесная фраза: «исходное состояние Вселенной или, яснее выражаясь, бытия материи, не подверженного изменениям, не включающего в себя никакого временного скопления различных явлений, — это вопрос, уходить от которого может лишь сознание, видящее высшую мудрость в лишении себя творческой потенции». Так что этот берлинский «машинист» держит
243
нас, мой дорогой друг, за кастратов. Но я по крайней мере надеюсь, что недостаток, на который он намекает, компенсируется тем, что мы «поем красивей», чем господин Дюринг, — более противной интонации, чем у него, я и представить себе не могу. То, что «конечное», т. е. определенным образом структурирование, пространство я, в духе моего механистического истолкования мира, считаю неопровержимым и что невозможность состояния равновесия кажется мне взаимосвязанной с вопросом, как именно структурировано это всецелое пространство — уж во всяком случае не в форме шара! — этим я уже делился с Вами в устной беседе.
Мое здоровье тревожаще шатко; налицо какая-то кардинальная угроза. Фрау Рёдер уже полмесяца как уехала, bene merita!1 Но, между нами, она мне не подходит, я не хочу повторения. Все, что я ей диктовал, лишено какой бы то ни было ценности; да и плакала она чаще, чем мне бы хотелось. Она не знает удержу; все женщины не понимают, что личное несчастье — совершенно не аргумент, зато оно может дать основу философскому взгляду на вещи. Но что хуже всего: у нее дурные манеры, и она трясет ногой. Тем не менее она помогла мне пережить трудный месяц и была полна самых лучших побуждений.
Здесь тоже жарко, безумно жарко. Ваш друг
Н.
220 Генриху
Кезелицу в Венецию — Зильс-
Дорогой друг,
ура! Со вчерашнего дня у меня ощущение, будто мне с неба свалилось нечто во всех отношениях подходящее для Вас, и ни для кого другого, а именно — потрясающий сюжет для оперы. Прочтите в прилагающей книжке историю на с. 196 и внесите в нее сами собой разумеющиеся коррективы (к пример, пусть Марианна будет не мате-
244
рью, а сестрой убитого; в момент же катастрофы, на с. 198, пускай внезапная любовь окажется тем, что спасет Романетти, преодолеет ненависть и положит конец вендетте между семьями). В общем, у этой темы есть все, что нужно именно Вам потому, что именно Вы ее можете развить. Первое действие: по-южному празднично, карнавал, который прерывают кровавые события. Второе действие: оплакивание покойника с корсиканским размахом, клятва мщения, которая дается прямо у гроба, солисты и хоры. Третье действие: нужно дать почувствовать опасное одиночество беглеца, которого хотят убить. Горы, лес, пещеры, засада, предательство. Четвертое действие: катастрофа чудовищного накала, в конце — примирение двух враждующих родов, которые клянутся друг другу быть отныне как братья. Все по-мужски, за сотни миль от истерической стихии вагнеризма; много стреляют; любовь (зерно намека на которую должна каким-нибудь образом содержаться уже в первом акте) на сей раз — любовь-поступок, а не лирическая экспансия. Хотя тем не менее в кульминации четвертого действия можно исполнить тем более эффектный любовный дуэт. И что всего важнее, все это по-настоящему театрально, и в оперном смысле даже совершенное комильфо… Есть логика целого, бескомпромиссная логика страсти; и кроме того, есть то типическое, что должно присутствовать в драме.
Очень хорошая роль у Марианны, воинствующей девушки, которая
во втором акте должна предстать как настоящая эриния. Также и у Романетти,
который, по контрасту с ней, замкнут, благородно мрачен, выказывает все черты
человека глубокого, смеется над
своими врагами и над самой смертью. На то, что именно Вы, дорогой друг, сможете
это сделать, что эта музыка и этот текст словно созданы для Вас, у меня есть неожиданная
sigillum veritatis1, а именно — Ваша венгерская
симфония. Да, если позволите нашептать Вам на ушко одну мысль… мне
представляется, что Вы уже сочинили увертюру к этой опере, и эта увертюра — не
что иное как вышеупомянутая симфония. Мне кажется, что в ней с непревзойденной
силой выражено то тяжелое, жестокое, вытесненное, томящееся — словом, чреватое
трагедией, что есть в корсиканской душе. Кроме
того, надо ведь и в самом деле создать «корсиканца в музыке»; отчего бы в этом нам не мог помочь «венгр»?
Будет очень хорошо, если такой ненемецкий и неитальянский тип музыки
получит права гражданства.
С этим текстом Вы
могли бы обходиться гораздо непринужденней, чем с каким-нибудь греческим (у
меня во всяком случае ужасный страх перед греческими текстами, а любая античная
статуя смотрит на меня
245
так, будто хочет сказать: «я и ваша музыка — мы не выносим друг
друга!» Пардон, мой скепсис совершенно не должен передаваться Вам,
драгоценный друг!
Почитайте, пожалуйста, на пробу южные народные песни, а в сумме — постарайтесь отнестись с терпением к другу, который почти что испытывает потребность в том, чтобы Вам удалось в высшем смысле то, что не удалось всей его жизни.
Всем сердцем Ваш
Н.
221 Франциске
Ницше в Наумбург — Зильс-
(…) Я работаю, как только мне преподает полчаса здоровья, так что и от этого лета есть своя «выручка». Странно! Энгадин кишит людьми, которые меня знают, и если бы у меня хватало времени на то, чтобы быть «тщеславным», я бы уже создал вокруг себя небольшую «свиту». Не проходит и дня, чтобы мне не уделяли особого внимания, а что касается предложений вроде того, чтобы почитать мне вслух, помузицировать для меня и т. д., то со мной обходятся, как с принцем. Но «отшельник из Зильс Марии» старается хранить свое «достоинство» и все меньше подпускать к себе. Я уже и не ем больше в обществе (кроме того, которое мне «дано»). Две англичанки, мать и дочь, и одна старая русская придворная дама по-настоящему заботятся обо мне, примерно, как две добрые тетушки. Замечательный музыкант и композитор, которого пригласила к себе в гости русская дама, сопровождает меня во время прогулок[194]. Если он занят, то вместо него это делают две хорошенькие юные графини или бывший ученик Пфорты*, который здесь со своей сестрой, или профессор Лескиен и доктор Брокгауз из Лейпцига, или голландец с Явы, родственник моих двух англичанок и т. д. Так что, моя славная милая мама, теперь ты можешь себе по крайней мере представить, что поделывает твой сын. Хуже всего то (скажу тебе на ухо), что у него совершенно нет денег!
Сердечно твой Ф.
*У Н. к
этому месту сноска: «доктор Фритш из Гамбурга, один из немногих, кто вечерами в
Пфорте усаживался слушать, как я импровизирую на рояле».
246
222 Францу Овербеку в Базель — Лейпциг, 17
октября 1885
Дорогой друг,
…на сей раз ты был единственным, кто прислал мне свои пожелания1; я долго думал над этим фактом сорокаоднолетней жизни. В каком-то смысле это и результат, и, возможно, не только печальный — если позволительно вообще делать смысл своей жизни объектом познания. Это познание связано с отчуждением, отдалением, возможно, и охлаждением. У тебя не раз уже был повод отметить, что шкала «замерзания» стала прямо-таки моей специальностью; это оттого, что так долго живешь «на высотах», «на горе», или, как вольные птицы, «в воздухе», — становишься восприимчив и все восприимчивей к малейшим дуновениям тепла, становишься так благодарен за дружбу, мой дорогой старый друг!
Два дня был в Наумбурге, «празднуя» мой день рождения. Все время болен… Плотное мглистое небо; думаю, был там в последний раз.
Доктор Ферстер вызвал у меня даже некоторую симпатию, в нем
есть нечто душевное и благородное, и кажется, что он создан для практической
деятельности. Он поразил меня тем, сколько всего он за это время устроил и
насколько легко ему это далось, — в этом мы с ним сильно отличаемся друг от друга. Его суждения, как и следовало
ожидать, не совсем в моем вкусе — как-то он слишком спор во всем: я имею в
виду, что мы (ты и я) находим такого рода умы незрелыми.
Читанное мною как-то прежде описание Ферстера в «Таймсе» я нахожу объективным.
Тем временем
история со Шмайцнером все движется и движется куда-то — совершенно не могу сказать,
что «вперед». С прошлого понедельника, когда в 5 часов дня должно было быть
вынесено торжественно обещавшееся решение, — глубокое молчание. Предполагается
продажа с торгов, с июня все его издательство описано судебными исполнителями и
находится под залогом. Учитывая, что может состояться аукцион, надо бы
попытаться заполучить в свои руки все мои произведения, чтобы передать их потом
новому, более достойному, издателю (вероятно, Файт и компании, т. е. Креднеру в
Лейпциге). Но это только программа. Дело пока неясное.
Вчера я обнаружил
присланную мне книготорговцем книжку Рэ «Возникновение совести» и, бегло
просмотрев ее, возблагодарил судьбу за то, что два или три года назад я запретил
посвящать мне это произведение. Убого, необъяснимо «дряхло».
247
Одновременно, по милой иронии судьбы, пришла книга фройляйн Саломе, которая, наоборот, очень меня тронула. Какой контраст между девичьей сентиментальной формой и насыщенным волей и мыслью содержанием! В книге есть высота, и что-то влечет к ней эту псевдодевушку — если не вечная женственность, то уж наверное — вечная мужественность1.
Кстати, сотни отголосков наших таутенбургских разговоров.
Передай от меня самый сердечный привет твоей милой супруге (кстати, Ферстер рассказывал о чудесной встрече с вами, а я-то думал, что он вам совершенно незнаком).
Твой верный Н.
223 Рейнхарту и Ирене Зайдлиц в Мюнхен [Ницца, 24 ноября 1885]
Мои милые друзья,
сделав небольшой крюк через Флоренцию — ничто в моей жизни не обходится без окольных путей, — я наконец прибыл в свою резиденцию Ниццу и моим энгадинским отшельничеством в Зильс-Марии будет разыгрываться теперь оставшееся действие моей жизни, в которое премило входят чудесные интермеццо пребываний в Венеции и катаний втроем на гондолах! С каким замечательным провиантом, англо-американским, как это назвали бы здесь, выехал я из вашего Мюнхена! С какими же сердечными воспоминаниями я смаковал каждый глоточек и пережевывал каждый кусок (хорошо жевать значит пережевывать каждый кусок от 30 до 70 раз: эту премудрость я постиг у филистера Глэдстона, который заставляет своих детей за столом вести подсчеты).
Здесь я живу на Square des Phocéens2, у моря; особый космополитизм, заложенный в этом словосочетании, доставляет мне удовольствие. На самом деле здесь когда-то жили греки.
Во Флоренции я нанес нежданный визит местному астроному в его обсерватории, из которой открывается замечательный вид на весь город и долину с рекой. Подумать только, рядом с рабочим столом у
248
него лежали
порядком уже зачитанные книги вашего друга и что этот совершенно седой старик с
воодушевлением цитировал места из «Человеческого, слишком человеческого».
Образ этого полного и высокого отшельничества был самым драгоценным подарком, который я взял с собой из Флоренции, но вместе с тем — и болезненным уколом, укором совести. Поскольку этот одинокий исследователь явно продвинулся в жизненной мудрости (а не только в открытии комет и туманностей Ориона) дальше, чем ваш друг.
В ведь он еще и здоров. Если же философ болен, то это практически аргумент против его философии. (…)
224 Бернхарду
и Элизабет Ферстер в Наумбург [Ницца, конец декабря 1885]
Мои дорогие,
(…) днем я получил вашу чудесную посылку; цепочка тут же повисла на шее, а милый календарик заполз в карман куртки. Вот только «деньги», очевидно, ускользнули, если вообще они были в письме (наша мама писала об этом). Простите вашему слепому кроту, что он распаковывает свой скарб прямо на улице: должно быть, пока я так рьяно искал письмо, что-то могло незаметно выскользнуть. Надеюсь, что рядом оказалась какая-нибудь бедная старушка и нашла таким образом на улице своего «рождественского малютку».

249
Затем я поехал на своей[195]
полуостров Сен-Жан, обошел всю береговую линию и наконец уселся среди молодых
солдат, которые играли в кегли. Живые изгороди из роз и герани, все зеленое,
теплое — совсем не по северному! Тут я опорожнил три огромных стакана
сладкого местного вина, после чего стал даже малость выпимши; по крайней мере
волнам, когда они слишком ретиво накатывали на берег, я приговаривал, как
курам: «цып, цып, цып!»[196].
Затем я отправился обратно в Ниццу и прямо-таки по-княжески отужинал в своем
пансионе рядом с украшенной огнями рождественской елкой. Вообразите только, что
я нашел здесь роскошного кондитера, который знает, что такое «сырный пирог». Он
рассказал мне, что вюртембергский князь заказывал у него такой к своему дню
рождения, — это мне вспомнилось в связи со словом «княжеский». (…)
NB. Я снова научился спать без снотворных[197].
225 Элизабет
Ферстер[198]
в Наумбург [Ницца, 7 февраля 1886]
Моя дорогая старушка Лама,
только что получил твое милое и азартное предложение, и если это сможет пригодиться для того, чтобы внушить твоему супругу (хотя у него сейчас наверняка полно других забот, чтобы еще и «беспокоиться» обо мне) хорошее мнение о неисправимом европейце и антиантисемите, твоем пропащем братце-бездельнике Фрице, то я охотно отправлюсь по стопам фройляйн Альвинхен и буду настоятельно просить, чтобы и меня на тех же самых условиях сделали южноамериканским землевладельцем, только вот с тем непременным отличием, чтобы этот кусочек земли назывался не Фридрихсландом или Фридрихсхайном (потому как не хочу я на нем «помирать и в сыру могилку ложиться»), а в память о том, как я тебя окрестил, Ламаландом.
Если говорить серьезно, я бы отправил тебе все, что у меня есть, если бы это только могло помочь в ближайшем времени вернуть тебя обратно. В сущности, все люди, которые тебя знают и любят, придерживаются того мнения, что было бы в стократ лучше, если бы весь этот эксперимент обошел тебя стороной. Пусть даже эта земля замечательно подходит для немецкой колонизации, никто на свете не согласится с тем, что именно вы призваны быть этими самыми колонистами; это кажется скорее каким-то своевольничаньем, прости уж это выражение, кроме того, опасным своевольничаньем, по крайней мере для Ламы,
250
которая привычна к нежной культуре и именно в ней лучше всего произрастает[199]. Всевозможное подогревание чувств, ставших причиной всей этой истории, для Ламы (верней, для нашего фамильного «типажа», всегда владевшего искусством примирять контрасты) по-тропически экспансивно, а по-моему, даже и не здоро́во; без ненависти и подозрений человек остается и лучше, и моложе. Наконец, мне все время кажется, что даже для специфически германских устремлений и задач ты по своей натуре могла бы оказаться полезней здесь, в Европе, нежели там, — причем именно как супруга доктора Ферстера, чье настоящее предназначение, как я давеча, читая его статью об образовании, вновь ощутил, — быть директором образовательных учреждений в каком-нибудь Шнепфентале, а не агитатором в, прости уж своего брата, на три четверти паршивом и грязном движении. В чем Германия сейчас срочно нуждается, так это как раз в независимых образовательных учреждениях, которые бы на деле могли противопоставить себя <общегосударственной> дрессировке рабов государства. Доверие, которое доктор Ферстер снискал у северогерманского дворянства, мне кажется, служило бы надежной порукой тому, что подобного рода Шнепфенталь или Хофиль (помнишь? это место, где учился старик Фишер) просто расцвет бы под его руководством. Но там, в Новом Свете, среди крестьян, рядом со ставшими совершенно несносными, должно быть обозленными и обозлившимися немцами — что ни говори, тут есть о чем забеспокоиться. И этот дурацкий огромный океан между нами! От каждого <вашего> урагана, весть о котором доходит сюда, твоего брата трясет, и он спрашивает себя: как же это, ради всего святого, вышло, что Лама пустилась в такую авантюру?.. Только что я получил ответ от придворного капельмейстера в Карлсруэ (которому я написал по просьбе бедняги Кезелица), что моя рекомендация («рекомендация человека, энтузиастом которого я являюсь») заранее настроила его в пользу <присланного> произведения. Но в то время как я всем сердцем радуюсь этому, мне приходит в голову, что вы скажете на это: «Но он же всего лишь еврей!» И это, я думаю, отражает то, как Лама выскочила из традиций своего брата: у нас нет больше общих радостей[200]
Но тут уж ничего не поделаешь, жизнь — это эксперимент. Пусть человек делает то, что хочет, — ведь он слишком дорого платит за это. Вперед, моя милая старая Лама! И отваги тебе к тому, на что ты решилась!
Твой Ф.
226 Эрвину
Роде в Тюбинген — Ницца (Франция) rue
St. François[201] de Paule 26 II — 23 февраля 1886
Мой дорогой старый друг,
моя мать сообщила мне недавно, что тебя зовут работать в Лейпциге: я давно уже не испытывал такой радости, как от этого известия! С тех пор я снова и снова представляю себе, что этот год сведет нас друг с другом… Не могу даже выразить, до чего меня греет и ободряет эта надежда. Прошедшей осенью я некоторое время был в Лейпциге: так, незаметно, чуть ли не тайком, почти исключительно по своим делам, но словно согретый яркими воспоминаниями о тебе и нашей прежней общности в этом городе… Мне кажется сейчас сном то, что я когда-то тоже был таким вот полным ожиданий существом, филологом среди филологов. Ничто из этого не осуществилось, или, как, должно быть, вы говорите теперь друг другу: «Он ничего не осуществил». К тому же я не стал богаче друзьями: жизнь поставила передо мной обязанность, которая все более связана со страшным условием одинокости ее осуществления. Едва ли мне могут сопереживать; то, что даже у знакомых я встречаю теперь грубое непонимание, я считаю уже едва ли не само собой разумеющимся и бываю признателен от всей души за малейшую тонкость интерпретации, даже за добрую волю к такой тонкости. Я осел[202], это несомненно. Мой дорогой старый друг Роде, мне кажется, ты лучше разбираешься в жизни благодаря тому, что ты устроил себя в ней*; в то время как мне она видится все более издали, хотя, возможно, и все более отчетливей[203], все ужасней, все обширней, все притягательней. Но горе мне, если я однажды не смогу более выносить этого отчуждения! Стареешь, тоска все больше овладевает тобой — уже сейчас мне, как царю Саулу, требуется музыка — по счастью, небо подарило мне моего Давида[204]. Человек подобный мне, profondement triste1, не может долго уживаться с вагнеровской музыкой. Нам нужен юг, солнце «любой ценой», ясное, бесхитростное, невинное моцартовское счастье и нежность в тонах. В сущности и люди вокруг меня должны быть того же свойства, что и та музыка, которую я люблю: такие, среди которых можно немного отдохнуть от себя и посмеяться над собой. Но не всякий, желающий найти, может искать — так что я вот сижу, и жду, и ничего не дожидаюсь, и в результате не умею рассказать моему старому другу ничего лучшего, как то, что я один.
Передо мной лежит твое последнее письмо, возможно, что я только сейчас отвечаю на него, хотя с тех пор утекло уже изрядно времени
252
(письмо от 22 декабря 1883). Не обессудь твоего молчаливого друга, которому очень во многом приходится нелегко и который научился бояться раскрывать рот. Не успеешь оглянуться, как уже вырвалась жалоба, — а нет на свете ничего глупее, чем жаловаться. Это унижает нас, даже перед лучшими друзьями[205].
Ответь мне на это что-нибудь в знак того, что я тебе еще дорог, мой старый друг Роде. И скажу еще раз: я радуюсь твоему счастью больше, чем своему собственному. Передай своей супруге привет от незнакомого отшельника и погладь от моего имени своих детей. С любовью
Твой верный друг
Ницше
*Видимо, Н.
имеет в виду прежде всего семейную жизнь. Похожее по настрою письмо он напишет
25 марта Овербеку: «Тебе благодаря твоей супруге станет лучше, чем мне: у вас
общее гнездо, у меня же в лучшем случае — пещера, в которой я
могу вертеться и поворачиваться как захочу. Мне говорят здесь, что я всю зиму,
несмотря на многочисленные тяготы, всегда был в «блестящем настроении»; сам же
я признаюсь себе, что всю зиму я profondement triste, день и ночь мучим своими проблемами… а эпизодическое общение с людьми
воспринимаю как праздник, избавление от «себя». Глубокое непонимание веселости!»
227 Генриху
Кезелицу в
(…) Последнее музыкальное событие: здесь был «русский хор», который проехался по всей Европе и тут в Ницце, где обосновалось немало русских, имел большой успех. Не у меня, хотя сами по себе кунштюки хорового пения — пианиссимо, ускорения темпа, какой-то чистый девичий звук голосов — наверняка заслуживают высокой оценки. Однако сами вещи частью были недостаточно русскими (залетевшими туда когда-то из Германии или Италии или Турции?), частью же русскими, но только по смыслу и инстинктам человека низкого сословия (с какой-то тоской крепостного, слышащейся даже в самых бодрых песенках); совершенна отсутствовала мужская нота, интонация господствующего сословия, ее гордость…
Я еще не поблагодарил вас за Ваше письмо, дорогой друг. (…) Композитору нелегко выносить жизнь, если он пишет одни только партиту-
253
ры для будущего. Есть нечто гротескное в Ваших дрезденских впечатлениях, с которыми я мог бы сопоставить пару своих эпизодов, связанных с тем же Дрезденом, — почти каждую неделю этот курьезный город снова обращает на себя мое внимание. (…) На прошлой неделе один тамошний поэт предлагал мне свою дружбу: его сердце раскрылось навстречу мне, как розовый бутон*. Буквально! На подобные курьезы я больше не отвечаю. (…)
Эту зиму я использовал для написания чего-то такого, в чем полно трудностей, так что решимость это издать мне то и дело изменяет. Называется:
По ту сторону добра и зла
Пролог
к философии будущего (…)
*Это письмо
написал Юлиус Лангбен, вновь появившийся в жизни Н. в 1889—1890 годах (см. 4-й
раздел этой книги). После того как Н. не ответил на первое письмо Лангбена, 11
мая 1886 года тот предпринял новую попытку сближения: «Я боюсь, что после
предыдущего письма Вы считаете меня человеком нескромным либо энтузиастом. Я ни
то и не другое. Не разрешите ли Вы мне сблизиться с Вами указанным образом? Я
даю слово, что Вы не пожалеете об этом решении. Принесите жертву незнакомому
Богу, и он улыбнется Вам».
228 Карлу
Фуксу в Данциг [Ницца, предп.[206]
середина апреля 1886]
Уважаемый и дорогой господин доктор,
Вы ведь знаете, даже и без письменных заверений (которые с каждым годом даются моим глазам всё с бо́льшим трудом), что едва ли возможно следить за вашими исследованиями и изысками с бо́льшим участием, чем это делаю я. Если бы только это мое «участие» могло что-то дать! Но мне не хватает ни знаний, ни способностей во всех тех вещах, где проявляется Ваш удивительно многообразный талант. Прежде всего, уже много лет никто, включая меня самого, не пишет ту музыку, которая мне нужна. Последним, что я основательно усвоил, была «Кармен» Бизе — при этом у меня родилось немало задних мыслей, отчасти совершенно крамольных, по поводу всей немецкой музыки (которую я расцениваю почти так же, как и всю немецкую философию). А кроме
254
того, это музыка непризнанного гения1, который так же, как и я, любит юг, испытывает потребность в южной наивности и наделен мелодическим даром. Слабость мелодического чутья, которую я наблюдаю при каждом соприкосновении с немецкими композиторами, все возрастающее внимание к отдельным аффектированным жестам (думаю, Вы называете это «фразами», мой дорогой господин доктор?), равно как и все бо́льшая отточенность в преподнесении частностей, в риторических художественных средствах музыки, в актерском искусстве представить отдельный момент настолько убедительно, насколько это вообще возможно, — все это, мне кажется, не только уживается одно с другим, но и практически обуславливает одно другое… Вагнеровское понятие «бесконечная мелодия» наилучшим образом выражает заключенную здесь опасность порчи инстинкта и сопутствующею этому благую веру, подкрепленную чистой совестью. Ритмическая двусмысленность, когда ты уже не знаешь и знать не должен, хвост перед тобой или голова — это без сомнения такое художественное средство, с помощью которого можно добиться удивительного эффекта. Особенно богат этим «Тристан». Тем не менее как явление симптоматичное для искусства в целом, он служит и останется символом разрушения. Часть начинает властвовать над целым, фраза — над мелодией, мгновение — над временем (в том числе и темпом), пафос — над этосом (характером, стилем, называйте этот как хотите), в конечном счете, и эспри — над «смыслом». Простите, но мне кажется, что действительно произошло некое смещение перспективы: люди слишком остро видят детали, в упор не видят целого, у них, несомненно, есть воля к подобной музыкальной оптике и прежде всего — талант для нее. Но это же — декаданс (думаю, нам обоим очевидно, что это слово призвано не клеймить, а лишь характеризовать). Пример тому для меня — Ваш Риманн, равно как и Ваш Ганс фон Бюлов, равно как и Вы сами, умеющий давать утонченнейшие интерпретации потребностям и изменениям anima musica2, которая в общем и целом должна быть лучшей частью того, что составляет âme moderne3. Я объясняю это ужасно нескладно в отличие от Вас; я просто хочу сказать, что даже в декадансе есть огромное число притягательных, ценных, новых, заслуживающих всяческого уважения вещей — к примеру, наша современная
255
музыка и те, кто наподобие трех вышепоименованных служит ее верными и отважными апостолами. Не обессудьте, если при этом я добавлю: от чего декадентский вкус бесконечно далек, так это от большого стиля, к которому относится, к примеру, палаццо Питти, но не Девятая симфония1. Большой стиль как высшая ступень искусства мелодии.
Наконец, еще пара слов об очень значительном теоретическом разночтении между нами, а именно — в том, что касается античной метрики. Разумеется, сейчас я уже едва ли вправе дискутировать об этих вещах, однако я был более чем вправе говорить об этом в 1871 году, который я провел за удручающим чтением греческих и латинских метриков, придя в итоге к совершенно удивительному результату… Тогда я изо всех сил возражал, в частности, против того, будто немецкий гекзаметр может иметь что-либо общее с греческим. Я утверждал, что грек, декламируя стихи Гомера, не прибегал ни к каким другим ударениям кроме тех, которые имеются в самих словах, что ритмическое очарование было заложено именно в протяженности слогов и их соотношениях, а не в прыжках ударения, как в немецком гекзаметре. (…) Мы едва ли способны почувствовать ритмику, в основу которой положена только лишь долгота слогов, настолько мы привыкли к ритмике аффектной, ритмике усиления и ослабления, крещендо и диминуэндо2.
229 Францу
Овербеку в Базель [Зильс-
Дорогой друг,
я тоже очень хотел повидаться с тобой в этом году, но я уже вижу, что ничего не получается. Мое намерение провести лето в Тюрингском лесу, а осень в Мюнхене натолкнулось на форс-мажор (вернее, минор) моего здоровья. Жизнь в теперешней Германии для меня совершенно невыносима, она действует на меня, как отрава, как парализующий яд (…) Каждая поездка в Германию до сих пор ослабляла мои силы; к сожалению, подобные поездки по тем или иным причинам все время были нужны. Однако последней моей поездкой1[207] (дурных последствий которой я до сих пор еще не преодолел) я отчасти доволен, поскольку благодаря ей многое удалось если не привести в порядок, то по край-
256
ней мере прояснить (так что отныне нужда в подобных визитах будет, я надеюсь, возникать все реже). (…)
Фрицш все еще не договорился со Шмайцнером, но, возможно, к этому все же идет, поскольку Фрицш, похоже, придает большое значение тому, чтобы у него в издательстве был «полный Ницше» — так же, как полный Вагнер: соседство, которое мне тоже глубоко импонирует. Поскольку в конечном счете Рихард Вагнер было до сих пор единственным, по крайней мере первым, кто почуял, о чем в моем случае идет речь (про что, к примеру, у Роде, к моему сожалению, нет даже и тени представлений, не говоря уж о чувстве долга передо мной). В этой университетской атмосфере вырождаются даже лучшие: я чувствую постоянно, что на заднем плане и в качестве последней инстанции даже у таких натур, как Роде, — проклятое заурядное безразличие и отчаянный недостаток веры в свое дело. (…) Мои переговоры со всевозможными издателями указали мне в итоге один-единственный выход: я делаю попытку издать что-то на свои средства. Если будет продано 300 экземпляров, я покрою эти расходы и смогу при случае повторить эксперимент. Весьма уважаемая фирма К. Г. Науманн предлагает свои услуги в этом. Но это между нами. Шмайцнеровская безалаберность была чудовищной: за 10 лет ни одного экземпляра не роздано книготорговцам, равно как и редакциям… никакой рекламы — короче, мои книги, начиная с Человеческого, слишком человеческого», суть «anecdota[208]». Каждого «Заратустры» продано по 60—70 экземпляров и т. д. и т. д.. Шмайцнер каждый раз извиняется тем, что, дескать, уже 10 лет как ни один из моих друзей не отваживается вступиться за меня. Он хочет 12 500 марок за мои произведения. (…)
230 Генриху
Кезелицу в
Дорогой друг,
меня очень радует, что моя новая книга тоже приходится Вам по вкусу. Правда, в этом отношении Вы едва ли сможете найти себе компанию, зато другим я в свое утешение могу теперь при случае сказать: «Если вам нет дела до моих произведений, то причина тут, вероятно, в том, что вы недостаточно сделали для них!» В то время как у Вас, мой дорогой улучшатель, орфограф и сотрудник, было из-за меня столько
257
хлопот! Ничуть не
удивительно, что Вам мои вещи кажутся более доступными, чем моим друзьям!
Думаю, Вам будет хорошо понятна та трудность, с которой я столкнулся на этот раз, то есть непосредственно после «Заратустры»: как вести речь (более того, найти точку, с которой я мог бы вести речь). Однако сейчас, когда я вижу эту книгу уже довольно отчетливо, мне кажется, что я преодолел эту трудность сколь изобретательно, столь же и добросовестно. Чтобы иметь возможность вести речь об «идеале», нужно создать дистанцию и найти какую-то точку, которая находится ниже, — и здесь мне на выручку пришел уже готовый образ «свободного ума».
(…) В середине сентября я отправлюсь отсюда в Геную, чтобы вместе с бравым и сердечным, хотя несколько меланхоличным Ланцким*, тщательно осмотреть сперва Раппало и Санта-Маргерита, затем окрестности Генуи, а затем Алассио и другие маленькие местечки на Ривьере и в зависимости от результата остаться в одном из них или же приземлиться в Ницце. В случае если Вы со своей стороны отправитесь тем же маршрутом, (…) какой же радостью будет для меня послужить Вашим чичероне там <в Раппало> и в Генуе. Мы навестили бы все мои скромные траттории, поднялись бы на мрачные бастионы и на моем бельведере в Сампьердарена[209] выпили бы оп стакану монтеферрато!1[210] В самом деле, я даже не знаю, что еще могло бы меня так порадовать. К этому генуэзскому куску своего прошлого я отношусь с большим почтением… там было ужасно одиноко и сурово[211]. (…)
Занятная новость!.. у меня тут снова объявился образцовый экземпляр литературной бабенки, мисс Элен Циммерн (собственной персоной познакомившая англичан с Шопенгауэром), — я думаю даже, что она перевела и «Шопенгауэра как воспитателя». Естественно, еврейка — с ума можно сойти, с какой степени «духовность» в Европе сейчас находится в руках этой расы (сегодня она много рассказывала мне о своей расе**). (…)
*В письме
матери 19 сентября 1886 Н. сообщает об изменении своих планов: «Я передумал
насчет совместного пребывания с господином Ланцким: я вдруг испугался, что он
снова будет надоедать мне так же, как два года назад».
**Спустя
два месяца в письме матери Н., также в связи с Элен Циммерн, развивает эту
тему: «Да сжалятся небеса над европейским ра-
258
зумом,
если из него вычтут разум еврейский! Мне рассказывали об одном молодом
математике в Понтрезине, который от возбуждения и восхищения по поводу моей
последней книги потерял всякий сон. Когда я расспросил подробней, оказалось,
что это — опять же еврей (уж немец-то не даст так легко лишить себя сна)».
231 Якобу
Буркхардту в Базель — Зильс-
Глубокоуважаемый господин профессор,
меня печалит, что я так давно с Вами не виделся, не разговаривал. С кем же мне еще может быть охота поговорить, когда я больше не могу поговорить с Вами? «Silentium»1[212] вокруг меня берет свое.
Надеюсь, что К. Г. Науманн выполнил тем временем свою обязанность и в Ваших руках оказалось мое недавно вышедшее «По ту сторону…». Пожалуйста, почитайте эту книгу (в ней хоть и говорятся те же вещи, что и в моем «Заратустре», но по-иному, совсем по-иному). Я не знаю никого, с кем бы у меня было такое количество общих предпосылок, как с Вами; мне кажется, что в Вашем поле зрения находятся те же проблемы, что Вы схожим образом трудитесь над теми же проблемами, может быть, даже интенсивнее и глубже, чем я, — ведь Вы молчаливей[213]. На то я и младше…[214] Условия, которые для всякого роста культуры поистине зловещи, чрезвычайно сомнительная связь между тем, что зовется «улучшением» (или чуть ли не «очеловечиванием») человека и укрупнением человеческого типажа, и прежде всего противоречие между понятием морали и любым научным понятием жизни, — словом, здесь есть проблема, которая, к счастью, как мне кажется, может объединять нас с не слишком многими среди живущих и умерших. Высказать ее, быть может, — самый отчаянный шаг, на какой вообще можно решиться; опасный не в отношении того, кто на него отваживается, но в отношении тех, к кому он направлен. Меня утешает, что пока нет ушей для моих новостей, за исключением Ваших ушей, дорогой и глубокоуважаемый государь, — для Вас же как раз никаких «новостей» тут не будет!
Преданно
Ваш др. Фридрих Ницше.
Адрес: Генуя, до востребования.
259
232 Мальвиде фон Мейзенбуг в Рим — Зильс-
Уважаемая подруга,
Последний день в Зильс-Марии, все птицы уже улетели, небо по-осеннему хмурое, холодает, — итак, «отшельник из Зильс-Марии» должен собираться в дорогу.
Напоследок разослал во все стороны приветы… При этом мне вспомнилось, что Вы уже давно не получали от меня писем. Эти строки я отправляю в Рим, туда же я недавно адресовал и книгу. Ее название — «По ту сторону добра и зла. Пролог к философии будущего». (Простите! Я нисколько не обязываю Вас этим ни читать ее, ни, тем более, выражать свое мнение о ней[215]. Будем исходить из того, что это может быть прочитано году эдак в 200…[216]).
(…) Старик Лист[217], знавший толк в том, как жить и как умирать, все же позволил прямо-таки закопать себя в вагнеровское дело и вагнеровский мир, как если б совершенно неизбежно и неотъемлемо принадлежал к нему. Это огорчило меня до глубины души <не моей даже, но> Козимы: вокруг имени Вагнера все больше подлогов[218], это одно из тех непреодолимых недоразумений, среди которых сегодня слава Вагнера расцвела пышным цветом. Судя по тому, что я до сих пор узнал о вагнерианцах, сегодняшний вагнеризм кажется мне бессознательным сближением с Римом, которое проводит изнутри то же, что Бисмарк осуществляет извне.
Даже моя давняя подруга Мальвида — ах, Вы ее не знаете! — в
всех своих инстинктах истовая католичка, что включает в себя даже равнодушие к
формулировкам и догмам. Одной только ecclesia militans1 требуется быть нетерпимой; всякий
глубокий покой и крепость веры дают разрешение на скепсис, мягкость по отношению к иным и иному…
Под конец
переписываю для Вас пару слов обо мне, которые можно прочесть в «Бунде» (от 16
и 17 сентября). Заголовок: «Опасная
книга Ницше».
«Заряды динамита,
которые использовались при строительстве Готтардского туннеля, были помечены
черными, указывающими на смертельную опасность предупредительными флажками.
Только лишь в этом смысле мы говорим о новой книге философа Ницше как об опасной книге. В эту характеристику мы не вкладываем ни малейшего намека на
порицание автора и его произведения, — равно как и те черные флажки не были
вывешены в порицание взрывчатке. Еще меньше могло прийти нам в голову отдать
одинокого мыслителя на откуп церков-
260
ным крысам и кладбищенским воронам, указав на опасность его книги.
Взрывчатка, как материальная, так и духовная, может служить очень полезным
вещам; совершенно не обязательно[219], что она будет употреблена в целях
разрушения. Но будет хорошо, если там, где хранится такой груз, будет ясно
сказано: “Здесь лежит динамит!”»*.
Так что будьте, высокочтимая подруга, премного благодарны за то, что я держу Вас от себя немного на расстоянии!.. И за то, что я не стараюсь заманить Вас на свои пути и к своим «выводам». Ибо, еще раз цитируя «Бунд»:
«Ницше — первый, кто указывает новый выход, но этот выход так страшен, что можно порядком испугаться, ступив на эту одинокую, еще не хоженую тропу!»…
Одним словом, Вас от всего сердца приветствует
Отшельник из
Зильс-Марии.
*В письме Кезелицу 31 октября того же года Н. уже не бравирует этой
статьей, а выражает тревогу по поводу того, что «славные обитатели Зильс-Марии
вовсю читали и истолковывали эту статью. Возможно, в Зильсе я был в последний
раз».
233 Генриху
Кезелицу в Мюнхен — примерно в 400 метрах над уровнем моря, на дороге, ведущей
над ущельем Портофино. Рута Лигуре, 10 октября 1886
Дорогой друг,
всего одно слово из этого диковинного уголка, в котором я куда больше, чем в Мюнхене, предпочел бы Вас видеть. Вообразите себе остров греческого архипелага с прихотливо разбросанными по нему лесами и горами, который по воле случая причалил однажды к материку и уже не может вернуться назад. В нем есть что-то греческое, несомненно; с другой стороны, нечто пиратское, внезапное, скрытое, опасное; и наконец… это кусок тропического пиниевого леса, благодаря которому словно переносишься из Европы в Бразилию, как уверяет мой сосед по столу, объездивший всю планету. Никогда я еще не проводил столько времени просто лежа на земле, в настоящей робинзоновской оторванности и забвении; еще я часто развожу перед собой большой костер. Смотрю, как ясное беспокойное пламя с его бело-серым чревом

устремляется к безоблачным небесам, — кругом вереск и та октябрьская благодать, которая знает толк в сотне оттенков желтого, — ах, дорогой друг, такое счастье позднего лета сказало бы нечто и Вам, быть может, даже больше, чем мне! (…)
234 Францу
Овербеку в Базель — Рута Лигуре, 12 октября 1886
(…) Я надеюсь и желаю, чтобы прошло еще немало времени
прежде, чем придет понимание меня. лучше всего, чтобы это было лишь после моей
смерти. Меня по-настоящему успокаивает, что даже такой тонкий и благожелательный читатель, как ты, все еще
остается в сомнении насчет того, чего я собственно хочу. Мой страх возрастал
как раз в противоположном направлении, а именно — что я на сей раз выразил себя
слишком явно и раскрыл «себя» прежде времени. Очевидно, что я должен дать
сперва немало воспитующих исходных посылок, прежде чем наконец выращу себе
своих читателей — я имею в виду читателей, которые смогут увидеть мои
проблемы и не разбиться о них. (…)
Недавно полученное письмо Я. Буркхардта опечалило меня, несмотря на то, что было полно высших похвал. Но что мне теперь от того! Я жаждал услышать: «Это и моя нужда! Это заставило меня онеметь!»[220] Только лишь в этом смысле, мой старый друг Овербек, я страдаю от своего «одиночества». Я нигде не испытываю недостатка в людях, за исключением тех, с кем бы я мог разделить мои заботы, мои тревоги! Это, впрочем, старая история, и я прекрасно доказал, что могу перенести и это. (…)
262
235 Франциске Ницше в Наумбург — Ницца, 13
ноября 1886 — pension de Geneve
(…) Ты права, было бы стократ благоразумней и надежней
передать <мои> деньги тебе, но мне все
же кажется лучше оставить так, как сейчас, чтобы я всегда мог иметь наличными
то, что понадобится. Кстати, в практических делах этого рода я действительно
веду себя неумело и очень тяжел на подъем. Думаю, что в сущности я бы больше
всего предпочел, как какой-нибудь крестьянин, закопать деньги в землю до тех
пор, пока они мне не понадобятся. Вся эта идея сделать меня землевладельцем в
Парагвае* имеет, кстати, еще и тот недостаток, что из-за этого мне могут отказать в
пенсии в Базеле, — я ведь на нее больше не вправе претендовать. Или одно — или другое. «У Ницше полно земли и уйма скота» — в бережливом и рассудительном
Базеле это был бы аргумент, на основании которого меня с чистой как стеклышко
совестью лишили бы пенсии. (…)
У нас мрачная
погода, много дождей; еще был сильный штормовой прилив, вызвавший немало повреждений.
Меня самого одна большая волна застала врасплох, так что я залез от нее на
дерево.
С сердечнейшим приветом и благодарностью твой Ф.
*Эти
финансовые заботы связаны с тем, что «мои близкие в Парагвае прислали мне подробный
план своего колониального предприятия и хотят, чтобы я вложил в него свои
деньги, которые лежат в Наумбурге», как пишет Н. Овербеку 27 октября 1886 года.
Овербек, бескорыстно занимавшийся всеми финансовыми делами Н. в Базеле,
отсоветовал это делать. «Не усложняй свое положение еще и таким образом и по
возможности не позволяй распоряжаться твоим состоянием», — пишет он 29 октября.
236 Францу
Овербеку в Базель — Ницца, 14 ноября 1886
(Антиномия моего нынешнего положения и моей формы существования заключается в том, что, нуждаясь как philosophus radicalis в свободе от профессии, женщины, детей, общества, отечества, веры и т. д. и т. д.[221], я чувствую себя в то же врем лишенным всего этого,
поскольку я, к счастью, живое
существо, а не просто анализирующая машина и объективирующий аппарат. Я должен
добавить, что эта противоположность необходимого и отсутствующего заострена до
предела ужасающей нехваткой хотя бы относительно приличного здоровья, —
поскольку в моменты, когда я здоров, я переношу эти лишения гораздо легче. И еще я совершенно не умею
свести воедино те 5 условий, на которых можно было бы восстановить сносную норму моего шаткого
здоровья. Однако хуже всего было бы, если бы я ради этих 5 условий здоровья лишил
себя 8 свобод[222]
philosophus radicalis. Вот это кажется мне объективным выражением моего
сложного положения… Извини! Или, скорее, ты вправе посмеяться над этим!
237 Генриху
Кезелицу в Мюнхен — Ницца, [19 ноября 1886]
Уж как часто я о Вас вспоминал в эти дни. Мне бы хотелось видеть Вас здесь, чтобы потолковать на эстетические темы. По правде, in puncto musicæ у меня сейчас наблюдается отсутствие эстетики, я хочу сказать, что у меня есть «вкус»[223] (например, к Пьетро Гасту), но нет логики этого вкуса, нет оснований, императива для него[224]. Даже по психологическим прикидкам проблема «почему мне нравится Ваша музыка» представляется мне пока неразрешимой. Вы сами стали для меня при этом загадкой и, что удивительно, по некотором размышлении я обнаружил совершенно родственную проблему в отношении моего собственного творения («Заратустры»). Мы оба со всей удалью и охотой говорим на «народном языке»[225], совершенно как на родном, и при этом мы — ироничные типы, чье утонченное наслаждение в том, чтобы на такой манер заниматься переводом своего отъявленно современного и проблемного склада обратно на язык «наивности». Не так ли?
Но вот вчера, друг, снизошло на меня это озарение: во-первых, господин Кезелиц должен незамедлительно отправить свою оперу графу Хохбергу в Берлин, сопроводив ее очень внятным, художнически нескромным письмом, в котором с определенностью говорится, чем эта опера является и какое будущее ей суждено. Во-вторых друг Кезелиц должен сочинить литературный манифест, в котором он припишет своей «способности» и своему «вкусу» эстетику и программу. Обратите внимание, какая дезориентация сегодня царит в вопросах эстетики: строгое программное[226] высказывание будет сегодня не только услышано, за него ухватятся с жадностью, за него будут признательны… Требуется анти-
264
романтическое программное[227] высказывание о музыке; чтобы в музыке была не воля к «морали» и «подъему народного духа», но искусство, ars, искусство для художников, некая божественная индифферентность, некая непозволительная лучезарность за счет всех «важных» вещей, искусство как чувство превосходства, как «возвышенность» по отношению к низине политики, Бисмарка, социализма и христианства и т. д. и т. д.
Ах, ну отчего же Вы не в Ницце, дорогой друг?!
Ваш преданный Н.
(…) В те теплые края, куда меня сейчас так зазывают, мне точно нельзя. Каждое письмо из Парагвая демонстрирует шедевры соблазнения — но все напрасно! Я слишком хорошо отдаю себе отчет в том, что меня избаловал холод (кунштюк, с помощью которого мне удавалось продержаться последние 10 лет, заключался в том, что я себя замораживал: мягкий январь, растянутый почти на целый год, комната окнами на север, посиневшие реки, никаких печек, ледяные мысли — ах, об этом мне не следовало бы вам писать?).
Моя соседка по столу сказала недавно как раз в этом смысле, что мое соседство вызвало у нее насморк.
(…) Без сомнения, лучшего, чем сейчас, времени года в Ницце и не придумаешь: сверкающее белое небо, тропически синее море, лунный свет по ночам, перед которым газовые фонари краснеют от стыда: пи я снова и снова, как уже много раз, брожу среди этого, вынашивая свои черные мысли…
Ваш верный старый
отшельничающий друг Ф. Н.
239 Генриху
Кезелицу в Мюнхен [Ницца, 22 декабря 1886]
(…) В прошлое воскресенье я из меланхолии отправился в театр: «Боккаччо»[228], оперетта, которую я теперь знаю на трех языках. Но насколько же лучше оказалась французская интерпретация! Это изящество и тонкость жестов, это глубокое добродушие в интерпретации, это отсутствие немецкой пошлости (а нет ничего пошлее, чем пошлость немца, вероят-
но, оттого, что он
сам ее стыдится). Музыканты играли с жаром и отличным настроем; немецкий
оркестрант про себя думал бы, что он слишком хорош для подобной музыки, и оттого
исполнял бы ее вульгарно. У меня же, что достаточно абсурдно, три или четыре
раза в глазах стояли слезы. Величайшая легкость — вот что трогает меня сейчас
больше всего. (…)
240 Генриху
Кезелицу в Венецию — Ницца rue des
Ponchettes 29 — 21 января 1887
(…) На днях я впервые услышал вступление к «Парсифалю» (его исполняли в Монте-Карло!). При нашей следующей встрече я подробно рассказу Вам, что я в нем понял. Кстати, если не принимать во внимание все побочные вопросы (чему такая музыка могла бы или, скажем, призвана служить?), но говорить чисто эстетически: создавал ли когда-нибудь Вагнер что-либо лучшее? Высочайшая психологическая сознательность и определенность в отношении того, что здесь должно быть сказано, выражено, сообщено; для этого найдена самая краткая и прямая форма; каждый нюанс чувства заострен до предела; отчетливость музыки как дескриптивного искусства, благодаря которой представляешь себе какой-то щит с рельефной чеканкой; и наконец некое тонкое и необычайное чувство, переживание, событие души в основе этой музыки, которое поистине делает Вагнеру честь, — синтез состояний, которые для многих, в том числе и «высших людей», были бы несоединимыми: судящей строгости, «высоты» в пугающем смысле слова, сознавания и видения насквозь, которое будто ножами пронзает душу — и сострадания к тому, что здесь увидено и осуждено. Подобное есть только у Данте, и больше нигде. Найдем ли мы хоть у одного живописца такой печальный взор любви, какой нарисовал Вагнер последними акцентами своей увертюры?
Ваш преданный друг
Ницше
241 Генриху
Кезелицу в Венгрию — Ницца, 13 февраля 1887
(…) Очень издалека ко мне пришло понимание, что мы оба повели себя, как дети, в том, что касается средств и способов, как добиться исполнения этой <Вашей> оперы. Здесь во Франции каких только
266
фокусов не приходится проделать,
прежде чем композитор сподобится услышать свою оперу! Это ведущаяся годами
яростная борьба, в которой прибегают ко всем ухищрениям и уловкам
девятнадцатого столетия. Самое существенное из пускаемых при этом в ход приличных
средств (потому что большинство из них при этом приличными никак не назовешь) —
это эстетические программы, вокруг которых поднимают шум. Если
произведение, будь то картина или опера, не обзавелось себе в поддержку
какой-нибудь «теорией» и не в состоянии составить партию и прежде всего обидеть
другие партии — тог такому произведению увидеть свет просто не светит[229].
Если же (вдруг…) принадлежность к какой-либо партии отсутствует, тогда здесь
нужно a tout prix1 фрондировать против всех партий,
тогда, возможно, что-то и выйдет… (…)
242 Францу
Овербеку в Базель [Ницца, среда 23 февраля 1887]
(…) Еще несколько недель назад имя «Достоевский» мне вообще
бы ничего не сказало — мне, необразованному человеку, который не читает никаких
«журналов»! В книжной лавке я случайно взял в руки только что переведенные на
французский «Записки из подполья» (столь же случайно я открыл для себя на 21-м
году жизни Шопенгауэра, а на 35-м — Стендаля![230]).
Инстинкт родства (а как мне это еще назвать?) заговорил тотчас же, радость моя
была необычайной: мне пришлось воскресить в памяти время знакомства с «Красным
и черным» Стендаля, чтобы вспомнить, когда еще я испытывал подобную радость.
(Это две новеллы, первая — это, в сущности, немного музыки, очень диковинной,
очень ненемецкой музыки; вторая — очень удачный психологический прием, когда
завет γνῶθι
σαυτόν* словно высмеивает сам себя). Кстати говоря: у
этих греков много чего на совести — подделка была их настоящим ремеслом, вся
европейская психология страдает от греческих поверхностей; и когда бы
не капелька еврейства и т. д., и т. д., и т. д. (…)
*Познай самого себя (греч.). 7 марта в письме
Кезелицу Н. развивает эту тему: «Жуткий и жестокий образчик высмеивания максимы
γνῶθι
σαυτόν,
набросанный, однако, с некоторой лихостью и упоением превосходства силы».
243 Рейнхарту фон Зайдлицу в Мюнхен — Ницца,
четверг 24 февраля 1887
(…) Только лишь закончился в Ницце многодневный международный карнавал (на который, замечу, съехалось огромное число испанок), и сразу же следом, через шесть часов после последней жирандоли, мы смогли испробовать новую и еще более редкостную прелесть бытия. Теперь мы живем в занимательнейшем ожидании погибели — благодаря славному землетрясению, которое не только всех псов в округе заставило завыть. Какое удовольствие, когда старые дома над тобой дрожат, как кофемолки! когда чернильница обретает самостоятельность! когда улицы заполняются напуганными полуодетыми фигурами и расшатанными нервами!
Этой ночью, часа в 2–3, я, c
*На 9, 22 и
23 марта были предсказаны повторные точки, в свете чего Н. напишет 7 марта Кезелицу:
«До сих пор я оставался достаточно хладнокровным и посреди обезумевших толп жил
с чувством иронии и холодным любопытством. Однако ручаться за себя нельзя: быть
может, через несколько дней я стану неразумней, чем кто бы то ни было.
Очарование имеет внезапное, imprevu2». Следует, однако, за-
268
метить,
что в последующих письмах Н. не проявляет никакой тревоги по поводу
землетрясения.
244 Эмили
Финн в Санкт-Мориц — Ницца rue des
Ponchettes 29 [около 4 марта 1887]
Милостивая государыня,
спеша засвидетельствовать Вам свою сердечнейшую благодарность за Ваше участие, выраженное с такой теплотой, не могу утаить того, что это — участие незаслуженное: поскольку, сколь бы удивительно это ни звучало, я-то сам слишком легко выпутался из этой катастрофы, чтобы иметь какое-либо право на участие. В целом все было чрезвычайно интересно, еще более — абсурдно, и опасно не более или менее, чем, к примеру, ночная поездка на скором поезде. Газеты ужасно преувеличивали; и напротив, мне кажется, что действительно душераздирающие события, которые разыгрались в маленьких прибрежных городках между Генуей и Сан-Ремо, вызвали слишком мало общественного участия. В Ницце, во всяком случае, эпицентр сдвигов находился не под землей, а в нервах окружающих: здесь подняли такой шум, что вся Европа заинтересовалась нашей «судьбой». Сколько писем я получил! Сколько призывов к бегству! Но в моем личном случае я должен признаться что даже не испугался и, к примеру, в то утро, когда вся Ницца ринулась на улицу и походила на сумасшедший дом, я в неколебимейшем душевном равновесии работал в своей комнате; в двух письмах, которые я написал в тот день, мне случилось забыть о главном событии дня!
Вот видите, несколько я недостоин Вашего сочувствия!
(…) (Дом, в котором возникли два моих произведения, до такой степени покосился и пришел в негодность, что его должны сносить. Это должно порадовать потомков: в паломническом маршруте у них будет одним пунктом меньше.)
Пожалуйста, скажите Вашей высокочтимой подруге, что этой зимой я много размышлял о душевных свойствах русского народа, благодаря выдающемуся психологу Достоевскому, на одну доску с которым, в том, что касается остроты анализа, некого поставить даже современнейшему Парижу. Благодаря ему учишься любить русских, а еще — учишься их бояться. Это народ, который в отличие от большинства европейских народов своих сил еще не израсходовал — ни сил своей воли, ни сил своего сердца. (…)
269
245 Эрнсту Вильгельму Фрицшу в Лейпциг
(на открытке) [Ницца, 6 марта 1887]
Уважаемый господин издатель, только сейчас, а именно по получении последних гранок корректуры, я понимаю, что Вы вовсе не хотите увеличения моей «Веселой науки» за счет запланированной мной пятой книги», по всей видимости, находя это нежелательным с книготорговой точки зрения. Но почему же Вам просто не написать мне об этом? Причем вовремя?! Что касается интересов подобного рода, тут я не советчик, и они меня едва ли затрагивают: какая мне разница, будет ли мое произведение опубликовано сегодня или завтра! Единственное, что приводит меня в содрогание — это то, что проклятым многомесячным ожиданием у меня отнимают время и хорошее настроение.
Итак, мы опускаем Пятую книгу, достаточно предисловия и песен. (Жаль, что ради этой самой Пятой книги я снял жилье в этом гнезде катаклизмов аж до 4 апреля!)
Ваш покорный слуга
доктор Фр. Ницше.
246 Теодору
Фритшу в Лейпциг — Ницца, 23 марта 1887
Милостивый государь,
своим письмом, которое мною только что получено, Вы оказываете мне столь много чести, что я не премину посоветовать Вам обратиться к одному месту из моей литературы, касающемуся евреев: пусть даже я дам Вам этим дополнительное право говорить о моих «ошибочных суждениях». Прочтите, пожалуйста, с. 194 «Утренней зари»1.
Объективно говоря, евреи мне интересней, чем немцы: их история ставит гораздо более основательные проблемы. Вопросы симпатии и антипатии я привык оставлять в столь серьезных случаях в стороне, как того требуют дисциплина и нравственность духа науки, а следовательно — и его вкус.
270
Признаюсь, кстати, что к нынешнему «немецкому духу» я отношусь с такой отчужденность, что не нахожу никакой возможности слишком уж терпеливо взирать на его отдельные идиосинкразии. К последним я в особенности отношу антисемитизм. «Классической литературе» этого движения, прославляемой на стр. 6 Вашей замечательной брошюры, я даже обязан некоторыми мгновениями искреннего веселья: ох, если б Вы знали, как я смеялся прошлой весной над книгами этого столь же напыщенного, сколь и сентиментального упрямца Поля де Лагарда. Очевидно, мне не хватает той «высшей нравственной позиции», о которой на той странице идет речь.
Мне осталось только поблагодарить Вас за благожелательную предпосылку, что «к моим ошибочным суждениям меня сподвигла не какая-нибудь оглядка на общественное мнение»; и, возможно, Вас слегка успокоит, когда я скажу напоследок, что евреев среди моих друзей нет. Впрочем, как и антисемитов.
Разве я оставляю своей жизнью какую-нибудь возможность тому, чтобы чьи-либо руки «подрезали мне крылья»?
Сим вопросительным знаком препоручаю себя Вашим благим
пожеланиям, а также — Вашим дальнейшим размышлениям…
Преданнейше Ваш
профессор доктор Ницше
Одно пожелание: опубликуйте как-нибудь список немецких ученых, художников, поэтов, писателей, актеров и исполнителей[231] еврейской национальности или еврейского происхождения: вот была бы действительно ценная информация по истории немецкой культуры (а также — по ее критике!)
247 Францу
Овербеку — Ницца, четверг 24 марта 1887
(…) Кстати, вот занятный фактик, который все больше и больше доходит до моего сведения. Я, оказывается, имею прямо-таки «влияние» — очень, само собой разумеется, подпольное. У всех радикальных партий (социалистов, нигилистов, антисемитов, христианских ортодоксов, вагнерианцев) я пользуюсь удивительным и, в общем-то, загадочным авторитетом. Предельная прозрачность атмосферы, в которую я себя поместил, соблазняет… Я могу даже злоупотреблять своей прямотой, могу браниться, как это случилось в моей последней книге, — и этому огорчаются, твердят, должно быть, «чур меня!», но освободиться от меня никак не могут. В «антисемитской корреспонденции» (которая рассы-
271
лается сугубо приватным образом, только «надежным товарищам по партии») мое имя упоминается почти в каждом номере. Антисемитов сподвиг на такое «божественный человек» Заратустра; у антисемитов существует даже его собственная интерпретация, которая меня очень распотешила. (…)
248 Генриху Кезелицу в Венецию (на открытке)
[Ницца, 27 марта 1887]
Дорогой друг, у меня болят глаза: простите, если я только открыткой могу выразить Вам свою признательность за письмо и только что полученный перевод Достоевского. Меня радует, что Вы, как я предполагаю, сперва прочли у него то же, что и я, — «Хозяйку» (во французском варианте это — первая часть романа «Записки из подполья»). Я в ответ отправляю вам «Humiliés et offensés1»: французы переводят деликатней, чем жуткий жид Гольдшмидт (с его синагогальным ритмом)[232] (…)
249 Теодору Фритшу в Лейпциг — Ницца, 29 марта 1887 (накануне отъезда)
Милостивый государь,
здесь я отправляю Вам обратно три пересланных номера Вашей листовки, благодаря за доверие, которое Вы мне оказали, позволив взглянуть на хаос, царящий в принципах этого причудливого движения. Тем не менее я прошу впредь не осчастливливать меня подобными посылками: я опасаюсь в конце концов потерять терпение. Поверьте мне: эти отвратительные разговорчики пошлых дилетантов о ценности людей и рас, эти подобострастничанье перед «авторитетами» которые всяким более или менее трезвым умом будут с презрением отвергнуты (к примеру Э. Дюринг, Р. Вагнер, Эбрард, Вармунд, П. де Лагард — кто из них, спрашивается неправомочней, неправосудней[233] всех в вопросах морали и истории?), эта постоянная абсурдная подтасовка столь спорных понятий, как «германское», «семитское», «арийское», «христианское», «немецкое», — все это может меня всерьез и надолго рас-
272
сердить и вывести из того иронического благодушия, с которым я до сих пор взирал на добродетельные причуды и фарисейство нынешних немцев.
И наконец, что, Вы думаете, я испытываю, когда имя Заратустры звучит из уст антисемитов?..
Ваш покорный слуга
доктор Фр. Ницше
250 Францу
Овербеку в Базель — Каннобио, вилла Бадиа 14 апреля 1887
Дорогой друг,
с 3 апреля я здесь, на Лаго Маджоре, деньги пришли ко мне вовремя, еще я порадовался тому, что ты выслал мне не все, поскольку я и сегодня еще не знаю точно, где проведу лето. О моей старой доброй Зильс-Марии, как ни жаль мне это констатировать, придется забыть, равно как и о Ницце. В обоих этих местах мне не хватает сейчас наипервейшего и существеннейшего условия — одиночества, полного отсутствия помех, изоляции, дистанцированности, без которых я не могу углубляться в свои проблемы (поскольку, говоря между нами, я в прямо-таки пугающем смысле — человек глубины и без этой подземной работы я более не в состоянии выносить жизнь). (…) Мне кажется, что я слишком мягок, слишком предупредителен по отношению к людям, и еще, где бы я ни жил, люди немедленно вовлекают меня в свой круг и свои дела до такой степени, что я в конце концов уже и не знаю, как защититься от них. Эти соображения удерживают меня, например, от того, чтобы наконец рискнуть с Мюнхеном*, где меня ждет масса радушия и где нет никого, кто бы уважительно относился к наипервейшим и существеннейшим условиям моего существования или старался бы мне их обеспечить. Ничто не бесит людей так, как нескрываемая демонстрация того, что обращаешься с собой со строгостью, до которой они сами в отношении себя не доросли. (…) Покамест отсутствует вообще всякое понимание меня, и если расчеты[234] и предчувствия меня не обманывают, до 1901 года в этом отношении едва ли что изменится. Уверен, что меня бы просто сочли сумасшедшим, если бы я озвучил то, что думаю о себе[235]. Оставляя относительно себя полную неопределенность, я проявляю свою «гуманность»: иначе я просто ожесточил бы против себя самых дорогих друзей и никого бы при этом не порадовал.
Тем временем я проделал серьезный объем работы по ревизии и подготовке новой редакции моих старых работ. Если мне скоро придет
273
конец, — а я не скрываю, что желание умереть становится все глубже — все-таки кое-что от меня останется: некий пласт культуры, заменить который до поры будет нечем (этой зимой я достаточно осмотрелся в европейской литературе и могу теперь утверждать, что моя философская позиция смело может быть названа независимейшей, — до такой степени, что я чувствую себя наследником нескольких тысячелетий. Современная Европа не имеет ни малейшего представления о том, вокруг каких ужасных решений делает круги моя мысль и все мое существо, к каком колесу проблем я привязан и что со мной приближается катастрофа, имя которой я знаю, но не произнесу). (…)
*У Н. к
этому месту сноска, где он, в частности, поясняет: «Мне нужен город с большой
библиотекой».
251 Эрвину
Роде в Гейдельберг — Кур (Граубюнден) Розенхюгель — 12 мая 1887
Дорогой друг,
этой зимой в Ницце меня навестил молодой ученый, который должен быть тебе знаком — некий доктор Генрих Адамс. Он не особенно мне понравился, но, учитывая, что он выказывал в отношении тебя большую привязанность и почтение, я постарался устроить ему наилучший прием. К его пылкому и малообоснованному стремлению посвятить себя философии я отнесся, само собой разумеется, с величайшим скепсисом[236] и добился по крайней мере того, что он теперь загорелся намерением всерьез окунуться в изучение истории античной философии (…)
Мне представляется очень ценным, чтобы он пожил немного под твоим критическим и дисциплинирующим оком, поскольку он — человек неуверенный, подверженный резким перепадам — от завышенной самооценки до презрения к себе, так что было бы довольно рискованно оставлять его вариться в собственном соку.
Что же до меня — ведь ты наверняка спросишь, отчего бы мне самому не взять на себя эту нагрузку, — то мне до «молодых людей», признаться, нет никакого дела, и кроме того мой собственный немалый опыт заставляет меня усомниться в том, действительно ли я им нужен. Моя отрада — старики, такие, как Я. Буркхардт или И. Тэн, — и даже
274
мой друг Роде давно уже недостаточно стар для меня… Но «однажды настанет день» и т. д.
С сердечным приветом
Твой
Ницше
252 Эрвину
Роде в Гейдельберг — Кур, 19 мая 1887
Нет, старина Роде, я никому не позволю столь неуважительно отзываться от месье Тэне, как ты это делаешь в своем письме, и тебе в последнюю очередь, поскольку это переходит все рамки приличий, обращаться так с кем-то, кого, как тебе известно, я высоко ценю. Можешь, если тебе это нравится, по обыкновению сколько душе угодно нести чепуху обо мне — это в natura rerum1, я никогда не жаловался на это и ничего другого не ждал. Однако в отношении такого ученого, как Тэн, который ближе твоему species2, где у тебя глаза?3[237] Называть его «бессодержательным» — это просто, выражаясь по-студенчески, идиотизм; вышло так, что он как раз самый основательный ум сегодняшней Франции, и нелишне будет заметить, что там, где кто-то не видит никакого «содержания» тем не менее и даже тем более может присутствовать содержание: просто содержание это не для него. В несчастной истории современной души, которая во многих отношениях может быть названа трагической историей, Тэн занимает свое место как удавшееся и достойное воплощение иных благороднейших качество этой души: ее безоглядной отваги, чистоты интеллектуальной совести, без которой она просто не может обходиться, ее трогательного и скромного стоицизма посреди лишений и глубокого одиночества. Мыслитель, обладающий такими качествами, заслуживает почитания, он из числа тех немногих, кто увековечивает свое время. Мне отрадно видеть такого смелого пессимиста, который терпеливо и непреклонно исполняет свой долг,не поднимая вокруг себя шумихи и не актерствуя, который честно может сказать о себе: «satis sunt mihi pauci,satis est unusm satis est nullus1[238]. Его жизнь таким образом, хочет он этого или нет, становится миссией, со всеми затрагиваемыми им проблемами он связан необходимостью (а не случайным выбором, не случайностью, как ты, подобно большинству филологов — с филологией).
275
Говорю все это не со зла! Но думаю, что зная я лишь это твое высказывание, я бы презирал тебя за выраженный в нем недостаток инстинкта и такта. К счастью, я знаю тебя во многих других вещах совсем с другой стороны.
Тебе следовало бы послушать, что говорит о Тэне Буркхардт!
Твой друг Н.
253 Элизабет
Ферстер в Асуньон (черновик) [Зильс-
1) Моя дорогая Лама, твой брат совершенно не настроен раскошеливаться: его положение слишком ненадежно, а Ваше недостаточно устоялось, чтобы я мог позволить себе руководствоваться сиюминутными соображениями.
2) Самое прискорбное при этом, что наши интересы и желания здесь диаметрально расходятся. Поскольку Ваше предприятие — предприятие антисемитское, а мне это тем временем продемонстрировали ad oculos2.
3) В глубине души ваши благие намерения не вызывают у меня никакого доверия и даже особой доброжелательности. Если дело доктора Фёрстера удастся, то я, ради тебя, выкажу удовлетворенность этим и постараюсь как можно меньше думать о том, что это одновременно триумф движения, которое я ни в грош не ставлю; если же оно не удастся, то я порадуюсь гибели антисемитского предприятия и буду тем паче сокрушаться о том, что из-за любви и долга ты связана с подобной затеей.
4) Я говорю это раз и навсегда: огорчаясь тому, что это вообще приходится говорить.
5) Напоследок выскажу свое пожелание, чтобы Вам немного помогли с немецкой стороны, а именно — вынудив антисемитов покинуть Германию. Думаю, не стоит сомневаться, что всем другим странам они предпочли бы Вашу страну «обетованную» — Парагвай. С другой стороны, евреям я все больше желаю того, чтобы они пришли к власти в Европе и наконец избавились бы от тех качеств (вернее, больше не нуждались бы в них), за счет которых они до сих пор пробивали себе дорогу. Кстати, вот мое искреннее убеждение: немцу, лишь оттого, что
276

он немец, претендующему быть чем-то большим,нежели еврей, место в балагане, если не в сумасшедшем доме.
254 Элизабет
Фёрстер в Асунсьон — Кур, 5 июня 1887
Помнишь ли ты еще, моя милая Лама, как мы когда-то — то было осенью 1879-го — вместе завтракали в Куре на одном из холмов?.. Именно там живет теперь твой брат, у одного учителя, и всё ждет, когда же погода позволит ему наконец отправиться наверх, в Энгадин. В этом году у нас строптивая и скверная весна, которая нашпиговала май зимними днями так же, как прошлогодняя (в Наумбурге) — страшной жарой. Тогда доходило до 30 градусов Цельсия в тени, сейчас — до 1 градуса ниже нуля: вот оно, «европейское равновесие»! (…) Я почти не могу припомнить, когда мне еще доводилось переживать такие депрессивные времена, как в последние вёсны. Неладно вообще обстоит со мной: как максимум достигнутого мной до сих пор относительного здоровья я могу рассматривать то лето в Таутенбурге после которого все
227
пошло вкривь и вкось. Мне стоит сейчас напряжения всех сил разобраться с одним-единственным днем; к тому же я стал чрезвычайно недоверчив, и у меня по сути не осталось никого, с кем была бы охота немного пройтись и просто пообщаться. Само собой разумеется, что и «милые ближние» ведут себя со мной соответственно: с тех пор все меня покинули, и даже Лама шарахнулась от меня так, что отправилась к антисемитам (а это, пожалуй, самое радикальное средство «покончить» со мной). (…)
Фройляйн фон Ширнхофер… прибыла сюда тем же поездом, что и
фройляйн Вильденов из Парижа, при этом бывшие подруги не пожелали ехать в одном
купе (более того, рассказывали мне обе с некоторой гордостью, что даже не стали
здороваться на перроне). Медичка показалась мне, кстати, безнадежно скучной и
утратившей всякую женственность, — и разговаривала умно́, как какая-нибудь
глупая книжка. Упомяну еще о том, что фройляйн Саломе выходит замуж за некоего
доктора Андреаса* (…)
*12 мая 1887 года Н. писал
Мальвиде фон Мейзенбуг: «Фройляйн Саломе только что сообщила мне о своей
помолвке, но отвечать я не стал, сколь бы искренне ни желал ей счастья и
процветания».
255 Францу
Овербеку в Базель — Зильс-
Дорогой друг,
твое известие о смерти Штайна… очень больно задело меня, более того, я просто сам не свой от этого. Я так любил его, он был одним из немногих, чье существование само по себе было для меня радостью. И я не сомневался в том, что время сбережет его для меня; ибо таким людям, щедрая одаренность и глубина которых требует медленного, постепенного развития, должно быть отпущено много времени. А ему-то его не дали! Почему не призвали меня вместо него — в этом было бы больше смысла. Но все так бессмысленно; и этого благородного создания, прекраснейшего из всех, кого мне открыли мои вагнерианские связи, — его больше нет.
278
256 Ипполиту
Тэну в Женеву — Зильс-
Глубокоуважаемый государь!
У меня есть столько причин выразить Вам признательность: за снисходительную благожелательность Вашего письма, в котором особо отрадно для моего слуха прозвучали слова о Якобе Буркхардте; за Вашу несравненную в своей силе и простоте характеристику Наполеона в Revue, экземпляр которого я почти случайным образом раздобыл в этом мае (я был при этом уже неплохо подготовлен к ней благодаря недавно вышедшей книжке мсье Барбе д’Оревильи, заключительная глава которой, посвященная новейшей литературе о Наполеоне, звучала как пронзительный крик тоски. Тоски по чему? Без сомнения, именно по такому объяснению и разрешению этой чудовищной проблемы нечеловеческого и сверхчеловеческого, которое Вы дали нам теперь). Не буду забывать и того, как я был рад встретить Ваше имя в посвящении последнего романа мсье поля Бурже; хотя сама книга мне не понравилась — мсье Бурже никогда не удается сделать достоверной настоящую физиологическую дыру в груди ближнего (такое для него просто quelque chose arbitraire1, и его тонкий вкус будет от этого в дальнейшем, я надеюсь, воздерживаться. Однако похоже, что дух Достоевского не дает покоя этим парижским романистам?) (…)
257 Генриху
Кезелицу в Венецию — Зильс-
(…) весь мир жалуется на то, что «меня не понимают», и проданные 100 экземпляров весьма ощутим дали мне понять, что меня действительно не понимают. Подумайте только за последние 3 года я потратил 500 талеров на печать — не получая, само собой разумеется, никаких гонораров, — и это на 43-м году жизни, после того как я издал 15 книг! Более того: досконально пройдясь по всем заслуживающим рассмотрения издателям, после множества чрезвычайно мучительных переговоров я уяснил себе тот суровый факт, что ни один немецкий издатель не желает меня печатать (даже когда я не претендую ни на какой гонорар). Может быть, этот маленький памфлет <«К генеалогии морали»> поспособствует тому, чтобы купили пару экземпляров моих прежних ра-
279
бот (по правде, мне каждый раз становится грустно, как подумаю о бедном Фрицше, на котором висит весь этот груз). Так что пусть это хоть моим издателям пойдет на пользу: по поводу собственной персоны я слишком хорошо знаю, что мне не пойдет на пользу, когда меня начнут понимать… (…)
258 Франциске
Ницше в Наумбург — Зильс-
Моя милая мама,
у меня было ощущение, будто весь мир вокруг умолк; ни один мотылек в конверте не залетает больше на мои высоты — очевидно, в долине очень, очень жарко. Наконец мне пришло в голову, что я тоже долгое время хранил молчание — так что письмецо должно выпорхнуть теперь отсюда. Весь июль я был очень работящим: похоже, что вместе со здоровьем у меня снова прибавилось и душевных сил. Еще я завел некоторые новшества в устройстве своего быта, которые, без сомнения, сказались очень благотворно. Первое — это то, что я теперь не посещаю табльдот, рацион которого может содержать в себе всякие неожиданные опасности; к тому же в зале душно, полно народа (около 100 персон, много), шумно — словом, не для твоего нежного дитяти, который к тому же немного горд, чтобы с чистой совестью наедаться всем, что предлагают. Так что я ем один, на полчаса раньше: день изо дня прекрасный кровавый бифштекс со шпинатом и большой омлет (внутри — яблочный мармелад). Вечером — только несколько кружочков ветчины, 2 яичных желтка и 2 будочки. Но самое существенное — это утреннее новшество. Я уже много месяцев как не выносил чая с утра, был после него усталым и нервным… Не чаще чем раз в четырнадцать дней выдавалось утро, когда я мог работать. Теперь же я придумал кое-что новое, и это уже пять недель приносит свои плоды: в 5 часов я принимаю чашку горького какао (ван Хутен)[240], которое завариваю сам, затем снова ложусь в постель, обычно засыпаю, но ровно в 6 встаю и выпиваю, после того как оденусь, еще и большую чашку чая. Затем сажусь за работу — и это работает. Весь организм гораздо спокойнее и в куда большем равновесии; вдобавок улучшилось и настроение. В июле у меня было всего 3 серьезных приступа моей головной боли с продолжительной рвотой — по сравнению с предыдущими месяцами это настоящий прогресс. (…)
280
259 Францу
Овербеку в Дрезден — Зильс-
Дорогой друг,
лето закончилось, уже были два дня, когда нас засыпало снегом, с тех пор свежо до суровости, но так ясно, как только может пожелать себе мое здоровье. Холод мне не враг.
(…) Твое имя этим летом здесь наверху достаточно часто мною упоминалось: Базель на этот раз большую часть сезона был в Зильсе доминирующим элементом — в лице сразу 36 своих представителей. В отношении ко мне славный мир Базеля выказал все такую же сердечность (… мои англо-русские дамы наносили мне визиты из Малойи. Мисс Финн имела на тамошнем балу-маскараде потрясающий успех (об этом даже в газетах писали), а именно — в качестве русской придворной дамы и русской крестьянки. Но вот со старушкой Мансуровой дела обстоят неважно. В один прекрасный день меня приветствовал старый седой господин, профессор Класс («философ») из Эрлангена. Его первыми словами было: «Ох, как же любезно вы меня экзаменовали! Я никогда этого не забуду» (он в свое время защищал диссертацию в Базеле). (…) пару недель я употребил на то, чтобы в 3 статьях еще раз уточнить проблему книги «По ту сторону…». На этом я думаю закончить со стараниями сделать мои предыдущие книги «понятными», и теперь на протяжении ряда лет ничто больше не отправится в печать — я должен буду полностью уйти в самого себя и дожидаться того, когда можно будет стряхнуть последний плод с моего древа. Никаких переживаний, ничего извне, ничего нового: это теперь надолго вперед — мои единственные желания.
20 сентября я собираюсь уехать в Венецию, чтобы помочь собраться с духом нашему бравому К<езелицу>; у него было трудное лето. (…)
260 Мете
фон Салис ауф Маршлинс — Зильс-
(…) То, что Вы читаете мои книги, теперь уже вызывает у меня меньше тревоги: близкое личное общение действует корректирующе на чисто книжное знакомство с чужими мнениями и ценностями; благодаря первому можно воспринимать и делать заключения гораздо спокойнее (печатное слово само по себе двусмысленно и приводит в беспокойство) (…)
281
261 Карлу
Шпиттелеру в Базель — Зильс-
Милостивейший государь,
поскольку я нахожусь в предотъездном состоянии, всего одно слово касательно Ваших строк. Вы возмущаетесь по поводу редакций и издателей, — это, простите уж, слегка настраивает меня против Вас! Создающему то, что не служит кормом для масс, не следует ставить в вину поставщикам массового корма равнодушие к изысканной продукции. Для такого равнодушия им нет нужды быть ни «трусливыми», ни «продажными».
Такое положение вещей следует рассматривать как свое преимущество (я исхожу из опыта) и, несмотря ни на что, скалить зубы. Именно тот, кто сегодня «хорошо смеется», уж поверьте мне, посмеется и последним…
И наконец — не следует рассчитывать, что можно прожить на свои таланты (особенно если это таланты исключительные)
С выражением моего самого сердечного участия
почтительнейше Ваш
проф. Доктор Ницше (…)
262 Франциске
Ницше в Наумбург — 18 октября 1887, Венеция
Моя милая мама,
твое письмо, полученное в день рождения, застало меня за занятием, которое тебя порадовало бы: я как раз сочинял письмецо южноамериканской Ламе. Твое письмо и твои пожелания были, кстати, единственными пришедшими ко мне: что дает неплохое представление о достигнутой мною за это время «независимости», — а она является для философа первостепенной необходимостью. Надеюсь, что ты обратила внимание на искреннюю веселость в моем предыдущем послании, с которой я преподнес тебе меню немецких суждений обо мне*, знакомство с ними меня действительно позабавило, ведь я в конце концов достаточно хорошо разбираюсь в человеческой натуре, чтобы знать, до какой степени через 50 лет изменится суждение обо мне и каким ореолов славы будет тогда окружено имя твоего сына благодаря тем же самым вещам, из-за которых я до сих пор подвергался осмеянию и по-
282
руганию[241]. С детства не слышать ни единого слова, в котором были бы глубина и понимание, — таков уж мой жребий, и я не припомню, чтобы мне доводилось жаловаться на это… Дабы успокоить тебя, скажу одну вещь: похоже, ты думаешь, что антагонизм, в котором я нахожусь, по сути как-то связан с моим отношением к христианству. Нет! Твой сын не так уж «безобиден», и не так уж «безобидны» мои господа антагонисты. Суждения, которые я тебе привел, все вместе и каждое по отдельности, исходят из среды самой что ни на есть внецерковной, какую только можно себе представить; это не суждения теологов. Почти каждая такая критика (а принадлежит она во многих случаях весьма толковым критикам и ученым) старалась со всей определенностью отвести от себя подозрения, будто указанием на опасность, таящуюся в моей книге, меня пытаются отдать «на откуп церковным крысам и кладбищенским воронам». Антагонизм, в котором я нахожусь, слишком радикален, чтобы при этом всерьез принимать во внимание еще и всякие религиозные вопросы и конфессиональные нюансы.
Извини за это излишне обстоятельное отступление, и все же: когда я говорю, что самые толковые ученые до сих пор заблуждались относительно меня, само собой разумеется, что старина Пиндер на их фоне ничем особенным не выделился. Он усвоил из всего только лишь что его взгляды и мои взгляды — это разные взгляды, и выразил по этому поводу сожаление.
Известия по поводу Парагвая и в самом деле очень отрадны, однако я по-прежнему не испытываю ни малейшего желания оказаться в соседстве своего антисемитского зятя. Его взгляды и мои взгляды — это разные взгляды, о чем я не сожалею.
Чемодан уже наполовину упакован; послезавтра вечером или утром я отправлюсь в путь. Здоровье в целом в порядке, если не считать того, что неважно обстоит с глазами. Мой адрес с этого момента: Ницца (…)
*10 октября
1887 года Н. писал матери: «Я обнаружил, что по поводу моей последней книги в
немецких журналах содержится какая-то жуткая мешанина из невразумительностей и
неприятия. То моя книга — «несусветная чушь», то она «дьявольски расчетлива»,
то я заслуживаю, чтобы меня отправили за нее на эшафот… То меня величают
«философом юнкерской аристократии», то подтрунивают надо мной как над вторым
Эдмундом фон Хагеном, то сочувствуют как Фаусту XVIII столетия, то осторожно отодвигают в сторонку,
снабжая наклейками : «динамит» и «изверг». И чтобы приобресть такие познания
обо мне, им понадобилось почти 15 лет; а меж тем, если бы было хоть что-нибудь
понятно
183
из моего первого произведения, «Рождения трагедии»,
от меня уже бы тогда аналогичным образом вовсю шарахались и открещивались. Но в
те времена я еще скрывался за нежной вуалью и был чтим немецкими баранами так,
будто сам к ним принадлежал».
263 Гансу
фон Бюлову в Гамбург [Венеция, 22 октября 1887]
Милостивый государь,
было время, когда относительно одного моего музыкального произведения Вы вынесли совершенно справедливый смертный приговор1… И вот тем не менее я вновь отваживаюсь переслать Вам нечто, некий «гимн к жизни»2, которому я тем более желаю, чтобы он выжил. Однажды в каком-нибудь близком или отдаленном будущем, он мог бы быть спет в мою память, — в память о философе, у которого не было настоящего и который по суди даже и не желал его себе. Заслуживает ли он3 этого?...
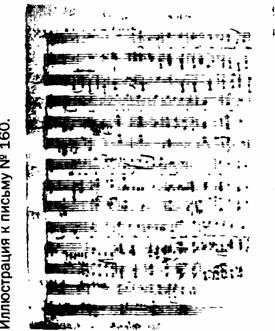
284
Ко всему прочему возможно и то, что за последние десять лет я усовершенствовался и как композитор.
Все так же неизменно преданный Вам доктор Фр. Ницше
264 Генриху
Кезелицу в Венецию — Ницца, 2 ноября 1887
(…) Похоже, все вокруг решило объединить усилия, чтобы сделать эту зиму более приемлемой для меня, чем были предыдущие… Только что я смотрел комнату, в которой собираюсь жить следующие шесть месяцев: она расположена прямо над моей прежней, вчера ее оклеили новыми, вполне отвечающими моему дурному вкусу обоями — в красно-коричневую полоску и крапинку. Напротив — здание ярко-желтого цвета, достаточно далеко, чтобы его цветовой блик мог радовать глаз, и над ним в продолжение радостей половинка неба (оно синее, синее, синее!). Внизу прекрасный вечнозеленый сад, на который падает взгляд, когда я сижу за столом. Пол выстлан соломой, поверх соломы — старый ковер и потом еще один, очень миленький, совсем новый; большой круглый стол, шезлонг с отличной обивкой, книжный шкаф, кровать, застланная черно-синим пледом, у двери — тяжелые коричневые портьеры; еще пара предметов завешены ярко-красными платками, — словом, премилая пестрая, в основном теплых и темных тонов, мешанина. Из Наумбурга должны прислать печку — в том роде, как я Вам описывал… Что до гимнологической литературы1, то первым пришло письмо от фрау фон Бюлов с извинениями за мужа, «заваленного работой», но в целом достаточно любезное (…)
265 Генриху
Кезелицу в Венецию[242]
— Ницца, 10 ноября 1887
(…) Вышел второй том «Journal des Goncourt» — интереснейшая новинка. Он охватывает 1862—1865 годы, в нем очень живо расписаны знаменитые diners chez Magny2 — приемы, на которые дважды в месяц собиралась самая остроумная и скептичная парижская публика (Сент-
285
Бев, Флобер, Теофиль Готье, Тэн, Ренан, Гонкуры, Шерер, Гаварни, иногда Тургенев и т. д.). Ярый пессимизм, цинизм, нигилизм с долей распущенности и хорошего юмора; я и сам не чужд этим господам — я знаю их как свои пять пальцев до такой степени, что в сущности уже сыт ими по горло. Нужно быть радикальней: по сути им всем не хватает главного — «la force»1.
Ваш
преданный друг Ницше
266 Георгу
Брандесу в Копенгаген* — Ницца, 2 декабря 1887
Милостивый государь,
пара читателей, которыми дорожишь, и более никаких читателей — вот на деле мои желания. Что касается последней части этого пожелания, то я, пожалуй, все более убеждаюсь, что оно останется неисполенным. Я тем более счастлив, что при убеждении «satis sunt pauci» у меня есть и всегда были эти pauci2. Среди живущих я, помимо Вас, могу назвать (если называть тех, кто Вам знаком) моего замечательного друга Якоба Буркхардта, Ганса фон Бюлова, мсье Тэна, швейцарского поэта Келлера; среди умерших — старого гегельянца Бруно Бауэра и Рихарда Вагнера. Мне доставляет искреннюю радость, что такой настоящий европеец и миссионер культуры, как Вы, впредь будет среди них; я благодарю Вас от всего сердца за эту добрую волю.
Конечно, Вам придется при этом нелегко. Сам я не сомневаюсь в том, что пишу в чем-то еще «очень по-немецки», — Вы ощутите это, пожалуй, еще сильнее благодаря Вашей избалованности самим собою, я имею в виду — присущей Вам свободной и по-французски грациозной манерой обращения с языком (более общительной манерой в сравнении с моей). многие слова приправлены у меня по-другому, их вкус для меня несколько иной, чем для моих читателей, — это тоже влияет. В шкале моих переживаний и состояний перевес на стороне более редких, отдаленных, тонких звуковых частот в сравнении со средней нормой. Еще у меня (если говорить как старинный музыкант, каким я в сущности и являюсь, слух к четвертитонам. Наконец, и это, пожалуй, более всего делает темными мои книги, во мне есть недоверие к диалектике, к самим основаниям. Мне кажется, считает ли человек что-либо «истин-
286
ным»
или еще не считает, зависит, скорее, от его внутренней решимости,
от степени его решимости… (Я не часто отваживаюсь на то, чтобы знать).
Выражение «аристократический радикализм», которое Вы употребили, очень удачно. Это, позволю себе сказать, самые толковые слова, какие мне до сих пор доводилось о себе прочесть. Как далеко этот образ мыслей меня уже завел в моих идеях, как далеко он меня еще заведет — это я почти что боюсь себе и представить. Однако есть пути, которые не позволяют, чтобы по ним шли обратно; и вот я иду вперед, поскольку обязан идти вперед.
Со своей стороны, дабы не упустить ничего, что могло бы облегчить Вам доступ к моей норе, то бишь философии, я распорядился, чтобы мой лейпцигский издатель переслал Вам en bloc1 мои ранние произведения. Я в особенности рекомендую прочесть новые предисловия к оным (они почти все переизданы). Прочитанные в их последовательности, эти предисловия могли бы, пожалуй, пролить на меня некоторый свет, если предположить, что я не темен сам по себе, как obscurissimus obscurorum virorum…2 Что как раз вполне возможно.
Музыкант ли Вы? Как раз сейчас издается одно мое сочинение для хора с оркестром под названием «Гимн к жизни». Это то, чему суждено уцелеть из моей музыки и однажды быть спетым «в мою память», если, конечно, от меня останется достаточно помимо музыки. Вы видите, с какими посмертными мыслями я живу. Однако философия, подобная моей, — она, как могила: в ней уже не живешь. «Bene vixit, que bene latuit»3, — написано на гробнице Декарта. Безусловно, эпитафия!
Мне тоже хотелось бы когда-нибудь встретиться с Вами.
Ваш Ницше.
NB.
Этой зимой я останусь в Ницце. Мой летний адрес: Зильс-
*Это ответ
на следующее письмо Брандеса от 28 ноября:
«Милостивый государь!
Год назад я получил через
Вашего издателя Ваш труд «По ту сторону добра и зла», недавно ко мне тем же
путем пришло Ваше последнее сочинение. Кроме
того, у меня есть Ваша книга «Человеческое, слиш-
287
ком
человеческое». Я как раз отправил оба имевшихся у меня тома переплетчику, когда
пришла «Генеалогия морали», так что я не мог, как мне этого бы[243]
хотелось, сравнить ее с более ранними вещами. Мало-помалу я внимательно
прочитываю все, что Вами написано.
На
сей раз мне хочется незамедлительно выразить мою глубокую благодарность за это
послание. Для меня честь быть известным Вам и известным таким образом, что Вам пришла мысль сделать меня своим
читателем.

Духом новизны и самобытности
веет от Ваших книг. Я не совсем еще понимаю то, что я прочел, мне не всегда
ясно, к чему Вы стремитесь. Однако многое согласуется с моими собственными мыслями
и симпатиями — пренебрежение к аскетическим идеалам и глубокое неприятие
демократической усредненности, Ваш аристократический радикализм. Ваше презрение
к этике сострадания для меня не вполне объяснимо. Также в другом Вашем сочинении
были рефлексии по поводу женщины вообще, которые не согласуются с моим
собственным
288
ходом
мыслей. Вы устроены так совершенно по-другому, что мне нелегко бывает
вчувствоваться. Несмотря на Ваш универсализм, Вы мыслите и пишете очень
по-немецки. Вы принадлежите к числу тех немногих людей, с которыми мне хотелось
бы говорить.
Я ничего не знаю о Вас. Я с
изумлением вижу, что Вы — профессор, доктор. Во всяком случае я поздравляю Вас
с тем, что в духовном отношении в Вас столь мало профессорского.
Что знаете обо мне Вы, мне
неизвестно. Мои сочинения ставят перед собой очень ограниченные задачи.
Большинство из них существуют лишь на датском языке. Уже много лет я не писал
по-немецки. Думается, лучшая моя читательская публика — в славянских землях.
Два года подряд я читал лекции на французском языке в Варшаве, а в этом году в
Петербурге и Москве. Благодаря этому я вырываюсь из тесных масштабов моего
отечества.
Хотя уже и не молод, я
по-прежнему остаюсь одним из самых любознательных, охочих до нового людей.
Поэтому Вы всегда найдете во мне открытость Вашим идеям, даже тогда, когда я
думаю и чувствую по-другому. Я часто бываю глуп, но никогда — ограничен.
Порадуйте меня несколькими
строками, если сочтете это достойным Ваших усилий.
Признательный Вам
Георг Брандес».
**17
декабря Брандес отвечает: «Мне чрезвычайно приятно видеть, что Вы нарекаете
меня «настоящим европейцем», но от «миссионера культуры» я отказываюсь. Всякая
миссионерская деятельность стала для меня отвратительной — поскольку я видел
лишь морализирующих миссионеров, а в то, что зовут культурой, боюсь, я не
очень-то верю. Наша культура в целом не может воодушевлять, не правда ли? А чем
был бы миссионер без воодушевленности?! То есть я более единичен, чем Вы
думаете. Под немецкостью я подразумеваю только то, что Вы пишете больше для
себя, в процессе письма думаете больше о себе, чем о широком читателе[244],
в то время как большинство ненемецких писателей обязаны принуждать себя к
некоей педагогике стиля, что делает их, правда, яснее и пластичней, однако неизбежно
лишает глубины и оставляет в писателе невыговоренным его интимнейшее и лучшее,
его безымянное «я». Так, меня подчас приводит в ужас то, как моя сущность остается
в моих писаниях едва раскрытой, лишь намеченной.
Я
— не музыкальный человек. Искусства, в которых я разбираюсь, — это скульптура и
живопись, им я обязан своими глубочайшими художественными впечатлениями. Мой
слух не развит. В юности это было для меня большим огорчением. Я много играл и
несколько лет занимался
генерал-басом,
но без всякого успеха. Я могу очень интенсивно наслаждаться хорошей музыкой,но
остаюсь непосвященным.
Мне кажется, в Ваших
произведениях я нахожу определенные совпадения с моими вкусами, пристрастие к
Бейлю1, например, а также пристрастие к Тэну,
которого я, правда, не видел уже 17 лет. Его работа о революции2 не произвела на меня того
впечатления, какое она, кажется, произвела на Вас. Он сокрушается и пророчит
катаклизмы[245].
Я употребил выражение
«аристократический радикализм», поскольку именно это соответствует моим политическим
убеждениям. Однако меня немного задевает, когда Вы в своих произведениях столь
поспешно и резко судите о таких феноменах, как социализм или анархизм. Анархизм
князя Кропоткина, например, вовсе не глуп. Хотя дело, конечно же, не в именах и
не в названиях. Ваш, как правило, столь блестящий ум, мне кажется, немного
тускнеет там, где истина заложена в нюансах. В наибольшей степени меня
интересуют Ваши идеи о происхождении моральных суждений.
Вы разделяете, к моему
радостному удивлению, ту антипатию, которую я испытываю к Герберту Спенсеру3. У нас он слывет богом философии. Этим
англичанам решительное предпочтение отдается, как правило, только потому, что
их не столь высоко парящий дух страшится гипотез, в то время как немецкую
философию гипотезы лишили мирового господства. А разве не много гипотетического
в Ваших идеях о кастовых различиях как истоке различных нравственных понятий?[246]
Я знаю Рэ, которого Вы
критикуете, видел его в Берлине; это был спокойный человек с приятными
манерами, но несколько сухим, ограниченным умом. Он жил — по его выражению, как
брат с сестрой — с одной совсем юной интеллигентной русской, издавшей пару лет
назад книгу «Борьба за Бога»[247],
из которой, правда, нельзя было почерпнуть никакого представления о ее реальных
способностях.
Я рад, что смогу получить
обещанные Вами книги. Мне было бы приятно, если бы Вы и в будущем не теряли
меня из виду».
290
267 Карлу Фуксу в Данциг — Ницца, 14 декабря
1887 — pension de Geneve
Дорогой и уважаемый друг,
это был очень верный момент для такого письма, как Ваше. Дело в том, что я, почти не желая того, но в силу безжалостной необходимости, нахожусь сейчас в процессе сведения счетов со всеми и вся и подведения итогов всего моего «предшествующего». Почти все, что я сейчас делаю, — это подведение черты. Масштаб внутренних потрясений все эти последние годы был чудовищным; и теперь, когда я должен перейти к новой и высшей форме, мне потребовалось прежде всего новое дистанцирование, некая высшая обезличенность. При этом сущностно важно <знать>, что́ и кто у меня еще остается.
Насколько я уже стар? Этого я не знаю, как и того, насколько молод я еще буду…
В Германии сильно жалуются на мои «эксцентричности». Но поскольку никто не знает, где мой центр, едва ли смогут разобраться с тем, где и когда я до сих пор бывал «эксцентричен». К примеру, будучи филологом, я явно находился вне своего центра (что, к счастью, совершенно не означает того, что я был плохим филологом). Точно так же сегодня мне представляется эксцентричностью то, что я был вагнерианцем. То был чрезмерно опасный эксперимент; теперь, когда я знаю, что не погиб от этого, мне известно и то, какой смысл это все имело для меня — то была самая серьезная проба моего характера. Правда, постепенно сокровеннейшее дисциплинирует нас снова в единство; та страсть, для которой так долго не можешь найти имени, та задача, миссионером которой невольно стал, спасает нас от всех отклонений и рассеяний. (…)
268 Элизабет Ферстер в Асунсьон (черновик)[248]
[Ницца, конец декабря 1887]
Меж тем мне черным по белому доказали, что господин доктор Ферстер и по сию пору не порвал своих связей с антис<емитским> движением. Некий добропорядочный остолоп из Лейпцига (Фритш, если мне память не изменяет) взялся теперь за эту задачу — до сих пор он регулярно, несмотря на мой энергичный протест, пересылал мне анти-
291
с<емитскую> корреспонденцию (ничего более презренного я в жизни не читал). С тех пор мне стоит труда выказывать в отношении тебя хоть в какой-то мере ту прежнюю нежность и трепетное чувство, которые я так долго к тебе испытывал, разлад между нами абсурдным образом мало-помалу проявил себя именно в этом. Или тебе совершенно невдомек, для чего я живу на свете?
Желаешь ознакомиться с каталогом воззрений, которые противоположны моим? Ты с легкостью найдешь их, одно за другим, в «Откликах на П<арсифаль>» твоего супруга; когда я читал их, мне пришла чудовищная мысль, что ты ничего, ровным счетом ничего не поняла в моей болезни, как и в моем болезненнейшем и ошеломляющем опыте, что человек, которого я почитал больше всех на свете, в своем отвратительном вырождении пришел именно к тому, что я больше всего на свете презирал, — к махинациям с нравственными и христианскими идеалами. Теперь дошло до того, что я должен изо всех сил защищаться, чтобы меня не приняли за антисемитскую каналью; после того как моя собственная сестра, моя прежняя сест<ра>, а теперь еще и Видеманн дали повод к этой, самой злосчастной из все мыслимых, ошибке. После того как в антисемитской корреспонденции мне повстречалось даже имя З<аратустры>, мое терпение иссякло — теперь я занял глухую оборону против партии твоего супруга. Эти проклятые антисемитские дурни не смеют прикасаться к моему идеалу!!
Из-за твоего замужества наше имя теперь поминается в связи с этим движением — и сколько же мне пришлось уже претерпеть из-за этого! За последние 6 лет ты потеряла всякое представление о том, что можно и чего нельзя…
Я, понятное дело,никогда и не ждал от тебя, чтобы ты хоть что-нибудь смыслила в том, какую позицию я как ф<илософ> занимаю относительно своей эпохи; и тем не менее инстинкт любви хоть как-то должен был тебе подсказать, чтобы ты не шла прямиком к моим антиподам. Я думаю теперь о сестрах примерно то же, что и Ш<опенгауэр>: они совершенно излишни, от них одни смуты[249].
Я наслаждаюсь как итогом этих последних 10 лет потерей благодушной иллюзии, будто хоть кто-нибудь знает, что же со мной такое. Я годами жил в двух шагах от смерти, и ни у кого нет ни малейшего представления — почему. (…) Теперь, шаг за шагом, ко мне приходит это знание (что никто ничего обо мне не знает), и самое хорошее здесь то, что я, с тех пор как знаю это, чувствую себя свободней, благожелательней по отношению к каждому.
Сейчас я поставил себя в такое положение, «осужденным» на которое ощущал себя и раньше (чтобы ни единый родной звук не дости-
292
гал меня более), более того, именно в нем мне и открылась вся суть моего положения, моей проблемы, моей новой постановки вопроса.
269 Георгу
Брандесу в Копенгаген — Ницца, 8 января 1888
Милостивый государь,
выражение «миссионер культуры» не должно вызывать в Вас такого сопротивления. Можно ли сейчас по-настоящему быть таковым иначе, чем неся миссию своего неверия в культуру?[250] Постичь, то наша европейская культура есть чудовищная проблема, а никоим образом не разрешение ее, — разве не является сегодня такая степень самоосознания, самопреодоления самою культурой?
Мне удивительно, что мои книги все еще не в Ваших руках. Я не премину напомнить об этом в Лейпциге. Как раз в рождественскую пору следует задать работенку этим господам издателям. Тем временем да будет мне позволено поделиться с Вами одним отчаянным curiosum1, которым не обладает еще ни один издатель, моим ineditum2, относящимся к числу наиболее личного, на что я оказался способен. Это — четвертая часть моего «Заратустры»; ее название, в контексте того, что ей предшествует и что следует за ней, должно звучать:
Искушение Заратустры
Интермедия
Быть может, так я лучше всего отвечу на Ваш вопрос
касательно моей проблемы сострадания. Кроме того, вообще именно через эту потайную
дверцу есть прямой смысл открыть ко «мне» доступ; при условии, что в эту дверцу
входят с
Вашими глазами и ушами. Ваша работа о Золя приятнейшим образом напомнила мне
вновь, как и все, что мне довелось у Вас прочесть (последнее — статья в
гетевском ежегоднике), о Вашем прирожденном даре ко всякого рода
психологической оптике. Когда Вы с арифметической ясностью решаете труднейшие
задачи âme moderne3,
Вы настолько же в своей стихии, насколько немецкий ученый в таких случаях
обычно чувствует себя не в своей тарелке.
Или Вы, быть может, более благоприятного мнения о теперешних немцах? Мне кажется,
что они год от года становятся все неуклюжей
923
и прямоугольней в rebus psychologicis1 (в полную противоположность парижанам, у которых все обращается в нюансы и мозаику), что от них ускользают все глубокие реалии. К примеру, мое «По ту сторону добра и зла» — какой конфуз оно вызвало среди них. Ни одного разумного слова не привелось мне о нем услышать, не говоря уж о разумном чувстве. Что дело здесь идет о развернутой логике, совершенно определенной философской впечатлительности, а не о мешанине сотни произвольно нанизанных парадоксов и еретических мыслей, — ничего подобного не пришло в голову, думаю, даже самым благожелательным моим читателям. Ничего подобного не «переживали», мне не встречалась и тысячная доля такой страсти и страданий. «Имморалист»? Это же только пустой звук, в который ничего не вкладывают.
Кстати сказать, формулу «document humain»2 Гонкуры в каком-то из предисловий приписали себе, хотя мсье Тэн по-прежнему имеет полное право слыть ее автором.
Вы правы, говоря о «прорицании катаклизмов», однако подобное донкихотство относится к наиболее достойному из того, что вообще есть на земле.
С выражением особого почтения
Ваш Ницше*
*11 января Брандес отвечает:
«Милостивый государь!
Ваши книги издатель,
очевидно, позабыл мне отправить. Но Ваше письмо я сегодня с благодарностью
получил. (…) Есть один скандинавский писатель, чьи произведения заинтересовали
бы Вас, если бы только они были переведены. Серен Кьеркегор. Он жил в 1813—1855
годах и является, по-моему, одним из глубочайших психологов, какие вообще существуют.
Книжка, которую я написал о нем (перевод вышел в Лейпциге в 1879 году), не дает
достаточного представления о его гении, поскольку эта книга является своего
рода памфлетом, написанным, чтобы воспрепятствовать влиянию Кьеркегора. Однако
в психологическом отношении она, пожалуй, решительно лучшее, что я опубликовал.
(…)
Меня радует, что Вы нашли у
меня нечто сгодившееся Вам. В последние четыре года я — самая одиозная фигура
здесь на севере. Газеты ежедневно неистовствуют против меня, особенно со
времени моей по-
294
следней
долгой распри с Бьернсоном1, в
которой высокоморальные немецкие газеты единодушно стали на сторону противника.
Вы знаете, возможно, про его пошлую драму «Перчатка», его пропаганду
девственности для мужчин и его союз с защитницами «требований морального
равноправия». До сих пор что-либо подобно уж наверняка было бы делом
неслыханным. В Швеции сумасбродные бабы учреждали большие объединения, в
которых они приносили клятву «идти замуж лишь за девственных мужчин». Мне
думается, они их получали с гарантией, как часы, только вот без гарантии на
будущее[251].
Я вновь и вновь перечитываю
три Ваши книги. Есть пара мостов, которые ведут от них к моему внутреннему
миру: цезаризм, ненависть к педантству, вкус к Бейлю и т. д., и т. д. Но по
большей части они мне еще чужды. Кажется, что наши с Вами переживания столь
бесконечно разнородны. Вы, без сомнения, увлекательнейший из всех немецких писателей.
Ваша литература! Я не знаю,
что в ней вообще теперь есть. Мне думается, все толковые головы пошли либо в
генштаб, либо в администрацию. Вся жизнь и все учреждения врастают у вас в отвратительнейшее
единообразие, и сама писательская деятельность забивается издательской[252].
Преданный Вам и почитающий Вас
Георг Брандес.»
270 Франциске
Ницше в Наумбург (черновик)* [Ницца, 29 января 1888]
(…) Я так рад, что снова могу работать, или, выражаясь иначе, что мой дух вновь обрел мужество, необходимое для той задачи, в служении которой я жил до сих пор. Времен, когда этого мужества недостает, очень трудно пережить; и поскольку, судя по моему богатейшему опыту, ни один ч<еловек> не имеет представления о том, что я собой являю и какой ношей нагрузил свою жизнь, никто не ведает и того, чем меня можно хоть как-то порадовать и ободрить. Мои опыты в этой сфере — по сути все мои поездки в Германию за последние 10 лет — оборачивались полной противоположностью, поражениями и унижениями, и от того, как они сказывались на моем здоровье и воспоминаниях,
295
я каждый раз освобождался очень нескоро. Теперь я стал осторожнее… надеюсь, что я наконец свободен от этой абсурдной потребности ждать от своих ближних того, чего они мне совершенно не могут дать, — отдохновения, поддержки, ободрения. В сущности это — трагедия, разлад сделался слишком глубок. Я дал этим немцам в пору их духовного упадка первосортные произведения, ради которых потомки, возможно, простят этой эпохе, что она вообще имела место быть — и что же, услышал ил я хоть единое слово глубокой признательности?
У вас у всех нет никакой веры в меня — и у моей матери ее не больше, чем у моей сестры.
Я совершенно не желаю подвергать себя снова опасности, что в
тот миг, когда я создал нечто бессмертное и горд этим, меня будут поносить,
оплевывать и высмеивать. Такого не забудешь, даже если у тебя самый
благожелательный характер [– – –] (…)
*Письмо
схожего содержания все же было отправлен: на следующий день, 30 января, Н. шлет
матери, словно заглаживая только что сказанные слова, следующую открытку: «Моя
дорогая мама, кажется сегодня снова ясней и лучше. Вчера, если мне не изменяет
память, я написал тебе грустное поздравление ко дню рождения. Я был
полумертвый и измученный болью. К тому же небо было покрыто плотными снеговыми
облаками. Я думаю, что часто чувствовал бы себя так, живи я зимой на севере: я
ведь унылое создание и больше, чем другие, нуждаюсь в солнечном свете любого
рода. Прости!».
Франциска Ницше получила эти
письма к своему дню рождения. 6 февраля она отвечает сыну: «Ты, должно быть,
первым из моих 16 поздравителей получишь слова благодарности. Конечно же, твое
письмо мало годилось для дня рождения. Правда, я до вечера носила его в сумке
нераспечатанным потому, что мне хотелось порадовать себя им в сам день рождения,
но не утерпела: ты ведь незадолго до того прислал открытку, в которой посулил
мне длинное письмо. Разумеется, оно меня очень огорчило, даже лишило
сна, я не в состоянии его перечитывать, во мне все дрожало, и это «потерять
нас» до сих пор отзывается во мне такой болью! Альвина не знала, что со
мной случилось, и спрашивала все время, даже на следующее утро: «Отчего вы
выглядите такой расстроенной, госпожа пасторша», — покуда не появился
письмоноша и из 16 поздравительных писем и открыток я не выхватила сразу же
лиловую открытку и после этого потихоньку успокоилась. Что за боли такие тебе
пришлось выносить — «я был полумертвый и измученный болью» — это снова были
головные боли? Мне всякий раз
296
так
жаль, что со всеми телесными и душевными страданиями тебе приходится
справляться одному на чужбине, как бы мне хотелось постараться тебя утешить, с
какой охотой я бы читала тебе, пока у меня хватает на это дыхания! Правда, небо
у нас все время затянуто зимой плотными снеговыми и дождевыми облаками. Несколько
дней назад у нас было 14 градусов мороза, сегодня 2 градуса тепла, вчера —
дождь и сильный ветер, сегодня — снег, в результате многие, конечно болеют,
однако на меня эта погода не оказывает никакого влияния, должно быть, ты унаследовал
это от своего отца»[253].
271 Генриху Кезелицу в Венецию — Ницца,
1 февраля 1888
Дорогой друг,
сколь же близки Вы были мне все это время! чего я только не
насочинял себе, умного и не очень, в чем Вы всегда фигурировали в главных
ролях. К тому был прекрасный повод: последний тираж лотереи в Ницце, — и по
крайней мере на полчаса я позволил себе маленькую глупую роскошь находиться в
полной уверенности, что главный выигрыш достанется мне. С этим полумиллионом в
кармане можно было бы восстановить на земле немало смысла; по крайней мере мы
оба с большей иронией, большей «потустраненностью»[254]
взирали бы на неразумие своего существования, и по сути для того, чтобы делать
вещи, которые делаем мы с Вами и делать их замечательно и божественно,
нужно только одно — ирония (итак, полмиллиона — это цена иронии:
такова земная логика…)
То, что при нехватке здоровья, денег, уважения, любви, защиты мы не превратились в брюзжащих трагиков — это настоящий парадокс нашего теперешнего существования, его проблема. У меня настало состояние хронической ранимости, за которое я в лучшие моменты беду реванш, — и он тоже далеко не безобиден, по сути эксцесс жестокости. Свидетельство тому — мой последний труд. И все же я выношу все это пониманием рафинированного психолога и без малейшего морального осуждения; ох, как же поучительно жить в таком радикальном состоянии, как мое! Я только сейчас понимаю историю, у меня никогда не было такого глубокого видения, как в последние месяцы. (…)
297
272 Йозефу
Виктору Видманну в Берн — Ницца, Pension
de Genéve, 4 февраля 1888
Глубокоуважаемый господин доктор,
разбор моих произведений
господином Шпиттелером доставил мне большое удовольствие. Какой тонкий ум! Как
приятно выслушивать от него порицания! В силу известных причин он почти целиком
ограничился вопросами формы: суть дела, стоящую за мыслью, страсть, катастрофу,
движение к цели, к року он попросту оставляет в стороне — тут у меня прямо не
хватает слов, чтобы выразить свое одобрение в этом есть настоящая delicatezza1.
Нет недостатка и в поспешных суждениях. Очевидно, что читал произведения
впервые (а во многих случаях даже и не читал их). Тем большее восхищение
вызывает уверенность эстетического такта, с которым он проводит различия между
формой разных книг и периодов. Я очень недоволен тем, что осталось неучтенным
мое «По ту сторону»: в результате для разговора о вышедшем позднее «Памфлете» <«К генеалогии морали»> у него попросту не хватало
почвы под ногами.
Сложность моих произведений заключается в том, что в них присутствует перевес редких и новых состояний души над нормальными. Я не говорю, что это достоинство, но это так. Для этих незафиксированных и часто едва ли фиксируемых состояний я ищу знаков, и мне кажется, что в этом и заключается моя изобретательность. Ничто мне не чуждо так, как вера в «спасительную силу стиля», в которую, если я правильно понимаю, верит господин Шпиттелер. Разве не входит в замысел произведения первым делом созидание его собственного стиля? Я стою на том, что, если весь замысел меняется, следует так же безжалостно менять всю процедурную систему стиля. Так я поступил, к примеру, в «По ту сторону», стиль которого уже не похож на мой прежний: замысел в том, чтобы был смещен центр тяжести. Так же я еще раз поступил в последнем «Памфлете» — на место рафинированной нейтральности «По ту сторону» и его нерешительного продвижения вперед приходит Alltgro feroce2 и страсть nue, cru, verte3. Вполне возможно, что
298
господин Ницше в куда большей степени артист, чем нас пытается в том убедить господин Шпиттелер…
С огромной благодарностью и сердечным приветом
Ваш Ницше.
273 Карлу Шпиттелеру в Базель — Ницца, 10
февраля 1888 (Pension de
Genéve)
Милостивый государь,
возможно, Вы уже видели
новогоднее приложение к «Бунду». Я уже выразил за него благодарность
замечательному редактору «Бунда», не лишенную само собой иронии[255].
Господин Шпиттелер очень тонкий и интеллигентный человек, вот только сама
задача лежала в данном случае, как мне кажется, где-то очень в стороне, более
того, за пределами его обычных перспектив. Он не говорит ни о чем и не видит
ничего, кроме вопросов эстетики: мои проблемы, включая меня самого,
почти что замалчиваются. Не назван ни один существенный пункт, который бы меня
характеризовал. И наконец, даже в том, что касается вопросов формы, среди
обилия комплиментов нет недостатка и в ошибках и поспешных суждениях. Например:
(…) «афоризмы даются ему хуже всего» (а я-то, осел, вообразил себе, будто с
начала времен никто не владел искусством метких выражений так, как я:
свидетельство — мой «Заратустра»). Наконец, даже и о стиле моего памфлета господин
Шпиттелер замечает, что он весьма далек от совершенства; я-де записываю без
разбора все, что мне придет в голову, даже не задумываясь над этим. Это уже,
знаете ли, покушение на добродетель (называйте как хотите); я со страстной и
ранящей смелостью говорю о трех проблемах из числа труднейших на свете, которые
давным-давно уже являются моей вотчиной, при этом я, как того требует в таких
случаях высшая порядочность, щажу себя ничуть не более, чем кого-либо или
что-либо другое: вдобавок я придумал новую языковую личину для этих во всех
отношениях новых вещей, — а мой слушатель по-прежнему не слышит здесь ничего
кроме стиля, к тому же еще и дурного стиля, и сокрушается под конец, что его
надежда на Ницше как писателя теперь серьезно пошатнулась. Я что, интересно,
литераторствую?! Похоже, что даже в моем «Заратустре» он видит лишь некое
высшего рода упражнение в слоге. (…)
299
Последний вопрос: почему ничего не сказано о моем «По ту сторону»? Мне хорошо известно, что эта книга считается запрещенной, и тем не менее в ней можно найти ключ ко мне, если таковой вообще можно найти. (…)
Вам, милостивый государь, весьма обязанный и, надеюсь, не в последний раз
Фридрих Ницше.
274 Рейнхарту фон Зайдлицу в Каир — Ницца, 12
февраля 1888
Дорогой друг,
отнюдь не «гордое молчание» сомкнуло мне уста, так что я в последнее время почти ни с кем не общаюсь, а скорее смиренное молчание страждущего, который стыдится демонстрировать свои страдания. Зверь, когда болен, залезает в пещеру, — так же поступает и la bête1 философ. Дружеский голос так редко долетает до меня. сейчас я одинок, абсурдно одинок, и в своей безжалостной подземной войне против всего, что до сих пор было чтимо и любимо людьми (моя формула для нее — «Переоценка всех ценностей»), сам незаметно стал чем-то вроде пещеры — чем-то потаенным, чего уже не найти, даже если специально отправиться на поиски. Но на поиски никто не отправляется… Говоря между нами тремя2, не исключено, что я — величайший философ эпохи, а может быть,, и нечто несколько большее, решающее и роковое, стоящее между двумя тысячелетиями. За такое исключительное положение приходится постоянно расплачиваться — все возрастающим, все более ледяным, все более исключающим тебя одиночеством. А наши милые немцы!.. В Германии, хотя мне идет уже 45-й год и я опубликовал примерно пятнадцать книг… ни разу еще не доходило хотя бы до одного хоть сколько-нибудь стоящего обсуждения хотя бы одной моей книги. Сейчас взяли на вооружение словечки «эксцентричный», «патологический», «психиатрический». Нет недостатка и в злобных и клеветнических намеках в мой адрес; в журналах, и научных, и ненаучных, царит ничем не сдерживаемо враждебный тон, но как же это вышло, что
300
ни одна собака не возражает против этого? Что ни один не чувствует себя задетым, когда меня поливают грязью? И уже годами — никакого утешения, ни капли человечности, ни дуновения любви.
В таких обстоятельствах приходится жить в Ницце[256]. (…) Каждая заря занимается здесь в какой-то беззастенчивой красоте; более совершенной зимы еще не бывало. А эти краски Ниццы! Я хочу прислать их тебе. Все краски проникнуты каким-то светящимся серебром — тонкие, умные, изящные, безо всякого следа брутальности основных тонов. Этот маленький отрезок побережья между Алассио и Ниццей — экспансия африканщины в красках, растениях и сухости воздуха: такого не встречается больше нигде в Европе.
Ах, с какой бы радостью сидел я сейчас с тобой и твоей дорогой высокочтимой супругой под каким-нибудь гомеровско-феакским небом… но мне нельзя южнее (глаза обрекут меня вскоре на более северные и примитивные пейзажи). Напиши мне, пожалуйста, еще раз о том, когда ты снова будешь в Мюнхене, и прости мне это угрюмое письмо!
Твой верный друг Ницше
Странно! Я три дня ожидал твоего прибытия сюда в отель. Предполагались визитеры из Мюнхена, мне не хотели говорить, кто. Два места за столом рядом со мной освободили — и вот разочарование! Это оказались старые игроки и монтекарлисты, которые мне противны…
275 Георгу Брандесу в Копенгаген — Ницца, 19
февраля 1888
Милостивый государь,
Вы самым приятным образом обязали меня Вашими вкладом в понятие «современности», поскольку именно этой зимой я описываю широкие круги вокруг этой первостепенной ценностной проблемы, с самой вышины, очень с птичьего полета и с честнейшим намерением, настолько несовременно, насколько это возможно, взглянуть вниз на современность…
Меня поражает — признаюсь Вам в том! — Ваша терпимость, равно как и Ваша сдержанность в суждениях. Как Вы разрешаете приходить к себе всем этим «детишкам»1! Даже Хейзе2!
301
В следующую свою поездку в Германию я наметил для себя заняться психологической проблемой Кьеркегора, равно как и возобновить знакомство в Вашей древней литературой. Это будет мне в прямом смысле слова на пользу и послужит тому, чтобы «отрефлексировать» собственные мои резкость и высокомерие в суждениях.
Вчера мой издатель телеграфировал, что книги Вам отправлены. Хотелось бы избавить Вас и себя от повествования о том, почему это так поздно случилось. Прошу Вас, милостивый государь, сделайте хорошую мину при этой «дурной игре», я имею ввиду — этой ницшевской литературе.
Мне самому представляется, что я дал «новым» немцам самые щедрые, внутренне прожитые и независимые книги, какие у них вообще есть, а также, что касается моей личности, сам оказался основательным событием кризиса ценностных суждений. Однако это может быть заблуждением, да вдобавок еще и глупостью. Хотел бы, чтобы мне не приходилось иметь каких бы то ни было убеждений о себе. Еще пара замечаний: Вы ссылаетесь на моих первенцев (Juvenilia и Juvenalia1).
Памфлет против Штрауса, злое высмеивание «очень свободным умом» того, кто лишь считал себя таковым, вылилось с чудовищный скандал — я был тогда уже ординарным профессором, несмотря на свои 24 года, то есть своего рода авторитет и нечто заслуженное. Самое непредвзятое мнение об этом казусе, в котором почти что каждая «знаменитость» выступила либо с поддержкой меня, либо с моим осуждением и было изведено немыслимое количество бумаги, можно прочесть у Карла Хиллебранда2 в «Народах, временах, людях», т. 2. Не то было событием, что я высмеял старческую писанину этого экстраординарного критика, но то, что я поймал немецкий дух на компрометирующей безвкусице in flagranti3: они в один голос, несмотря на все религиозно-теологические партийные расхождения, восхищались штраусовской «Старой и новой верой» как памфлет был первым серьезным счетом, предъявленным немецкому образования (тому «образованию», которое, как тогда провозглашали, одержало победу над Францией), от яростной разноголосицы той полемики в употреблении осталась моя формулировка «филистер от образования».
Два трактата о Шопенгауэре и Рихарде Вагнере представляют собой, как мне сейчас кажется, скорее внутренние признания, данные
302
мною себе обеты, нежели подлинную психологию этих столь же глубоко родственных, сколь и антагонистичных мне мастеров. (Я был первым, кто дистиллировал от обоих некоего рода единство; сейчас это уже на поверхности немецкой культуры: все вагнерианцы — приверженцы Шопенгауэра. В мою молодость это было по-другому; тогда теми, кто держал сторону Вагнера, были последние гегельянцы, и еще в пятидесятые годы пароль звучал «Вагнер и Гегель».)
Между «Несвоевременными размышлениями» и «Человеческим, слишком человеческим» пролегла полоса кризиса, когда я как бы менял кожу. То же и физически: годами я жил в ближайшем соседстве со смертью. Это было моим величайшим счастьем: я забыл, я пережил себя… Подобный трюк удался мне еще раз.
Так что мы обменялись подарками, не правда ли, как два странника, которые рады, что повстречали друг друга?
Остаюсь преданнейший Вам
Ницше*
*7 марта 1888 г. Брандес отвечает: «Милостивый
государь!
Вы
живете, думается мне, среди прекрасной весны; здесь же, наверху1[257],
ужасные метели, и мы уже несколько дней как отрезаны от Европы. Кроме того,
я выступал сегодня перед несколькими сотнями тупиц, вижу вокруг много безотрадного
и грустного и вот хочу освежить свой дух, выразив Вам благодарность Ваше письмо
от 19 февраля и за книги, которыми Вы меня столь щедро одарили. (…)
Название моей книги «Современные умы» случайно. Я написал
около двадцати томов и захотел составить для заграницы том о личностях, которые
были бы там уже известны. Так она возникла. Кое-что в ней стоило немалых
штудий, как, например, статья о Тегнере2,
в которой о нем впервые говорится нечто соответствующее истине. Ибсен как
личность должен быть Вам интересен. К сожалению, как человек он находится не на
той высоте, какую занимает как художник. В духовном отношении он очень зависим
от Кьеркегора и все еще сильно проникнут теологией. Бьернсон в своей последней
фазе стал совершенно обыкновенным светским проповедником, да вдобавок еще
нечестным.
Уже больше трех лет, как я не издал ни одной книги;
я был слишком несчастлив для этого. Эти три года были из числа самых тяжелых в
мо-
303
ей жизни, я не вижу никаких примет приближения лучших
времен. Тем не менее я принимаюсь сейчас за публикацию 6-го тома моих сочинений
и еще другой книги. Это займет у меня много времени.
Я
сердечно порадовался всем полученным от Вас книгам, листал и читал. Ваши
юношеские книги очень ценны для меня, они очень облегчают мне понимание. Теперь
я спокойно поднимаюсь по ступенькам, ведущим к Вашему духу. Начав с Заратустры,
я поступил слишком опрометчиво. Я предпочитаю шагать в гору, чем прыгать вниз
очертя голову, как в море.
Статья
Хиллебранда была мне знакома, а несколько лет назад я читал некоторые ожесточенные
выпады против книги о Штраусе. За выражение «филистер от образования» я Вам
благодарен — я и не предполагал, что оно исходит от Вас. (…)
Из
остальных произведений я до сих пор честно и подробно изучил лишь «утреннюю
зарю». Я думаю, что целиком понял эту книгу; многие мысли совпадают с моими,
другие для меня новы или по-новому оформлены, однако это не делает их чуждыми
мне.
Чтобы
это письмо не стало чересчур длинным, один-единственный пункт. Меня радует
афоризм о «случайности браков». Почему, однако, Вы не копаете здесь дальше
вглубь? Вы говорите в одном месте с неким благоговением о браке, который
идеализирует чувства через предпосылку некоего идеала, — вот здесь бы резче,
грубее! Почему не сказать однажды всю правду об этом? Я того мнения, что институт
брака, который, правда, как сдерживатель звериного начала в человеке может приносить
немало пользы, ввергает людей в еще большие беды, чем церковь. Церковь,
монархия, брак, собственность — вот для меня 4 старых добрых института, которые
человечество должно в корне преобразовать, чтобы вздохнуть с облегчением. Но из
них один лишь брак убивает индивидуальность, парализует свободу, являет собой
воплощенный парадокс. Это ведь ужасно, что человечество еще слишком незрело,
чтобы отделаться от него. Так называемые свободнейшие художники по-прежнему
говорят о браке с наивно-невинным видом, который приводит меня в ярость. И они
правы, поскольку невозможно сейчас сказать, какой человеческий трос следует
протянуть на его месте. Не остается ничего другого, как медленно видоизменять opinion[258].
А что Вы думаете об этом?
Мне
бы очень хотелось знать, как Ваши глаза. Я был рад увидеть, как четок и
разборчив Ваш почерк.
Должно
быть, внешне Ваша жизнь там внизу протекает спокойно? Моя же — жизнь в борьбе,
которая сжигает дотла. Сейчас я в этих странах еще более ненавидим, чем 17 лет
назад; это само по себе ма-
304
лоприятно,
и все же вместе с тем отрадно постольку, поскольку доказывает мне, что я еще не
ослабел и ни в едином пункте не пошел на мировую с господствующей всюду
посредственностью.
Ваш
внимательный и благодарный читатель
Георг
Брандес».
276 Генриху Кезелицу в Венецию — Ницца, 26
февраля 1888
Дорогой друг,
Хмурая погода, воскресный день, глубокое одиночество; самое приятное, что я могу сейчас придумать — это немного рассказать Вам, поговорить с Вами. Только что я обратил внимание, что пишу посиневшими пальцами; мой почерк сможет разобрать лишь тот, кто умеет читать мысли… То, что Вы говорите в Вашем письме о стиле Вагнера, напомнило мне мое записанное где-то замечание на этот счет: о том, что его «драматический стиль» есть не что иное, как разновидность дурного стиля, более того, отсутствия стиля в музыке. Но наши композиторы видят в этом прогресс… По сути, в области этих истин все еще останется несказанным, а я так подозреваю, что и не обдуманным; сам Вагнер как человек, как корифей, как бог и как художник стократ выше и понимания и неразумия немцев. А может быть, и французов тоже? Сегодня я имел удовольствие найти подтверждение ответу на весьма рискованный, казалось бы, вопрос: кто до сих пор был лучше всех подготовлен к Вагнеру? Кто был самым естественным и искренним вагнерианцем, не имея при этом к Вагнеру никакого отношения? На это я уже давно ответил себе: это был тот самый малохольный оригинал Бодлер, поэт «Цветов зла». Я и впрямь пожалел, что этот глубоко родственный Вагнеру ум не успел открыть его для себя. Я подчеркнул в книге его стихотворений некоторые места, в которых присутствует некий род вагнеровской чувствительности, нигде более в поэзии не обретавший своего воплощения (Бодлер бывает либертинистский, мистический, «сатанистский», но прежде всего — вагнерианский). И что же я сегодня узнаю! Я листаю недавно вышедшее собрание Euvres posthumes1 этого чрезвычайно ценимого и даже любимого во Франции гения, и вот посреди бесценных психологических свидетельств декаданса («mon cœur mis á nu»2 та-
305
кого рода, какие
Шопенгауэр и Байрон в их случае сжигали) мне бросается в глаза неизданное
письмо Вагнера в связи со статьей Бодлера в Revue européenne апреля 1861 г. Я переписал его: « Mon chere Monsieur Baudelaire,
j’étais plusieurs foi chez vous sans vous trouver. Vouz[259] croyez bien, c
Рихард Вагнер»*
(Вагнеру было тогда 48, Бодлеру 40; письмо трогательное, хоть и на ломаном французском).
(…) В последние годы его жизни, когда он был полубезумен[260]
и медленно умирал, Бодлеру давали вагнеровскую музыку в качестве лекарства;
и даже когда просто называли при нем имя Вагнера, «il a souri d’allegresse»2. (…)
* Ниже Н. так охарактеризует это послание Вагнера к
Бодлеру: «Письмо, исполненное таких же благодарности и энтузиазма, какие
Вагнер, если я не обманываюсь, письменно выказывал впоследствии лишь однажды:
по получении “Рождения трагедии”».
306
277 Георгу Брандесу в Копенгаген — Ницца, 27
марта 1888
Милостивый государь, мне бы
очень хотелось еще раньше поблагодарить Вас за столь обстоятельное и наводящее
на раздумья письмо, однако у меня возникли трудности со здоровьем, так что я во
всем ужасно медлителен. Глаза мои, попутно говоря, служит динамометром всего
моего самочувствия: после того как в главном дело снова пошло вперед и в гору,
они стали выносливее, чем я вообще мог надеяться, — они посрамили предсказания
самых лучших немецких глазных врачей. Если бы господа Грефе et hoc henus
Мне жаль Вас на Вашем в нынешнем году особенно зимнем и угрюмом севере. Как там вообще удается сохранить душевные силы?! Я преклоняюсь едва ли не перед каждым, кто под пасмурным небом не теряет веру в себя, не говоря уж о вере в «человечество», в «брак», «собственность» и «государство»… В Петербурге я был бы нигилистом; здесь я верю, как верит растение, в солнце. Солнце Ниццы — это и в самом деле не выдумка. Мы наслаждаемся им за счет остальной Европы. Бог со свойственным ему цинизмом позволяет этому солнцу светить над нами, бездельниками, «философами» и греками, ярче, чем над куда более достойным браво-героическим «фатерландом».
В конце концов, и Вы инстинктом северянина избрали сильнейшее из имеющихся стимулирующих средств, чтобы выдержать жизнь на севере, — войну, агрессивный эффект, набеги викингов. Я узнаю по Вашим работам бывалого солдата; и пусть не только «посредственность», но и, быть может, порода куда более самостоятельных и самобытных натур северного духа неизменно вызывает Вас на борьбу. (…)
Ваш «Немецкий романтизм» заставил меня задуматься о том, что все это движение по существу достигло своей цели лишь в музыке (Шуман, Мендельсон, Вебер, Вагнер, Брамс) — в литературе оно осталось только большим обещанием. Французы были удачливее. Я боюсь, что музыка так нужна мне для того, чтобы не стать романтиком. Без музыки жизнь была бы для меня бессмыслицей.
С сердечным и благодарным приветом
Ваш Ницше*.
307
*3 апреля
1888 года Брандес отвечает: «Милостивый государь!
Вы нарекли письмоношу
«посредником бесцеремонных вторжений». Это, как правило, очень верно, и потому
пусть sat sapienti1 он Вас не обременит. Я по натуре не
назойлив, так что живу почти изолированно, сам неохотно пишу письма, вообще
пишу неохотно, как и все писатели.
Однако вчера, получив Ваше
письмо и взявшись за одну из Ваших книг, я внезапно ощутил своего рода гнев на
то, что ни один человек здесь, в Скандинавии, Вас не знает, и быстро решился
разом сделать Вас известным. Маленькая газетная вырезка сообщит Вам, что я (как
раз закончивший ряд лекция о России) анонсирую новые лекции о Ваших
произведениях.
Уже несколько лет мне
приходится повторять свои лекции, поскольку университет не может вместить всех
служителей. На сей раз дело будет, по всей видимости, не так, поскольку Ваше
имя совершенно ново; однако те, кто придут и получат представление о Ваших
произведениях, будут отнюдь не самыми глупыми.
Так как мне очень хотелось
бы знать, как Вы выглядите, я прошу Вас подарить мне Вашу карточку. Здесь я
прилагаю мою последнюю фотографию. Еще я хотел попросить Вас совсем вкратце
написать мне о том, когда и где Вы родились и в каких годах изданы (а лучше —
созданы) Ваши сочинения, поскольку они не датированы. Если в Вас есть
какая-нибудь газета, в которой значатся эти внешние факты, тогда Вы можете
этого и не писать. Я человек беспорядочный, у меня нету ни словаря писателей,
ни какого-либо другого, где можно найти Ваше имя.
Ваши ранние труды —
«несвоевременные» — очень мне пригодились. Как молоды и восторженны, а также
открыты и наивны Вы были! Многое в Ваших книгах зрелой поры я еще не совсем понимаю;
часто мне кажется, что Вы истолковываете или обобщаете сугубо интимные, личные
факты и предлагаете читателю красивый ларчик без ключа к нему. Но основное я
понимаю. С восхищением я читал Вашу раннюю работу о Шопенгауэре; хотя лично я
мало чем обязан Шопенгауэру, для меня это прозвучало как из глубины души.
Пара маленьких педантичных
замечаний: «Веселая наука» (…) На с. 118 Вы говорите о той высоте, «на которую
Шекспир ставит Цезаря». Я нахожу, что шекспировский Цезарь жалок. В своем роде
цареубийство. И это возвеличивание убогого типа, который не нашел ничего
лучшего как воткнуть нож в великого человека! (…)
Эти мелочи призваны лишь
показать Вам, что я Вас внимательно читаю. Мне, разумеется хотелось бы говорить
с Вами совсем о других вещах, но для писем это не годится.
308
Если Вы
читаете по-датски, я хотел бы прислать Вам маленькую прекрасно оформленную работу
о Хольберге1, которая появится через 8
дней. Напишите мне, знаете ли Вы наш язык. Если Вы читаете по-шведски, я бы
обратил Ваше внимание на единственного гения Швеции Августа Стриндберга. Когда
Вы пишете о женщинах, Вы очень схожи с ним. Пусть Ваши глаза доставляют Вам
только приятное.
Преданный Вам Георг
Брандес».
278 Генриху
Кезелицу в Венецию — Турин, 7 апреля 1888
Дорогой друг,
как же мне это пришлось по душе! Первый привет, который меня здесь поджидал, был Вашим, а последний, заставший меня в Ницце, также был Вашим. А какие добрые, диковинные вести! Оказывается, Ваш квартет уже лежит перед Вами в виде некоего каллиграфического шедевра, и благодаря ему Вы теперь можете благословлять даже эту зиму. В сущности, становишься очень взыскательным, когда оправданием своей жизни служат произведения. В частности, при этом разучаешься нравиться людям: они чувствуют, что ты слишком серьезен. Чертовская серьезность стоит за человеком, который хочет уважить свои произведения…
Дорогой друг, чтобы написать Вам, я использую первое затишье чрезвычайно бурного путешествия. Возможно, это затишье даст мне хоть немного покоя и устойчивости, поскольку до сих пор я был просто вне себя. Еще никогда не путешествовал я при таких неблагоприятных обстоятельствах. Это же надо, пережить с понедельника по субботу столько абсурдных вещей! Все не задалось, с самого начала; два дня я пролежал большой и где? В Сампьердарена. Не подумайте только, что я намеревался туда ехать. Один лишь мой чемодан следовал исходной интенции добраться до Турина; все прочие же, а именно мой ручной багаж и я, разбрелись кто куда. А какой же дорогой была поездка! Как обогащались на моей бедности! Я и вправду более не гожусь для путешествий в одиночку; они вызывают во мне чрезмерное возбуждение, так что за что бы я ни принимался, все идет вкривь и вкось. Здесь тоже так было поначалу. Ночами бессонница и полное непонимание что к чему. Когда мы снова увидимся, я опишу Вам одну сцену в Савоне, которая прекрасно сгодилась бы в фельетон. Только вот меня она сделала больным.
309
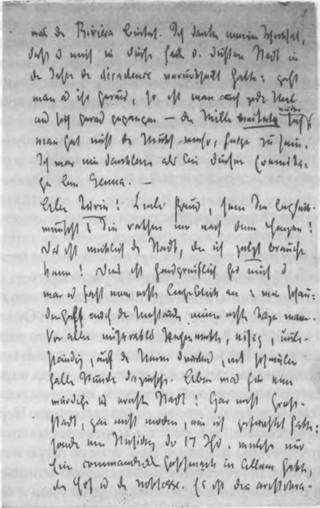
По Генуе я бродил как тень среди ярких воспоминаний. То, что я любил там прежде, пять или шесть избранных мест, понравились мне теперь еще больше, они показались исполненными несравненного выцветшего благородства и гораздо прекраснее всего, что предлагает Ривьера. Я благодарю судьбу, что она приговорила меня к этому мрачному городу в году декаданса, — если удается выйти из них, это каждый раз все равно что выйти из самого себя, воля снова устремляется вширь, ты больше не расположен быть робким. Я ни перед чем не чувствовал в себе такой благодарности, как перед этим отшельничеством в Генуе.
Но Турин! Дорогой друг, тут я могу Вас поздравить! Вы посоветовали то, что мне действительно по сердцу! Это в самом деле тот город, который мне теперь может быть нужен! Это для мен очевидно, причем почти с первого же мгновения: как бы ни были ужасающи обстоятельства первых дней. Проведенных здесь. (…)
310
279 Георгу
Брандесу в Копенгаген — Турин. Ferma
in posta1, 10 апреля 1888
Однако, милостивый государь, какая это, право, неожиданность! Откуда взялось в Вас столько храбрости, чтобы во всеуслышание заговорить о таком vir obscurissimus2?! Может быть, Вы думаете, что я известен милом отечестве? Со мною ведь обращаются, как если б я был чем-то диковинным и абсурдным, чем-то, что до поры до времени вообще незачем принимать всерьез… Они явно чуют, что я их также не принимаю всерьез: да и как бы я мог это делать сегодня, когда «немецкий дух» стал contradiction in adjecto3!
За фотографию я Вам самым обязывающим образом признателен. К сожалению, я со своей стороны не могу ответить тем же: последние карточки, которые у меня были, увезла с собой моя сестра, вышедшая замуж в Южной Америке.
К сему прилагается небольшая автобиография, первая из написанных мною. Что касается времени создания моих книг, о соответствующие годы значатся на оборотной стороне титульного листа «По ту сторону добра и зла». Может быть, у Вас больше нет той страницы?
«Рождение трагедии» писалось с лета 1870-го по зиму 1871 года (закончено в Лугано, где я жил вместе с семьей фельдмаршала Мольтке).
«Несвоевременные размышления» — с 1872-го по лето 1875 года (их должно было быть 13; к счастью, здоровье сказало «нет!»).
То, что Вы пишете о «Шопенгауэре как воспитателе», очень меня радует. Этот маленький труд служит для меня опознавательным знаком: тот, кто не найдет в нем ничего своего, тому, вероятно, не скажут ничего и прочие мои вещи. В сущности, он содержит в себе схему, по которой я жил до сих пор; этот труд есть строгий обет.
«Человеческое, слишком человеческое» вместе с двумя своими продолжениями писалось в летнее время 1876–1879 годов. «Утренняя заря» — в 1880-м. «Веселая наука» — в январе 1882-го. «Заратустра» — 1883-го по 1885-й (каждая часть приблизительно за десять дней. Совершеннейшее состояние «вдохновения», все сочинялось на ходу, во время долгих дальних прогулок; абсолютная уверенность, как если б каждая фраза была мне громко и явственно продиктована. Одновременно с этим чувство чрезвычайной физической упругости и собранности).
311
«По ту сторону добра и зла» — летом в Верхнем Энгадине и следующей зимой в Ницце. «Генеалогия морали» задумана, создана и в подготовленном к печати виде отправлена в лейпцигскую типографию между 10 и 30 июля 1887 года.
(Естественно существуют еще и мои филологические труды. Однако до них нам обоим уже нет никакого дела.)
сейчас я как раз ставлю для себя эксперимент с Турином: хочу здесь остаться до 5 июня, чтобы потом ехать в Энгадин. До сих пор тут по-зимнему жестко и зло. Но город восхитительно спокойный и ласкающий мои инстинкты. Прекраснейшая мостовая в мире.
Вас приветствует благодарно преданный Вам
Ницше.
Какая жалость, что я не знаю ни датского, ни шведского!
Vita. Я родился 15 октября 1844 года на поле битвы пол Лютценом.
Первое услышанное мною имя было Густав Адольф1.
Мои предки были польские дворяне Ницкие; кажется, этот тип хорошо сохранился несмотря
на три поколения немецких матерей. За границей меня обычно принимают за поляка,
еще этой зимой меня обозначили в ниццком списке
иностранцев c
312
мне профессуру; я
не был еще даже доктором. Вслед за этим Лейпцигский университет пожаловал
мне докторскую степень, весьма почетным образом: безо всякого экзамена, даже
без диссертации. С Пасхи 1869 года и по 1878-я я был в Базеле; мне пришлось
отказаться от немецких прав гражданства, иначе я как офицер («конный артиллерист»[264])
слишком часто призывался бы в армии, что мешало бы моей академической деятельности.
Тем не менее я знаю толк в двух видах оружия — саблях и пушках — и, возможно,
еще и в третьем… В Базеле все складывалось очень благоприятно, несмотря на мою
молодость; случалось, в частности, при защитах докторских диссертаций, что
экзаменуемый бывал старше экзаменатора. Судьба оказалась благосклонной ко мне в
том, что между мною и Якобом Буркхардтом установилась душевная близость
— нечто необычное для этого замкнутого и живущего особняком человек. Еще бо́льшая благосклонность судьбы сказалась в том, что я
с самого начала моего базельского существования оказался в неописуемо близкой
дружеской связи с Рихардом и Козимой Вагнер, которые жили в то время в своем поместье
Трибшен под Люцерном, как на острове, словно порвав все свои связи. В течение
нескольких лет мы были вместе и в великом, и в малом; это было доверие без
границ. [В вагнеровском собрании сочинений (том 7) вы найдете его «открытое
письмо» ко мне по случаю «Рождения трагедии».] Те отношения принесли мне
знакомство с большим кругом интересных людей (и «людеек») — в сущности,
почти со всем, что произрастает между Парижем и Петербургом. К 1876 году мое
здоровье ухудшилось. Ту зиму я провел в Сорренто с моей старой знакомой
баронессой Мейзенбуг («Мемуары идеалистки») и симпатичным доктором Рэ. Лучше не
стало. Появились крайне мучительные и упорные головные боли, которые
исчерпывали все мои силы. За долгие годы это выросло в состояние такой хронической болезненности, что в году у меня тогда бывало по 200 дней боли. У
этого недуга должны быть сугубо локальные причины — для него нет никаких
невропатологических оснований. У меня никогда не бывало симптомов умственного
расстройства: даже лихорадки или обмороков. Мой пульс был тогда столь же
ровным, как у Наполеона I
(= 60). Типичным для меня было два–три дня с полнейшей ясностью cru, vert1 переносить крайнюю боль при продолжительной рвоте со слизью. Распространили
слух, будто бы я был в сумасшедшем доме (или даже умер там). Нельзя представить
себе большего заблуждения. Напротив, именно в это ужасное время мой дух стал зрелым; свидетельство тому — «Утренняя заря», которую я написал в одну из зим
немыслимых лишений в Генуе,
313
вдали от врачей, друзей и близких.
Эта книга для меня своего рода «динамометр»: я сочинил ее на минимуме
сил и здоровья. С 1882 года дела снова пошли, конечно же, очень
медленно, на лад; кризис, кажется, преодолен (мой отец умер очень молодым,
ровно на том же году жизни, на котором я сам был ближе всего к смерти». Мне еще
и сегодня необходима крайняя осмотрительность: обязательны пара условий
климатического и метеорологического характера. То, что я провожу лето в Верхнем
Энгадине, а зиму на Ривьере, — это не выбор, а необходимость… В конце концов,
болезнь принесла мне величайшую пользу: она высвободила меня, она
возвратила мне мужество быть самим собою… Также по характеру своих инстинктов я
— животное смелое, даже воинственное; долгое противостояние несколько обострило
мою гордость. Философ ли я? Но что это меняет?!*
*29 апреля
1888 года Брандес отвечает: «Милостивый государь! Во время моей первой лекции о
Ваших произведениях зал был не до конца заполнен — возможно, полторы сотни
слушателей, — поскольку никто вообще не знал, что Вы такое. Однако после того,
как одна большая газета дала отзыв на мою первую лекцию, а сам я написал статью
о Вас, интерес возрос и уже на следующий раз зал был полон. Наверное,
приблизительно 300 слушателей с величайшим интересом внимали моему изложению
Ваших работ. Повторят лекции, как я это обычно делаю, я все же не отважился,
поскольку эта тема столь мало популярна. Я надеюсь таким образом найти для Вас нескольких хороших читателей на
севере. (…)
Когда Вы в своем первом
письме предложили мне Ваше музыкальное произведение «Гимн к жизни», то я из
скромности отказался от этого дара, поскольку не очень разбираюсь в музыке.
Теперь я надеюсь заслужить это произведение своим к нему интересом и был бы
очень Вам признателен, если бы Вы пожелали его мне предоставить.
Я думаю, что смогу
суммировать впечатления моих слушателей тем, как мне это выразил один молодой
художник; это так интересно потому, что речь здесь идет не о книгах, а о жизни.
Там, где в Ваших идеях им что-то не нравится, там это как бы «доведено до чрезмерной
крайности».
Это нехорошо Вы сделали, что
не прислали мне своей фотокарточки; по правде говоря, свою я отправил только
лишь затем чтобы хоть как-то обязать Вас. Ведь это столь малый труд — одну минуту
посидеть перед фотографом, а всякого человека узнаешь гораздо лучше, когда
имеешь представление о его внешности.
Всецело преданный Вам
Георг Брандес».
314
280 Карлу
Фуксу в Данциг — Турин, 14 апреля 1888
Дорогой, уважаемый господин доктор,
У меня здесь, как и в Ницце, на столе перед глазами Ваш портрет: диво ли, что мне нередко бывает охота с Вами потолковать? И что этим я сейчас и занят. К чему, спрашиваю я себя, это абсурдное разобщение пространством (тем самым, о котором философы говорят, что оно ими же и изобретено), эти пропасти между теми немногими, кто мог бы еще что-то сказать друг другу?
Вы бывали в Турине? Это город, который мне по душе. И даже
единственный такой город. Спокойный, почти торжественный. Классика для глаз и
классика для ног (благодаря великолепно вымощенным улицам и цветовому фону из
желтого и красно-коричневого, на котором все образует единство). Флер доброго
восемнадцатого столетия. Дворцы, обращенный к нашим чувствам, — никаких ренессансных крепостей. И еще то, что посреди города видишь снежные
Альпы! Так, будто улицы прямиком уходят в них! Воздух сух, утонченно ясен.
Никогда ты не поверил, что дневной свет может делать город таким прекрасным.
В пятидесяти шагах
от меня — палаццо Кариньяно (1670), мой грандиозный визави. Еще в пятидесяти —
театр Кариньяно, где, между прочим, весьма прилично представляют «Кармен». Иной
раз полчаса подряд идешь по улице через высокие аркады. Здесь все устроено
широко и свободно, особенно площади, так что посреди города испытываешь гордое
чувство свободы.
Вот сюда и приволок
я котомку со своими заботами и философией. До самого июня я смогу не мучаться
от жары. Близость гор сулит мне энергию, даже некоторую стихийность. Затем на
очереди моя старая летняя резиденция — Зильс-
Где-то я прочел,
что лишь в немногих городах Германии отмечали юбилей Шопенгауэра1. Упоминали Данциг. Я при этом подумал о
Вас.
Как же все это далеко! Как же все утекает дальше и дальше! Как тиха становится жизнь! Куда ни глянь, никого, кто бы меня знал. Моя сестра в Южной Америке. Письма все реже. А ведь я даже еще не стар!!! Просто философ! Просто сам по себе! Просто компрометирующе сам по себе!
315
А вот курьез: только что прислали газету из Дании. Оттуда я узнаю, что в копенгагенском университете читается цикл публичных лекций «Om den tueske filosof Friedrich Nietzsche»1. Лектор — приват-доцент доктор Георг Брандес. (…)
281 Георгу
Брандесу в Копенгаген — Турин, 4 мая 1888 года
Милостивый
государь, то, что Вы мне рассказали, очень радует меня и более того — удивляет.
Будьте уверены в том, что я Вам это «припомню: знаете ли Вы, что все затворники
«злопамятны»?.. (…) «Гимн к жизни» отправится в эти дни в свое датское
путешествие. Мы, философы, особенно благодарны бывает тогда, когда нас путают с
художниками. Кстати, со стороны лучших экспертов я слышу уверения в том, что
этот гимн вполне годен для исполнения и пения2 и что в отношении его успеха также можно не
сомневаться («чистота фраз»: эта похвала более всего порадовала
меня). (…)
Эти недели в
Турине, где я пробуду еще до 5 июня, удались мне лучше, чем какие-либо другие
за последние годы, прежде всего в философском отношении. Я почти каждый день на
один-два часа накапливал такую энергию, чтобы просматривать всю мою концепцию
целиком сверху вниз — когда чудовищное множество проблем лежало
подо мной проработанным, словно рельеф с четкими контурами. Для этого нужен
максимум сил, которого я уж едва ли ожидал от себя. Все связывается, уже
несколько лет все было на верном пути, ты строишь свою философию, как бобр, ты
необходим и не знаешь этого; однако все это нужно увидеть, как я увидел сейчас,
чтобы поверить в это.
Я чувствую такое
облегчение, такой прилив сил, я в таком хорошем настроении, я забавляюсь с самыми
серьезными вещами, приделывая им маленькие хвостики. С чем все это связано? Не
добрым ли северным ветрам благодарен я, тем ветрам, которые не всегда прилетают
с Альп? Иногда они прилетают и из Копенгагена!
Вас приветствует Ваш благодарно преданный
Ницше*.
316
*23 мая 1888 года Брандес отвечает:
«Милостивый
государь!
За
письмо и фотокарточку и музыку мое самое сердечное спасибо. Письмо и музыка
обрадовали меня безоговорочно; фотография же могла бы быть и получше. Это —
изображение в профиль из Наумбурга[265], характерное
по форме, однако слишком маловыразительное. Вы должны выглядеть по-другому; на
лице того, кто написал «Заратустру», должно быть написано гораздо больше тайн.
Мои
лекции о Фр. Ницше я закончил к Троице. Они завершились, как пишут газеты
аплодисментами, «перешедшими в овацию». Овация почти целиком относится к Вам. Я
же позволю себе здесь письменно присоединиться к ней. Поскольку моя заслуга
была лишь в том, чтобы ясно и связно, понятно для скандинавских слушателей
передать то, что в изначальной форме наличествовало у Вас. Я пытался также
охарактеризовать Ваше отношение к различным современникам, ввести слушателей в
мастерскую Ваших идей, подчеркнуть мои собственные излюбленные идеи там, где
они совпадают с Вашими, определить мои расхождения с Вами и дать
психологический портрет автора Ницше. Во всяком случае я могу без преувеличения
сказать: Ваше имя сейчас очень популярно во всех образованных кругах Копенгагена
и по меньшей мере повсюду на слуху в целой Скандинавии. Вам не за что благодарить
меня; для меня было удовольствием углубиться в мир Ваших мыслей. Того, чтобы
быть напечатанными, мои лекции не заслуживают; я не считаю чисто философское
своей специальностью и неохотно печатаю что-либо, касающееся предмета, в
котором я не чувствую себя достаточно компетентным.
Я
очень рад, что Вы чувствуете себя столь окрепшим физически и пребываете в таком
замечательном расположении духа. Здесь после долгой зимы наступила мягкая
весна. (…)
Я
надеюсь, что в будущем мы с Вами никогда не станем совершенно чужды друг другу.
Остаюсь Вашим верным читателем и почитателем.
Георг Брандес».
282 Георгу
Брандесу в Копенгаген — Турин, 23 мая 1888 года
Милостивый
государь,
я не хотел покидать
Турин, не выразив Вам еще раз, сколь значительно Ваше участие в первой из моих удавшихся весен. История моих
317
весен, по крайней мере в последние 15 лет, была вообще-то жуткой
историей, фатальностью упадка и слабости. От местности при этом ничего не
зависело; было так, словно никакой рецепт, никакая диета, никакой климат не
способны изменить по существу депрессивный характер этого времени. Но вот ведь! Турин!
и первые добрые вести, Ваши вести, милостивый государь, из которых явствует,
что я живу… Ибо я подчас забываю, что живу. Некий случай, вопрос напомнил мне
на днях о том, что для меня почти упразднилось одно из главных понятий жизни —
понятие будущего. Ни единого желания, ни облачка желания предо мною! Гладкая
равнина! Отчего бы какому-нибудь дню семидесятого года моей жизни не походить в
точности на мой сегодняшний день? В том ли дело, что я слишком долго прожил в
соседстве смерти и потому перестал обращать внимание на прекрасные возможности? Но, во всяком случае я довольствуюсь,
сейчас мыслями о сегодня и завтра, определяю сегодня, что должно произойти
завтра — и ни на день дальше! Это, может быть, неразумно, непрактично, может
быть, даже не по-христиански — тот нагорный проповедник запретил именно эту заботу «о завтрашнем дне», — но кажется мне в высшей степени
философским. У меня появилось больше уважения к себе, чем прежде: я понял, что разучился желать, даже и не желая того.
Эти недели я посвятил «переоценке ценностей». Вам понятен этот троп? В сущности, алхимик принадлежит к самому заслуженному роду людей: я имею в виду того, кто из ничтожного, презренного делает нечто ценное и даже золото. Он один обогащает; остальные лишь разменивают. Моя задача при этом совершенно курьезного свойства: я спросил себя, что до сих пор более всего вызывало у человечества ненависть, страх, презрение, — и именно из этого сделал я мое «золото»…
Только бы мне не стали приписывать фальшивомонетчество! Точнее, наверняка будут это делать…
Под конец признаюсь в своем любопытстве. Поскольку у меня не было возможности подслушать под дверью и услышать что-то о себе, я бы охотно подслушал что-нибудь другим путем. Три слова к характеристике тем отдельных Ваших лекций — как много хотелось бы мне узнать из трех слов!
Вас, милостивый государь,
сердечно приветствует
преданный
Вам Ницше.
318
283 Генриху Кезелицу в Венецию. — Турин, четверг
31 мая 1888
(…) В эти недели мне попалась
книга законов Ману во французском переводе, подготовленном в Индии и
детально согласованном с тамошними учеными и высокими священническими чинами.
Этот абсолютно арийский продукт, священнический моральный кодекс
древнейшего происхождения, основанный на ведах и учении о кастах, — не
пессимистический, хотя и сугубо священнический — самым неожиданным образом
дополнил мои представления о религии. Сознаюсь в ощущении, что теперь все
прочее доставшееся нам от великих этических законодательств кажется подражаем и
даже карикатурой… даже Платон во всех основных пунктах представляется просто хорошо обученным брахманами. Евреи предстают
при этом расой чандалы, обучающейся у своих господ принципом, по которым
священство приходит к власти и организует народ… Похоже, что и китайцы
под влиянием именно этой классической древнейшей книги законов произвели
на свет учения Конфуция и Лао Цзы. А средневековая организация выглядит как чудна́я попытка вслепую вернуть все те представления,
на которых базировалось древнее индоарийское[266]
общество, вкладывая в них однако пессимистические ценности, взросшие на
почве упадка рас.
Евреи, похоже, и здесь были просто «посредниками» — они ничего не изобрели. (…)
284 Генриху Кезелицу в Венецию — Зильс,
четверг 14 июня 1888
(…) До сих пор мои дела шли неважно, дорогой друг. Путешествие, как всегда, далось мне дорогой ценой: понадобилось около 6 дней, чтобы хоть как-то оправиться от его неприятных последствий. Нет,наверное, ничего менее устойчивого, чем мое здоровье… Погода, которую я застал здесь, наверху была совсем не такой, какую я искал*. Влажно, душно, липкий воздух — 23 градуса. Только вообразите: я с сожалением думал о том, что покинул Турин, несмотря на то что уже застал тамошнюю жару. В последние дни термометр изо дня в день поднимался там до 31 градуса; 22 градуса было минимумом. И что удивительно, я, чувствительнейший к жаре человек, совершенно не страдал от этого — хорошо спал, хорошо ел, вынашивал идеи и работал… Нежный сухой воздух, дуновения зефира на улицах — в сущности это было осо-
319
бый род неведомого мне прежде эпикурейства. А уж каких высот достигла там культура кофеен — об этом я даже не отваживаюсь писать.
Со вчерашнего дня сюда тоже вернулся хороший воздух и
здоровая атмосфера. Зильс действительно чудесен, perla perlissima1,
выражаясь вольной латынью. По богатству красок — стократ южнее, чем Турин. Повсюду еще
встречаются следы 26 лавин, в том числе совершенно чудовищных. Ими сметены
целые леса. Тут действует любопытное лавинное право: древесина
принадлежит тому, на чей участок ее отнесла лавина. Один житель Беверса получил
таким образом в подарок древесины на 5000 франков. До самого мая здесь еще лежал
снег толщиной в 6 футов. (…)
*Судя по письму Карлу Фуксу от 30 июня, энгадинская погода тем летом
досаждала не только Н.: «Я не припомню, когда мне приходилось застать столь
дурную погоду: и это в моей Зильс-Марии, куда я бежал, чтобы ускользнуть от
дурной погоды! Неудивительно, что даже пастор здесь заимел привычку ругаться.
Он теперь то и дело запинается в разговоре, а затем каждый раз разражается
каким-нибудь проклятием. Недавно, выходя из заснеженной церкви, он избил свою
собаку, приговаривая: «Чертов кобель испоганил мне всю проповедь!»[267]
285 Карлу Кнорцу в Эвансвилл (Индиана) — Зильс-
(…) Мне представляется, что, благодаря богатству психологического опыта, бесстрашию перед опаснейшим, предельной искренности, мои книги действительно первоклассны. Мне не пристало скромничать и в том, что касается искусства воплощения и артистических амбиций. С немецким языком меня связывает давняя любовь, тайная близость, глубокое благоговение! Достаточно оснований, чтобы больше не читать почти никаких книг, написанных на этом языке (…)
320
286 Францу Овербеку в Базель — Зильс, Энгадин,
4 июля 1888
(…) С тех пор как покинул Турин, я нахожусь в жалком состоянии. Вечная головная боль, вечная рвота; обострение моих старых болячек, накладывающееся на глубокое нервное истощение, при котором вся машина уже ни на что не годится. Мне с трудом удается отогнать от себя самые печальные мысли. Вернее: мое общее состояние видится в совершенно ясном, но отнюдь не благоприятном свете. Нету не только здоровья, но и предпосылок к тому чтобы выздороветь, — жизненные силы больше не справляются. Потерь как минимум десяти лет жизни не восполнить — при том, что я все это время жил на свой «капитал» и нечего, совсем ничего не приобретал. Но ведь этак беднеешь… Потери организма — они ведь не списываются, за каждый плохой день выставляется счет: этому взгляду на вопросы физиологии я научился у англичанина Гальтона1. В благоприятных условиях, проявляя чрезвычайную осторожность и изобретательность, я еще могу добиться шаткого равновесия; но если этих благоприятных условий нет, тут уж мне никакие осторожность и изобретательность не помогут. Таким вот благоприятным условием был Турин, неблагоприятным же на сей раз, к сожалению, Зильс. Тут я угодил в хмурую и неспокойную зимнюю погоду, которая оказывает на меня столь же плачевное действие, как какой-нибудь февраль в Базеле. Такая чрезмерная подверженность метеорологическим влияниям сама по себе не хороший признак: она характеризует некое общее истощение, которое на деле и является моей настоящей бедой. Все эти головные боли и тому подобное — лишь более или менее симптоматичные следствия. В самые худшие времена в Базеле и после Базеля дело обстояло ничуть не иначе, разве что (или же с той только разницей, что) тогда я был совершенно несведущ и позволял врачам обследовать меня на предмет всяких локальных недугов, что сказалось скорее губительно. У меня нет в собственном смысле ни заболеваний мозга, ни желудочных заболеваний, но под влиянием нервного истощения (отчасти унаследованного от отца, который скончался на самом деле вследствие общей нехватки жизненных сил, отчасти же приобретенного) осложнения проявляются во всех формах. Единственным режимом, который в то время был бы для меня уместен, был американский курс Вайра-Митчелла: мощная инъекция ценнейшего питательного матери-
321
ала (при полной смене места,
общества, интересов)[268].
На самом же деле, из незнания, я избрал противоположный режим: я и до сих пор
не понимаю, как я не умер в Генуе от полного истощения.
287 Францу
Овербеку в Базель (черновик) [Зильс-
Дорогой друг,
пишу тебе еще несколько слов, но только для нас двоих, сугубо между нами. Бремя, которое давит на мое существование, непомерно, однако заключено оно не там, где ты и другие мои друзья пытаетесь отыскать его. У меня едва ли получится о нем толком сказать. Но с тех пор как у меня на совести мой Заратустра, я чувствую себя как зверь, которому снова и снова наносят рану. Рана эта оттого, что никакого ответа, ни намека на ответ не долетает до меня. Эта книга стоит настолько в стороне, я хочу сказать, по ту сторону всех книг, что это сущая мука — быть ее создателем. Она точно так же оставляет своего творца в стороне, по ту сторону. Я стараюсь выскользнуть из петли, которая хочет меня удивить, — из одиночества и изоляции; с другой стороны, я понимаю со всей глубиной, почему никто не может сказать мне слов, которые бы еще долетали до меня… Мораль: можно погибнуть от того, что сделал нечто бессмертное, — потом в каждое мгновение приходится за это расплачиваться. Это портит характер, портит вкус, портит здоровье. Понять и внутренне пережить хотя бы шесть фраз этой книги, — мне кажется, одно это способно возвести каждого в некий высший, незнакомый ранг смертных. Однако нести на себе весь мир этой книги — неизмеримо тяжелый мир никогда еще доселе невиданного и неслыханного, с его глубинами и далями, а затем, попытавшись поделиться им, то есть облегчить свое бремя, встретиться лицом к лицу с мертвым тупым одиночеством, — это, я скажу, чувство, с которым едва ли что сравнится.
Я, как ты можешь себе представить, с большой
изобретательностью обороняюсь против эксцессов этого чувства. Этому же служат и
мои последние книги: в них больше страсти, чем во всем, что я вообще до сих пор
написал. Страсть оглушает. Она идет мне на пользу, она позволяет немного
забыться… Кроме того, я в достаточной мере артист, чтобы
уметь фиксировать состояние, покуда оно не станет формой, образом. Я с изрядной
долей произвола сочинил для себя таких персонажей, которые своей дерзостью
доставляют мне удовольствие, к примеру, «имморалиста» — неслыханного до сих пор
типа. Сейчас как раз будет
322
печататься небольшой памфлет музыкального
толка, который может показаться продиктованным самым что ни на есть веселым
расположением духа: веселье тоже оглушает. Оно идет мне на пользу, оно
позволяет забыться… Я и в самом деле очень много смеюсь, производя такое на
свет.
Находить развлечения, которые действуют достаточно сильно,
становится все трудней. Временами на меня нападает неописуемая тоска.
288 Карлу
Фуксу в Данциг — Зильс, 24 июля 1888
(…) В последние дни часто стояла безоблачная погода и Зильс распустил свой прежний павлиний хвост соблазнительно южных красок. И вот в один из таких дней объявляется старый музыкант, капельмейстер Дрезденского придворного театра, служащий там с 1847 года. Я аккуратненько раскутал седого как лунь старика — и на свет вышел целых ворох музыкальных историй с совершенно чудесными деталями. Можете себе вообразить, что Вагнер, будучи придворным капельмейстером, на полном серьезе предлагал королю сложить с себя королевский титул и объявить себя «наследным президентом Веттинского дома»? А также требовал, чтобы тот отменил деньги и снова ввел натуральный обмен. Наказание за такие эксцентричности было мягким и даже изысканным: у Вагнера отобрали классический репертуар и заставили его дирижировать всякой дрянью. К несчастью, Бюлов, в ту пору совсем еще зеленый юнец, имевший контрамарку от придворной интендантуры, расстроил эту затею. Он распорядился контрамаркой по собственному разумению, при первой же возможности освистав оперу, которой Вагнер не дирижировал, и провалил ее.
На сегодня достаточно! Я писал лишь для того, чтобы что-нибудь Вам написать.
Ваш друг Ницше.
289 Карлу
Шпиттелеру в Нейвевиль — Зильс, Энгадин, 25 июля 1888
(…) Что касается моих взаимоотношений с немецкой прессой, о которых Вы спрашиваете, то в них предостаточно странностей. В их
323
основе заложен страх передо мной. Я один из немногих, кто не опасается себя скомпрометировать: весьма опасный сорт людей. На деле я пользуюсь немалым авторитетом и становлюсь, исподволь, весьма читаемым автором. Быть самым независимым умом Европы — это что-то. У меня в каждом городе, даже в Балтиморе, есть кружки почитателей. Моим самым ценным шагом к тому, чтобы раз и навсегда гарантировать себе уважение, была занята беспрерывным самовосхвалением (…)
Не могу не признать: этот страх — наиценнейшего рода, а именно, в каждый миг он готов перерасти в благоговение. Мне еще никогда не удавалось нажить себе личного врага.
Первый шаг, который надо совершить, появившись «в обществе, чтобы на тебя обратили внимание, — это дуэль, сказал Стендаль. Я этого не знал, но я это сделал. (…)
290 Карлу
Фуксу в Данциг [Зильс-
По поводу разделения античной ритмики («ритм-время») и варварской («ритмика аффекта»).
1. Тому, что, кроме ударений в словах, существовали еще
какие-то другие ударения, у античных ритмиков (к примеру, Аристоксена) нет ни
свидетельств, ни дефиниций, ни даже какого-либо слова для обозначения
такого явления. (…)
2. Как в Афинах, так и в Риме даже самым прославленным ораторам
ставили в упрек, если у них нечаянно выходило говорить стихами. В источниках
можно найти бесчисленные примеры таких сорвавшихся с языка стихов. Однако с
точки зрения нашей обычной манеры декламировать греческие и латинские
стихи этот упрек совершенно непонятен (только с помощью ритмических
ударений мы из последовательности слогов способны создать стихотворение; а вот
согласно античному суждению совершенно обычная речь запросто может
содержать в себе полноценные стихи).
3. Согласно красноречивым свидетельствам, было совершенно невозможно услышать ритм декламируемых лирических стихотворений, если только отмеренные промежутки времени не доводились ударами в такт до сведения чувств. До тех пор пока это сопровождалось танцем (а античная ритмика выросла не из музыки, но из танца), ритм можно было только увидеть глазами. (…)
324
6. Наконец о главном. Оба эти рода ритмики противоположны в своем происхождении и своих изначальных целях. Наша варварская (или германская) ритмика понимает под ритмом последовательность равных по своей силе повышений аффекта, разделенных понижениями. Старейшая формула нашей поэзии: три слога, каждый выражает какое-то ключевое понятие — словно бы три значащих удара в чувствилище аффекта… Наш ритм — это средство выражения аффекта; у античного же ритма, «ритма-времени», наоборот, задача властвовать над аффектом и до некоторой степени его элиминировать. Декламация у античных рапсодов была необычайно страстной (в «Ионе» Платона можно найти сильное описание жестов, слез и т. д.). Временна́я соразмерность ощущалась как своего рода масло на волнах. Ритм в античном понимании был, морально и эстетически, уздой для страсти.
В целом: наш тип ритмики относится к области патологии, античный — к «этосу».
Господину доктору Карлу Фуксу дружески на заметку.
Ф. Н.
291 Карлу
Фуксу в Данциг (черновик) [Зильс-
Дорогой друг, Вам следует — наконец! — осознать, что фразировка — совсем не из тех вещей, до которых мне есть дело; а также, что из участия к Вам и некоей присущей мне объективности в отношении вещей малоприятных я воздерживался от того, что любой другой на моем месте давно бы уже сделал, а именно сказал бы: «Да идите Вы к черту!». Однако теперь я уже принимаю меры самообороны. Я должен руками и ногами защищаться от того, чтобы кто-либо заваливал меня письмами*. Какое отношение к таким абсурдным вопросам, как «фразировка», имеет мое наполненное все-таки чем-то более серьезным существование!
Всякий, кто имеет хоть малейшее представление о глубочайшей
собранности и сосредоточенности, каких требует от меня разрешение вопросов
высшей пробы, не осмеливается мне писать. Я уже давно не веду никакой
переписки, кроме как со своей матерью и моим другом Гастом — с последним именно
по той причине, по какой я желал бы прервать мое общение с Вами. Ваше
толстенное письмо останется нераспечатанным — в этом можете быть уверены; [– –
–]
325
*Это раздражение накапливалось давно. О том,
чем оно вызвано, говорит еще письмо Францу Овербеку от 20 июля 1888 года:
«Доктор Фукс написал мне тем временем целые тома (в частности, письмо на 12
больших листах убористым почерком!)… Эгоизм его настолько изворотлив, а с
другой стороны, так боязлив и скован, что тут, я боюсь, ничто уже не поможет,
ни большой талант, ни подлинный артистизм его натуры. (…) Он посулил мне
некое эссе о моих произведениях, при этом он смертельно боится, что
заступничество за меня, атеиста, может повредить ему как органисту в соборе
св. Петра. Ну разумеется — под псевдонимом!! Он уже заклинал обоих моих
издателей хранить его инкогнито. А еще Фукс много лет смертельно боялся того,
что его отношения со мной повредят ему в глазах Вагнера. За пару же лет до
того, в пору, когда влияние мое в вагнеровском мире было неоспоримо, он весьма
прилежно меня обхаживал. Я предсказывал, что со смертью Вагнера к нему вернется
смелость писать мне. так и вышло, с точностью до смешного. А еще он — органист данцигской синагоги; можешь представить себе, что он самым мерзким
образом потешается над иудейским богослужением (однако же принимает за него деньги!!).

Напоследок
он мне написал в одном из писем о своем происхождении со столькими
отвратительными и непристойными откровенностями по поводу своих матери и отца,
что я потерял всякое терпение и самым грубым образом воспретил писать подобные
письма. У меня нет ни малейшей охоты допускать в свое одиночество случайные
эпистолярные помехи. Вот до чего уже дошло. К сожалению, я слишком хорошо знаю
подобный сорт людей, чтобы рассчитывать на то, что этим дело ограничится».
292 Карлу
Фуксу в Данциг — Зильс, 6 сентября 1888
Дорогой друг,
в ближайшие дни я уезжаю из Зильса; поскольку мне надолго еще потребуется глубокая сосредоточенность, я вновь стану недоступен сообразно моей монашеской практике для любого рода визитов — в том числе и писем. Передо мной уже лежит целая стопка непрочитанных
326
писем, боюсь, что среди них — и два
Ваших послания. Не буду скрывать от Вас закравшегося подозрения: не идет ли в
них речь о священной «фразировке»? Если так, следовало бы со всей серьезностью
задуматься, не ошибочно ли указан адресат. Письма по поводу «фразировки» —
философу Переоценки всех ценностей?!. В Ницце меня вовсю стараются
заинтересовать марсианами; там на это небесное тело направлены мощнейшие в
Европе телескопы. Вопрос: кто мне собственно ближе — марсиане или же
фразировка? Я с радостью буду и дальше интересоваться доктором Фуксом, но все
же не его марсианами…,
Небольшое сочинение под заголовком:
Казус Вагнер
Композитор-проблема
Будет прислано Вам в октябре.
С сердечным приветом
философ из Зильс-Марии
N. B. Здесь в Зильсе меня пытаются заинтересовать самой большой из до сих пор пойманных, в 30 фунтов, форелью; как знать, может быть, этот тот самый казус, особенно если будет хороший майонез…
293 Мете
фон Салис ауф Маршлинс — Зильс-
(…) В последнее время я был весьма прилежен — до такой степени, что мне впору забрать назад стенания моего последнего письма об «утонувшем лете»*. Мне даже удалось нечто большее, нечто, чего я от себя и не ожидал… Правда, вследствие этого моя жизнь в последнее время пришла в некоторый беспорядок. Несколько раз я вставал ночами часа в два, повинуясь «призыву свыше» и записывал то, что перед тем рождалось у меня в голове. А потом можно было услышать, как хозяин дома господин Дуриш осторожно открывает входную дверь и выскальзывает наружу — охотиться на серн. Как знать, быть может, и моя охота была охотой на серн…
Совершенно удивительный день был третьего сентября.
Утром я писал предисловие к моей «Переоценке ценностей», самое гордое
предисловие, быть может, из всех, что до сих пор писались. После этого я выхожу
из дома и что я вижу? Самый прекрасный день, какой мне приводилось видеть в
Энгадине. Сочность всех красок, синева озера и неба, ясность воздуха — что-то
неимоверное… Так казалось не
327
только мне. горы, белоснежные до самого подножия, — поскольку у нас стояли настоящие зимние дни — только лишь усиливали это сияние.
(…) 15 сентября я уезжаю в Турин… В следующие годы я приму решение, отдавать и в печать мою «Переоценку всех ценностей», самую независимую книгу на свете. Это решение еще должно вызреть! Первая книга, к примеру, называется «Антихрист».
*В
предыдущем письме тому же адресату от 22 августа говорилось: «По сравнению с
прошлым летом… это кажется прямо-таки «затонувшим». Что для меня чрезвычайно
огорчительно — ведь впервые у меня выдалась весна, из которой я почерпнул
столько сил, куда больше, чем из прошлогодней. И все было подготовлено для
выполнения большой и совершенно определенной задачи».
294 Георгу
Брандесу в Копенгаген — Зильс-
Милостивый государь,
сим я имею честь и удовольствие вновь напомнить Вам о себе, а именно — пересылая это маленькое, злое, но, несмотря на это, преследующее очень серьезные цели сочинение, написанное еще в хорошие туринские дни. С тех пор в переизбытке было дурных дней и такого упадка здоровья, мужества и, говоря по-шопенгауэровски, «воли к жизни», что в ту маленькую весеннюю идиллию мне уже почти и не верилось. К счастью, у меня оставался еще один документ той поры: «Казус Вагнера. Композитор-проблема». Злые языки захотят прочесть это как «Случай Вагнера».
Как бы ни хотелось Вам, и с самыми вескими на то
основаниями, защититься от музыки (самой навязчивой из всех муз), все же
загляните как-нибудь в этот опыт психологии музыканта. Вы, досточтимый
господин коспомолитикус, настроены слишком по-европейски, чтобы не услышать при
этом в сто раз больше, чем мои так называемые земляки, «музыкальные» немцы (…)
В сущности, этот труд написан почти что по-французски — возможно, даже легче перевести его на французский, чем на немецкий.
Не сообщите Вы мне пару русских или французских адресов, по которым имело бы смысл отправить это сочинение?
Через пару месяцев от меня можно ожидать нечто философское; под весьма благонамеренным заглавием «Досуги психолога» я наговорю все-
328
му миру любезностей
и нелюбезностей; в том числе этой высокодуховной немецкой нации.
Все это по-настоящему лишь передышка в настоящем деле, которое называется переоценкой всех ценностей; Европе понадобится открывать еще одну Сибирь, чтобы заслать туда этого «переоценщика».
Надеюсь, что это бодрое письмо застанет Вас в свойственном Вам решительном расположении духа.
Часто вспоминающий Вас
доктор Ницше*
*6 октября
1888 г. Брандес отвечает:
«Глубокоуважаемый дорогой
господин Ницше!
Ваше письмо и Ваша
драгоценная посылка застигли меня в самом пылу работы. Отсюда задержка с моим
ответом. Уже почерк Ваш пробудил радостные ожидания в моей душе. Грустно и
плохо, что у Вас было неважное лето. Я-то по безрассудству полагал, что все
физические недуги у Вас уже окончательно позади.
Брошюру я прочел с
величайшим вниманием и громадным удовольствием. Не до такой уж степени я
немузыкален, чтобы не уметь оценить подобных вещей. Я лишь некомпетентен. Как
раз за несколько дней до того как получить Вашу книгу, я присутствовал на
превосходном представлении «Кармен». Какая восхитительная музыка! И все же,
рискуя прогневить Вас, я признаюсь, что «Тристан и Изольда» Вагнера произвела
на меня неизгладимое впечатление. Я слушал эту оперу однажды в Берлине в
отчаянном, совершенно издерганном душевном состоянии и сочувствовал каждой
ноте. Не знаю, быть может, впечатление было столь глубоким оттого, что я был
таким больным.
Знаете ли Вы вдову Бизе? Вы
должны послать ей эту брошюру. Она ее порадует. Это милейшая, очаровательнейшая
женщина с нервным тиком, который ей странно идет, и притом очень подлинная,
очень настоящая и пылкая натура. (…)
Один экземпляр книги я дал
значительнейшему шведскому писателю Августу Стриндбергу, которого я совершенно
расположил к Вам. Он настоящий гений, только немного помешан, как и большинство
гениев (и не гениев). Я буду старательно подыскивать место для другого
экземпляра. Париж мне теперь малознаком. Вы же отправьте один экземпляр по
следующему адресу: госпоже княгине Анне Дмитриевне Тенишефф1,
329
Английская набережная, 20, Петербург. Эта дама — моя
очень близкая подруга; она знает и музыкальный мир Петербурга и сделает Вас там
известным. Я уже и раньше предлагал ей приобрести Ваши сочинения, однако в
России всё, даже «Человеческое, слишком человеческое», было под запретом. Также
имело бы смысл отправить один экземпляр князю Урусову2 (который фигурирует в письмах
Тургенева). Он очень интересуется всем немецким, человек весьма одаренный,
духовный гурман. Я, правда, в данный момент не припомню его адреса, но могу его
узнать.
Я
рад, что несмотря на все физические недомогания, Вы столь бодро и отважно
работаете. Я радуюсь всему, что Вы мне обещаете.
Для
меня было бы большой радостью, если бы Вы стали моим читателем, но, к
сожалению, Вы не понимаете моего языка. Этим летом я неимоверно много работал.
Я написал две большие книги (в 24 и 28 печатных листов): «Польские впечатления»
и «Русские впечатления»; кроме того,
целиком переработал одну из моих прежних книг, «Исследования по эстетике», для
нового издания и сам правил все три книги. Где-то через неделю я закругляюсь с
этой работой, затем у меня будут новые лекции, в промежутках между которыми я
буду писать лекции для Петербурга и Москвы и затем поеду посреди зимы в Россию,
дабы воспрянуть там духом.
Таков
план моего зимнего похода. Пусть только он не обернется русской кампанией в
дурном смысле слова.
Надеюсь
и в будущем на Ваш дружеский интерес ко мне.
Верно
преданный Вам
Георг
Брандес».
295 Паулю
Дойзену в Берлин — Зильс-
Дорогой друг,
прежде чем покинуть Зильс, мне хотелось бы снова пожать тебе руку — в память о самом большом сюрпризе*, который принесло мне это
330
щедрое на сюрпризы лето**. (…) Сейчас у моего издателя уже находится рукопись, в которой дано чрезвычайно строгое и точное выражение всех моих философских гетеродоксий, скрытое за всяческими любезничаньями и колкостями. Она называется «Досуги психолога»1. Однако оба этих труда на самом деле лишь передышки посреди безмерно трудного и решительного начинания, которое, будь оно понято, расколет пополам историю человечества. Его смысл заключен в трех словах: «Переоценка всех ценностей». После этого многое, что считалось дозволенным и само собой разумеющимся, не сможет более оставаться таковым: бескомпромиссные суждения о ценностях покажут, что скрывается на каждом шагу в благостном царстве терпимости — трусость и слабость характера. Быть христианином — приведу лишь один из выводов — отныне станет неприличным. Об этом радикальнейшем из переворотов, известных человечеству, мне тоже немало есть что сказать. Но, еще раз, мне нужны всякого рода передышки, отвлечения и ответвления, чтобы этот труд представлялся созданным без видимых усилий, как игра, как «свобода воли».
*Очевидно, речь идет о
событии, описанном в письме Овербеку 14 сентября: «Строго между нами, дорогой
друг: из Берлина от лица “желающих
остаться неизвестными” друзей и
почитателей (среди которых, однако, в качестве посредника и, вероятно, главного
пожертвователя обнаружился профессор Дойзен) мне был доставлен «почетный дар» в
виде 2000 марок. Я принял его лишь ввиду необходимости самому
печатать свои произведения, со всей определенностью отвергнув мысль,
будто я нахожусь в нужде, и выразив признательность за либеральность базельцев.
Деньги и в самом деле пришли очень вовремя — в этих абсурдных типографских
обстоятельствах я теперь снова могу вздохнуть свободнее».
**«Сюрпризцы»
этого лета Н. перечисляет в письме Рейнхарту фон Зайдлицу от 13 сентября:
«Лето, как всем известно, выдалось просто скандальным: я поражаюсь своему
терпению, с меня будто столько шкур было снято, что впору оклеивать ими мою
комнату. Напоследок Энгадин еще вздулся в таком приступе водянки, что
еще немного, и мы превратились бы в рыб. И впрямь неслыханные дела для Зильса:
лето, прямо-таки знойное, продолжительностью в полторы недели, было подано до
весны; на месте весны и лета — неоднозначная, а подчас и совершенно однозначная,
зима».
331
296 Генриху
Кезелицу в Бухвальд — Турин, 27 сентября 1888
(…) Путешествие было трудным, оно самым обременительным
образом испытывало мое терпение: лишь в полночь я добрался до Милана. Самым
опасным был долгий ночной переход через затопленную местность по узенькому
мостику из деревянных балок в Комо, — при свете факелов! Будто специально придумано
для меня, слепого крота! Обессиленный затхлым и гнетущим воздухом Ломбардии,
приехал я в Турин. и тут, что удивительно, все будто бы разом встало на свои
места. Волшебная ясность, осенние краски, редкостная удовлетворенность всеми
нюансами (…)
297 Мальвиде
фон Мейзенбуг в Рим — Турин, 18 октября 1888
Высокочтимая подруга,
это не те вещи, относительно которых я допускаю возражения. В вопросах декаданса я — высшая инстанция, какая есть на свете; эти нынешние люди с их жалостными выродившимися инстинктами должны почитать за счастье, что у них есть кто-то, кто в беспросветных случаях наливает им чистое вино. Если этот паяц сумел возбудить веру (как Вы это выразили с заслуживающей уважения невинностью) в то, что он — « наивысшее воплощение творческой природы», ее, так сказать, «заключительное слово», — для этого ему и в самом деле понадобился гений — гений лжи… Сам же я имею честь быть чем-то противоположным — гением правды.
298 Францу
Овербеку в Базель — Турин, 18 октября 1888
Дорогой друг,
вчера, с твоим письмом в руке, я совершал свою привычную дневную прогулку за окраину Турина. Повсюду прозрачный октябрьский свет. В лесу, по которому меня около часа ведет прекрасная тропа, почти вдоль берега По, осень еще едва ощутима, я сейчас самый благодарный человек на свете и настроен по-осеннему, во всех лучших смыслах этого слова: настала пора моей большой жатвы. Все мне легко, все
332
удается… Что первая книга «Переоценки всех ценностей» готова, готова к печати, об этом я сообщаю тебе с чувством, для которого не могу подыскать слов. Всего будет четыре книги — они выйдут порознь. На этот раз я, как старый артиллерист, демонстрирую свое тяжелое оружие: боюсь, что из него история человечества будет расстреляна напополам. То произведение, на которое я тебе намекнул в прошлом письма, скоро будет завершено… Твоя цитата из «Человеческого, слишком человеческого» пришла очень вовремя, чтобы ее можно было ввести в текст. Это произведение уже само по себе — стократное объявление войны, с отдаленными раскатами грома в горах. Против немцев я выступаю в нем полным фронтом: на «двусмысленность» тебе жаловаться не придется. Эта безответственная раса, у которой на совести все величайшие преступления против культуры. Все решающие моменты истории держала на уме, видите ли, нечто «иное» (реформацию во времена Ренессанса, кантовскую философию — именно когда в Англии и Франции с таким рудом пришли к научному способу мышления; «освободительные войны» — по пришествии Наполеона, единственного, кто до сих пор был достаточно силен, чтобы преобразовать Европу в политическое и экономическое единство), а сейчас, в момент, когда впервые поставлены величайшие вопросы о ценностях, у нее на уме «рейх», это обострение партикуляризма и культурного атомизма. Не бывало еще более важного момента в истории, но кто бы только знал об этом? Это непонимание, которое мы сегодня видим, глубоко закономерно: в мгновение, когда не виданные прежде высота и свобода духовной страсти ухватывает высшую проблему человечества и требует приговора самой его судьбе,— в такой момент с особой отчетливостью должна выделяться всеобщая мелочность и тупость. Против меня пока еще нет ни малейшей враждебности: попросту нет еще ушей для чего-либо моего, следовательно — ни за, ни против…
(…) Сейчас мне нужно изо всех сил экономить, чтобы
осилить огромные типографские расходы, предстоящие в следующие три года… Мой
план — оставаться здесь до 20 ноября… Затем я собираюсь в Ниццу. (…)
299 Георгу
Брандесу в Копенгаген — Турин, 20 октября 1888
Досточтимый и дорогой господин Брандес,
и вновь вместе с Вашим письмом повеяло добрым ветром с севера: по сути, это было до сих пор единственное письмо, в котором бы выразилось «нормальное отношение», вообще какое бы то ни было отно-
333
шение к моим посягательствам на Вагнера. Ибо мне не пишут. Я даже у близких и ближних вызываю ужасный страх. Так, например, мой давний друг барон Зайдлиц из Мюнхена, к несчастью, как раз президент мюнхенского Вагнеровского общества; мой еще более давний друг, советник юстиции Круг из Кёльна, — президент тамошнего Вагнеровского общества; мой зять доктор Бернхард Ферстер в Южной Америке, небезызвестный антисемит, — один из самых рьяных сотрудников «Байройтских листков; а моя досточтимая подруга Мальвида фон Мейзенбуг, автор «Мемуаров идеалистки», по-прежнему путает Вагнера с Микеланджело… Возможно, в Байройте будут защищаться на германо-имперский и кайзеровский манер тем, что запретят мои сочинения как «опасные для общественной нравственности», и кайзер в этом случае будет на их стороне. Ведь даже мою фразу «нам всем знакомо неэстетичное понятие христианского юнкерства» могут истолковать как оскорбление монарха.
Мне было приятно услышать Ваши похвалы в адрес вдовы Бизе. Пожалуйста, дайте мой адрес ей, а также князю Урусову. Один экземпляр отправлен Вашей подруге княгине Дмитриевне Тенишефф. После моей следующей публикации, которую совсем недолго осталось ждать (название теперь: «Сумерки кумиров, или Как философствуют молотом»), мне бы также очень хотелось отправить один ее экземпляр столь лестным образом представленному мне Вами шведу. Я только не знаю, где он живет. Это сочинение, представляющее мою философию in nuce1, радикально, как преступление…
О том, как воздействует «Тристан», я сам мог бы рассказать немало чудесного. Изрядная доза душевной муки, думается мне, — превосходное тонизирующее средство к вагнерианскому пиршеству. Имперский судебный советник доктор Винер из Лейпцига дал мне понять, что один из карлсбадских курсов лечения также пойдет для этого.
Ну и работящий же Вы! А я, идиот, даже е понимаю по-датски!
Целиком и полностью верю Вам в том, что именно в России можно «воспрянуть духом»; кое-какие русские книги, прежде всего Достоевского (во французском переводе, ради всего святого, не в немецком!!), я отношу к числам тех вещей, которые явились в моей жизни величайшим облегчением.
От всего сердца и с правом быть благодарным Вам
Ваш Ницше*.
334
*16 ноября 1888 года Брандес отвечает:
«Милостивый государь!
Напрасно ждал я ответ из
Парижа, чтобы узнать адрес мадам Бизе. Адрес князя Урусова, напротив, у меня
теперь имеется. Он живет в Петербурге, Сергиевская, 79.
Все три мои книги уже вышли.
Я начал читать здесь мои лекции. Удивительно, как замечания о Достоевском в
Вашем письме и Вашей книге совпадают с моими впечатлениями т него. Я упоминаю о
Вас также в моей работе о России, где я пишу и о Достоевском. Он великий
художник, но отвратительный тип, совершенно христианский в своей эмоциональной
жизни и притом совершенно sadique1. Вся его мораль — это именно то, что Вы окрестили
рабской моралью.
Потрясающего шведа зовут
Август Стриндберг; он живет здесь. Его адрес: Хольте под Копенгагеном. Он
полагает, что встретил в Вас свое женоненавистничество, и потому особенно Вас
ценит. По этой причине Вы для него «современны» (ирония судьбы!). Когда он
прочел в газетах отзывы на мои весенние лекции, то сказал: поразительно с этим
Ницше; многое у него так будто бы я сам это написал. На французском языке вышла
его драма «Отец» с предисловием Золя. Мне грустно, когда я думаю о Германии.
Куда она движется?! Как грустно сознавать, что в историческом отношении, по
всей видимости уже не придется пережить ничего хорошего. Как жаль, что Вы,
такой ученый филолог, не понимаете по-датски. Я по возможности препятствую
тому, чтобы две мои книги о Польше и России были переведены: боюсь, как бы меня
не выдворили или как минимум не отказали в праве читать там лекции, когда я
снова захочу туда поехать.
В надежде, что эти строки
застанут Вас еще в Турине или же будут Вам пересланы, всецело преданный Вам
Георг Брандес».
300 Мальвиде
фон Мейзенбуг в Рим — Турин, 20 октября 1888
Высокочтимая подруга,
простите, если я еще раз возьму слово, — возможно, это в последний раз. Постепенно я обрубил почти все свои человеческие связи, — из отвращения к тому, что меня принимают за нечто иное, чем я есть. Те-
335
перь на очереди Вы. Годами я присылаю Вам свои произведения, — с тем чтобы Вы наконец однажды честно и наивно заявили: «Меня приводит в ужас каждое слово». И здесь Вы были бы правы. Потому, что Вы «идеалистка», я же обхожусь с идеализмом как с укоренившейся в инстинктах нечестностью, как со стремлением ни за что на свете не видеть реальности; каждая фраза моих произведений содержит презрение к идеализму. За всю историю человечества не было худшей напасти, чем эта вот интеллектуальная нечистоплотность; у всех реалий отнял их ценность тем, что выдумали «идеальный мир»… Вам непонятна моя задача? И что я называю словами «переоценка всех ценностей»? Почему Заратустра смотрит на добродетельных как на самую опасную породу людей? Почему он должен быть разрушителем морали? Вы забыли, что он говорит «сокрушите, сокрушите добрых и праведных»?*
Мое понятие «сверхчеловека» Вы снова извратили для себя, чего я Вам никогда не прощу, в некое «возвышенное надувательство», из области сивилл и пророков; меж тем как всякий серьезный читатель моих произведений должен знать, что тип человека, который не вызовет у меня отвращения — это как раз противоположность добрым кумирам прошлого, во сто крат ближе типу Цезаря Борджиа, чем Христа. Когда же Вы в моем присутствии на одном дыхании упоминаете славное имя Микеланджело и такое насквозь лживое и нечистоплотное создание, как Вагнер**, — право же, лучше я избавлю Вас и себя от того, чтобы называть мое чувство своим именем, практически насчет каждого Вы всю свою жизнь строили себе иллюзии. Немало бед, в том числе как Ваши суждения абсолютно недостоверны. И под конец Вы запутались — где Вагнер, а где Ницше!.. Вы так и не уразумели, что это за отвращение, с которым я, как и всякий порядочный человек, повернулся спиной к Вагнеру 10 лет назад, когда это мошенничество, вместе с первыми «Байройтскими листками», стало осязаемым. Вам не знакомо то глубочайшее огорчение, с которым я, как и все честные музыканты, наблюдаю за распространением этой чумы вагнеровской музыки, за тем, как она наводит порчу на музыкантов? (…) Вы никогда не понимали ни единого моего слова, ни единого моего шага: тут ничего не поделаешь, и в это нам придется внести ясность, — «Случай Вагнера» для меня еще и в этом смысле оказался удобным случаем.
Фридрих Ницше
*12 августа
Мальвида фон Мейзенбуг писала Н.: «То, что Вы говорите, будто Вам выпало счастье
обратить против себя все, что слабо и добродетельно, — это заблуждение или
парадокс. Те, кто вправду до-
336
бродетелен, вовсе не слабы, скорее они по-настоящему
сильны, о чем свидетельствует и изначальное понятие «virtú». И Вы сами — живое противоречие своим словом
потому, что Вы поистине добродетельны, и я думаю, Ваш пример, если бы люди
только знали его, убеждал бы большое чем Ваши книги. Ведь что есть добродетельность?
Ради великой идеи, ради идеала упорно выносить жизнь со всем ее ничтожеством и
познанием, в свободе самоопределения спасать ее от несвободы слепой воли. Вы
сделали это и в иной форме достигли того же, что делали святые прежних времен и
другого мировоззрения».
**В
письме, на которое здесь отвечает Н., Мальвида фон Мейзенбуг писала: «Я
придерживаюсь мнения, что со старой любовью, даже если она погасла, нельзя
обходиться так, как Вы обходитесь с Вагнером. Этим наносишь обиду самому себе —
ведь прежде Вы всецело любили и предметом этой любви был вовсе не фантом, а
безусловная и цельная реальность. Такое выражение, как “паяц”,
применительно к Вагнеру и Листу совершенно отвратительно».
301 Генриху Кезелицу в Венецию — Турин,
30 октября 1888
Дорогой друг,
только что взглянул на себя в зеркале — так я не выглядел никогда. В исключительно славном расположении духа, упитанный и лет на десять моложе, чем мне это пристало. Вдобавок ко всему, с тех пор как я избрал Турин своей резиденцией, многое изменилось в том, какие honneurs1 я оказываю самому себе, — могу порадовать себя, к примеру, визитом к превосходному портному и придаю значение тому, чтобы меня повсюду принимали за важного иностранца. Что мне на удивление удается. (…) С точки зрения ландшафта Турин мне насколько симпатичней Ниццы, этого известкового, безлесного дурацкого куска Ривьеры, что меня прямо-таки разбирает досада: зачем я так долго там торчал… здесь же день за днем нарождается на свет все то же неукротимое совершенство и солнечное сияние: пышные кроны в пламенеющем золоте, нежная синева небес и широкой реки, воздух удивительной чистоты — Клод Лоррен наяву, какого я не чаял увидеть.
Погода так чудесна, что не составляет никакой сложности создать нечто ценное. В свой день рождения я принялся за очередное начина-
337
ние, которое, кажется, должно удасться,
и за которое я уже получил приличный аванс. Название: «Ecce H
302 Элизабет
Ферстер (черновик) [Турин, середина ноября 1888]
Моя сестра!
Я получил твое письмо1, и после того как несколько раз его перечитал, вижу себя всерьез поставленным перед необходимостью проститься с тобой. Сейчас, когда решилась моя судьба, каждое твое слово, обращенное к мне, я воспринимаю стократ острей: у тебя нет ни малейшего представления о том, что ты находишься в ближайшем родстве с человеком и судьбой, в которых разрешился вопрос тысячелетий, — в моих руках, если говорить совершенно буквально, будущее человечества… Я понимаю, как это вышло, что именно тебе в силу совершеннейшей невозможности видеть вещи, в которых я живу, пришлось бежать едва ли не в мою противоположность. Что меня при этом успокаивает, так это мысль, что ты устроила жизнь по-своему верно, что у тебя есть кто-то, кого ты любишь и кто любит тебя, что тебе предстоит выполнить значительную миссию, которой посвящены твои возможности и силы, — наконец, о чем я не хочу умалчивать, что именно эта миссия увела тебя изрядно далеко от меня, так что первое потрясение от того, что теперь,
338
возможно, произойдет со мною, тебя не затронет. Как раз этого я желаю ради тебя; перво-наперво, я горячо прошу тебя не идти на поводу у дружеского, и в данном случае действительно опасного, любопытства и не читать тех сочинений, которые я сейчас публикую. Они могут чрезмерно ранить тебя… В этом смысле я сожалею даже о том, что отправил тебе работу о Вагнере, а ведь она явилась для меня сущим благодеянием среди того неимоверного напряжения, в котором я живу, — как благородная дуэль психолога с лицемерным соблазнителем, которого никому не удавалось раскусить.
К вящему успокоению могу сказать о себе, что мое состояние превосходно, исполнено таких твердости и терпения, каких у меня не было за всю прежнюю жизнь; что легким стало самое тяжелое, что мне удается все, за что я ни возьмусь. А ведь задача, которая возложена на меня, — это моя собственная природа, так что я только сейчас смог уразуметь, чем было мое, предназначенное мне счастье. Я играю с глыбами, которые раздавили бы любого смертного… Ибо то, что мне предстоит совершить, — ужасно во всех смыслах слова: я выдвигаю свое страшное обвинение не против кого-то в отдельности, но против человечества в целом; и каким бы ни был приговор — в мою пользу или против меня, — в любом случае с моим именем будет связано несказанно много бед… Поэтому я от всего сердца прошу тебя видеть в этом письме не жестокость, но ее противоположность, настоящую человечность, которая старается уменьшить масштаб грядущего бедствия…
Твой брат.
303 Генриху
Кезелицу в Берлин — Турин, 18 ноября 1888
Ваше письмо имело последствия — это было как удар
молнии… Сразу же следом я отправил небольшое письмецо Фрицшу, за подписью «с
откровенным презрением, Ницше». Через два дня я напишу ему: давайте-ка
рассчитаемся, господин Фрицш! В этих обстоятельствах* мне
невозможно оставлять свои произведения в Ваших руках. Сколько Вы хотите за все?
Я рассчитываю, что он захочет 3000 талеров… Вообразите, что я таким образом
сделаюсь собственником «Заратустры». Уже «Ecce H
Но это все мелочи. Совсем другой вопрос глубоко занимает меня — вопрос оперетты, которого касается Ваше письмо. С тех пор как мы не
339
виделись, я просветился в этом вопросе — и еще как просветился! Покуда Вы употребляете это понятие с пренебрежением, подразумевая под ним некую вульгарность вкуса, Вы, — простите мне это сильное выражение! — всего лишь немец… Знаете, как месье Одран определяет оперетту: «Парадиз деликатных и утонченнейших вещей»… Почитайте какой-нибудь фельетон о новой парижской оперетте: они же сейчас во Франции подлинные гении остроумной распущенности, архаизмов, экзотизмов, совершенно наивных вещей. Требуется с десяток номеров наипервейшего ранга, чтобы оперетта при невероятном давлении конкурентов оставалась на плаву… Заверяю Вас, Вена — свинарник <по сравнению с этим>**…
Для наших тел и душ, дорогой друг, небольшое отравление «паризином» — прямо-таки «избавление», мы становимся собой, мы перестаем быть немчурой… Простите, но по-немецки я могу писать лишь с того момента, как представлю себе в качестве читателя парижанина. «Казус Вагнер» — это опереточная музыка…
(…) Вагнер знал обо всем этом: инсценировать себя он научился только в Париже.
Прошу это письмо также воспринимать трагически.
С искренним почтением
Ваш Н.
*Об этих
обстоятельствах» Н. говорит в письме Андреасу Хойслеру от 30 декабря 1888 года:
«Э. В. Фрицш из Лейпцига, у которого девять моих произведений…
гнуснейшим и оскорбительным для меня образом позволил себе издеваться надо мной
в связи с «Казусом Вагнер» в редактируемом им самим музыкальном еженедельнике».
**Из
письма Кезелицу от 27 сентября: «“Цыганский
барон” Штрауса — я вскоре после начала сбежал, испытывая
отвращение: немецкая пошлость двух сортов — животная и сентиментальная, и при
этом то и дело совершенно ужасающие попытки изобразить из себя образованного
композитора».
340
304 Георгу Брандесу в Копенгаген — Турин, виа
Карло Альберто, 6, III — 20
ноября 1888 года
Милостивый государь,
извините, что отвечаю Вам сразу же. В моей жизни теперь присутствует curiosa смысла в случайностях, ничего подобного которой мне не встречалось. Сперва позавчера, и вот теперь — снова. Ах, если бы Вы знали, что я написал только что, когда меня навестило Ваше письмо…
Сейчас я с цинизмом, который станет всемирно-историческим,
рассказал самого себя: книга называется «Ecce H
Вы догадываетесь, кому в «Ecce H
Вы также не должны досадовать на то, что собственной персоной появляетесь в одном из ключевых мест книги — я как раз написал его, — там, где я стигматизирую отношение ко мне моих немецких друзей: полнейшее игнорирование и в том, что касается признания, и в собственно философском отношении. Вы появляетесь в этом месте, окутанный учтивым облаком славы…
С Вашими словами о Достоевском я безоговорочно согласен; с другой стороны, я высоко ставлю его как ценнейший психологический материал, какой я только знаю, — я неожиданным образом благодарен
341
ему, как бы ни был он противен моим глубочайшим инстинктам. Примерно то же с моим отношением к Паскалю, которого я почти что люблю, поскольку он бесконечно многому научил меня: единственный логичный христианин…
Позавчера с восторгом и как будто бы совершенно свою вещь я прочитал «Les maries»1 господина Августа Стриндберга. Мое искреннее восхищение ничем не ограничивается, кроме чувства, что я при этом немного восхищаюсь и самим собою.
Турин остается моей резиденцией.
Ваш Ницше, ныне — чудовище…[269]
Куда мне следует послать Вам «Сумерки кумиров, или
Как философствуют молотом»? В случае если Вы еще 14 дней будете в
Копенгагене, ответ не нужен*.
*23 ноября
1888 года Брандес отвечает:
«Милостивый государь!
Ваше письмо застало меня
сегодня в самый разгар работы; я читаю здесь курс о Гете, повторяю каждую
лекцию по два раза, и тем не менее люди уже за три четверти часа до начала
выстраиваются в очередь на площади перед университетом, чтобы занять стоящее
место. Мне занятно проходить перед столь многими величайшее из великого. Я
должен буду оставаться здесь до конца года.
Далее, однако, привходит
одно малоприятное обстоятельство — а именно, что, как меня известили, одна из
моих старых книг, недавно переведенная на русский, осуждена в России как “безбожная” на
публичное сожжение. Из-за последних моих двух работ о Польше и России мне уже
заранее следует опасаться быть высланным[270];
сейчас я должен привести в действие все возможные протекции, чтобы этой зимой
получить разрешение выступать в России. К этому следует добавить, что сейчас
почти вся моя переписка конфискуется. После происшествия в Борках2 там очень боятся. Так же было после
знаменитых покушений; все письма перехватывались.
С живейшей радостью вижу,
что Вами вновь уже столь многое сделано. Поверьте, я пропагандирую Вас, где
только могу. Еще на прошлой неделе я настоятельно призывал Генрика Ибсена изучить
Ваши произ-
342
ведения. С ним у Вас тоже есть нечто родственное,
хотя и очень отдаленно родственное. Могуч и велик и совсем не любезен, но все
же достоин любви этот чудак. Стриндберга обрадует, что вы его цените. Я не знаю
французского перевода, который Вы упоминаете. Однако здесь говорят, что все лучшие
места в «Браках» опущены — в первую очередь остроумная полемика с Ибсеном.
Прочтите все-таки его драму “Отец”[271]; там есть просто грандиозные вещи. Он наверняка
охотно пришлет ее Вам. Но я вижу его так редко; он нелюдим из-за бесконечно
несчастливого супружества. Подумайте только в душе он испытывает отвращение к
своей жене и не может обойтись без нее физически[272].
Такой он — моногамный мизогин1!
Мне
удивительно, что у Вас еще так сильна тяга к полемике. В ранней молодости я был
страстно полемичен; теперь я могу только излагать а сражаюсь лишь молчанием. Я
бы не стал нападать на христианство, точно так же, как писать брошюру против
оборотней (я имею в виду веру в оборотней).
Но
я вижу, мы понимаем друг друга. Я тоже люблю Паскаля. Но я уже молодым был за
иезуитов, против Паскаля (в “Письмах к
провинциалу”). Всемирные хитрецы, ведь они
были правы; он их не понял, они же поняли его и — какой шедевр
сообразительности и нахальства! — сами издали его “Письма к провинциалу”, даже с примечаниями. Лучшие издания те, что сделаны
иезуитами.
Лютер
против Папы — это та же коллизия. У Виктора Гюго в предисловии к “Осенним листьям” есть это тонкое высказывание: “Созывается Вормский сейм, но расписывается
Сикстинская капелла. Есть Лютер, но есть Микеланджело… и в числе того, что
отжило свой век, скажем мимоходом, есть Лютер, но нет Микеланджело”.
Всмотритесь
в лицо Достоевского: наполовину — лицо русского крестьянина, а наполовину —
физиономия преступника: приплюснутый нос, маленькие, буравящие тебя насквозь
глазки и нервически дрожащие веки, большой и словно бы литой лоб, выразительный
рот, который говорит о муках без числа, о бездонной печали, о нездоровых
влечениях, о бесконечном сострадании, страстной зависти! Эпилептический гений,
уже внешность которого свидетельствует о потоке кротости, наполняющей его душу,
о волнах почти неимоверной проницательности, захлестывающих его ум, наконец, о
честолюбии, о величии устремлений и о том, как препятствует этому мелкость его
души. Его герои — не только бедные и обездоленные, но и чуткие простецы,
благородные девки; часто — страдающие галлюцинациями одаренные эпилептики,
343
вдохновенные
искатели мученичества — именно те типы, какие должны были встречаться среди апостолов
и учеников первых веков христианства.
Наверняка
нет никого, кто до такой степени был бы далек от Ренессанса.
Мне
чрезвычайно любопытно, что может говориться обо мне в Вашей книге.
Остаюсь
в верной преданности
Ваш
Георг Брандес».
305 Генриху
Кезелицу в Берлин — Турин, виа Карло Альберто 6, III [25 ноября 1888]
(…) Для моего «Ecce H
Признаюсь, что «Сумерки кумиров» кажутся мне совершенными; невозможно высказать такие решительные вещи ясней и деликатней. Мыслимо ли с большей потратить 10 дней, а именно столько времени у меня отняла эта книга…
У нас по-прежнему чудесная весенняя погода, я сейчас в превосходном расположении духа, легко одетый сижу у раскрытого окна.
…Думается, в моем нынешнем состоянии, исполненном веселой
злости, Вы почерпнули бы больше вдохновения для «оперетты», чем где бы то ни
было: я выкидываю сам с собой такие дурацкие фокусы и впадаю в такое шутовство,
что подчас по полчаса скалюсь — не могу подобрать другого слова — прямо на виду
у прохожих… Недавно мне пришло в голову ввести в решающем месте «Ecce H
Думаю, в таком состоянии я уже гожусь в «спасители»?..
Приезжайте…
Ваш друг Н.
344
306 Паулю
Дойзену в Берлин — Турин, виа Карло Альберто 6, III — 26 ноября 1888
Дорогой друг,
мне нужно поговорить с тобой о вещах первостепенной важности. Сейчас моя жизнь достигает своего пика: еще пара лет, и земля содрогнется от чудовищного разрыва. Клянусь тебе, что я в силах изменить летоисчисление. Моя «Переоценка всех ценностей» с заглавием «Антихрист» готова. В следующие два года я предприму шаги для того, чтобы перевести произведение на 7 языков: первый тираж на каждом языке — около миллиона экземпляров. До тех пор у меня еще выйдут:
1) Сумерки кумиров,[273] или Как философствуют молотом. Произведение завершено, я вчера распорядился, чтобы тебе прислали один из первых экземпляров. Прочти его, прошу тебя, с глубочайшей серьезностью, несмотря на то, что по отношению к предстоящему это — на редкость веселая книга.
2) Ecce
H
Я хочу заполучить моего «Заратустру» назад из рук Э. В. Фрицша, я хочу собрать все мои произведения в собственных руках, быть их единоличным владельцем. Они не только представляют собой огромнейший капитал — ведь моего «Заратустру» будут читать не меньше Библии, — они просто не могут больше находиться в руках . В. Фрицша. Именно сейчас этот нелепый человек глубоко оскорбил меня, я просто не могу повести себя иначе, я должен забрать у него книги. Я уже вел с ним переговоры: он хочет за все мои произведения около 10 тысяч талеров. К счастью, у него нет ни малейшего представления о том, чем он владеет. Итак, мне нужно 10 000 талеров1[274]. Подумай об этом, друг мой! Не нужно, чтобы меня одаривали; речь идет о займе под какой угодно процент. У меня, кстати, есть еще несколько тысяч на всевоз-
345
можные траты, я
никому не должен ни пфенинга и вполне обеспечен моей базельской пенсией. («Сумерки
кумиров» и «Ecce H
Твой
друг Ницше (…)
*В тот же
день Н. пишет Науманну: «Я хотел бы, чтобы у Вас были собраны все мои произведения,
с другой стороны, я хочу, чтобы мы вдвоем позаботились о нормальных
отношениях между автором и издателем. Я никогда не буду требовать гонорара —
это один из моих принципов, но мне хотелось бы, чтобы Вы сами были
заинтересованы в успехе, в победе моих произведений».
307 Неизвестному
(черновик) Турин, 27 ноября 1888
Глубокоуважаемый господин,
я возвращаюсь из сотен пропастей, в которые не отваживался проникнуть ни один взгляд, я знаю высоты, на которые не залетала ни одна птица, я жил на льду — я сожжен сотнями снегов, — мне кажется, что тепло и холод в моих устах становятся другими понятиями
1. «Слава и вечность».
2. «Последняя воля».
3. «Меж хищных птиц».
4. «Знак огня».
5. «Солнце садится».
6. «О нищете богачей».
7.
8.
9.
346
308 Августу Стриндбергу в Хольте — Турин, виа
Карло Альберто, 6, III. 8
декабря 1888
Драгоценный и уважаемый господин Стриндберг,
мое письмо потерялось? Я написал Вам тотчас же после второго прочтения, глубоко захваченный этим шедевром1 беспощадной психологии; я выразил также убежденность в том, что Вашему произведению предопределено уже сейчас быть поставленным в Свободном театре мсье Антуана, — Вы должны просто-таки потребовать этого от Золя!
Наследственный преступник — декадент, даже идиот, это несомненно! Однако история семейств преступников, основной материал для которой собрал англичанин Гальтон2 («Наследственность таланта»), всегда сводит все к проблеме личности, которая слишком сильна для определенной социальной среды. Классический образчик этому дает последнее знаменитое уголовное дело — дело Прадо в Париже. Самообладанием, остроумием, запалом Прадо превосходил своих судей и даже адвокатов; тем не менее гнет обвинения так истощил его физически, что некоторые свидетели смогли узнать его лишь по старым изображениям.
Ну а теперь пять слов между
нами, сугубо между нами! Вчера, когда меня нашло Ваше письмо — первое
письмо в моей жизни, которое нашло меня, — я как раз завершил последнюю
ревизию рукописи «Ecce H
347
говорится языком правителя мира, мы превзойдем числом изданий даже «Нана»…1 С другой стороны, это убийственно антинемецкая книга; через все повествование идет поддержка партии французской культуры (я рассматриваю там всех немецких философов как «бессознательных» фальшивомонетчиков)… Притом читать эту книгу не скучно: местами я писал ее даже в стиле «Прадо»… Чтобы обезопаситься от немецких брутальностей («конфискации»), первые экземпляры, еще до появления книги, я с письменным объявлением войны направлю князю Бисмарку и молодому кайзеру: на это военные не осмелятся ответить полицейскими мерами[277]. Я — психолог...
Подумайте об этом, милостивый государь! Это дело первостепенной значимости. Ибо я достаточно силен для того, чтобы расколоть историю человечества на две части[278].
Остается еще вопрос английского перевода. Может быть, у Вас есть какие-нибудь соображения на этот счет? Антинемецкая книга в Англии…
Преданнейше
Ваш Ницше*.
*Стриндберг
отвечает письмом, написанным по-французски: «Мне доставило огромное удовольствие
получить несколько одобрительных слов, написанных Вашей рукой в адрес моей
плохо понятой трагедии. Знаете ли Вы, сударь, о том, что мне, дабы увидеть мою
пьесу опубликованной, пришлось согласиться на два бесплатных издания? Зато во
время театрального представления одна дама свалилась замертво, у другой
начались родовые схватки, а при виде смирительной рубашки три четверти публики
разом поднялось и под сумасшедшие вопли покинуло зал.
А Вы еще хотите, чтобы я
требовал от г-на Золя постановки моей пьесы перед парижанками Анри Бека2! Тогда в
этой столице рогоносцев начнутся повальные роды!
Теперь — о Ваших делах.
Иногда я сочиняю сразу по-французски (для примера прилагаю к письму статьи: они
написаны в легком бульварном стиле, но язык не лишен выразительности), иногда
перевожу уже написанное[279].
Однако и в том и в другом случае мне нужно, чтобы мой текст перечитал человек,
для которого французский язык является родным.
Найти переводчика, который
не выхолостил бы стиль в соответствии с правилами Высшей школы риторики,
который не лишил бы язык
348
его
девственной выразительности, — задача почти невыполнимая. Отвратительный
перевод «Браков» был сделан франкоязычным швейцарцем за круглую сумму в десять
тысяч франков и к тому же дополнительно проверен в Париже еще за пятьсот. Иными
словами, Вы понимаете, что перевод Вашего произведения — это прежде всего
вопрос денег, и, учитывая мое неважное финансовое положение1[280],, я не могу Вам сделать скидки, тем более что тут
требуется не просто ремесленная, а поэтическая работа. Так что, если
значительные расходы Вас не смущают, Вы можете смело рассчитывать на меня и на
мой талант»[281].
309 Кайзеру Вильгельму II (черновик) [Сим я оказываю императору немцев высочайшую честь, какая ему может выпасть, — честь тем более весомую, что мне пришлось для этого преодолеть свое глубокое отвращение ко всему, что есть немецкого: я вручаю ему первый экземпляр своего произведения, которым возвещается о приближении чудовищного — кризиса, каких еще не бывало на земле, глубочайшей нравственной коллизии, с какой доводилось иметь дело человечеству, назревшего расставания со всем, чего до сих пор требовали, во что верили и что освящали. И вместе с тем во мне нет ничего от фантика; среди тех, кто меня знает, я слыву скромным, разве что немного сердитым ученым, который каждому умеет быть в радость. Этот труд, как я надеюсь, рисует образ отнюдь не «пророческий»: но вопреки этому или скорее не вопреки — поскольку все пророки до сих пор были лжецами, — мною говорит истина. Но моя истина страшна: ведь до сих пор истиною называлась ложь. Переоценка всех ценностей: вот моя формула для акта высшего осмысления человечества, мой жребий хочет того, чтобы я глубже, смелее, честнее, чем кто бы то ни было до сих пор, заглянул в вопросы всевременные. Я вызываю на поединок не то, что живет сейчас, — я вызываю целые тысячелетия. Я противоречу и,несмотря на это, я — противоположность духа отрицания… Есть новые ожидания, есть цели и задачи такого масштаба, о котором до сих пор даже не было представления: я благовестник par excellence, хоть мне и суждено быть при этом еще и роком… Ибо когда этот вулкан придет в действие, земля содрогнется в конвульсиях, каких еще
349
не бывало: понятие политики целиком растворится в войне идей, все институты власти взлетят на воздух и будут такие войны, каких еще не бывало.
310 Георгу
Брандесу в Копенгаген (черновик) [Турин, начало декабря 1888]
Дружище, я считаю нужным сообщить Вам пару вещей
первостатейной важности; дайте Ваше честное слово, что эта история останется
между нами. Мы угодили в большую политику, даже в глобальную… Я подготавливаю
событие, которое, по всей вероятности, расколет историю надвое — до такой
степени, что у нас появится новое летоисчисление: до и после 1888 года[282].
Все, что сегодня на поверхности — Тройственный союз, социальные вопросы —
полностью растворится в размежевании индивидуальностей; у нас будут войны,
каких не было, но не между нациями, не между сословиями: все
взлетит на воздух, — я самый опасный на свете динамит, через три месяца я
собираюсь дать поручение взяться за факсимильное издание рукописи «Антихрист.
Переоценка всех ценностей»; она будет оставаться в тайне: послужит мне для
агитации. Мне понадобятся переводы на все основные европейские языки, и когда
произведение наконец появится, я рассчитываю, что первый тираж на каждом
языке составит миллион экземпляров. Я думал о Вас в связи с датским, о господине
Стриндберге — в связи со шведским изданием. Поскольку речь идет о сокрушительном ударе по христианству, очевидно, что единственная в мире сила,
заинтересованная в уничтожении христианства — это евреи. Здесь — инстинктивная
вражда, не мнимая, как у каких-нибудь «вольнодумцев» или социалистов — черт
знает что сотворил бы я с этими вольнодумцами. Следовательно мы должны твердо
знать потенциальные возможности этой расы и в Европе, и в Америке — ведь ко
всему прочему такому движению нужен большой капитал. Вот единственная
естественно подготовленная почва для величайшей из войн истории; прочие
союзники могут браться в расчет только после этой битвы. Эта новая власть, которая
здесь возникнет, сумеет в два счета стать первой всемирной властью; если же
прибавить, что господствующие классы стоят пока на стороне христианства,
то ясно, что именно они обречены на корню, поскольку все сильные и
жизнеспособные единицы неизбежно отпадут от них. В этих обстоятельствах все духовно
нездоровые расы увидят в христианстве повелевающую им веру и, следовательно, заступятся за ложь — не нужно быть психологом, чтобы это
350
предугадать. Результат таков, что здесь динамитом поднимет на воздух
все способы организации стада, все возможные конституции, противник же не
сможет выдвинуть чего-либо нового и окажется к тому же не готов к войне.
Офицеров приведет на нашу сторону их инстинкт;
то, что быть христианином — в высшей степени нечестно, трусливо, нечистоплотно — это заключение можно безошибочно вынести
из моего «Антихриста». (Однако сначала выйдет «Ecce H
Если мы победим, власть на земле будет в наших руках и всеобщий мир тоже… Мы преодолели абсурдные границы между расами, нациями и классами: существует лишь иерархия личностей, но зато это — иерархическая лестница немыслимой длины.
Вот Вам первая бумага всемирно-исторического значения: большая
политика par excellence.
311 Фердинанду
Авенариусу в Дрезден [Турин, 10 декабря 1888]
…Я и вправду признателен Вам за критику… не ведая того, Вы
сказали мне самую приятную для меня сейчас вещь. На мне лежит чудовищная задача, Переоценка всех ценностей, мне
буквально приходится нести на себе судьбы человечества, и если в то же самое
время мне удается быть шутом, сатиром, или коль скоро Вы предпочитаете это
слово, «фельетонистом» в такой мере, каким я был в случае со «Случаем Вагнера»,
— все это служит для меня доказательством моей силы. Глубочайший ум должен быть
одновременно и фривольным — это, если хотите, формула моей философии (…)
351
*11 декабря Авенариус отвечает Н.: «Хотя Ваше письмо смахивает на
то, что мы саксонцы, называем подтруниванием, как и письмо господина Петра
Гаста Господина Кезелица, оно все-таки дорого и ценно для меня, поскольку дает
мне разрешение вновь написать Вам. Прощения у Вас просить мне не за что, и само
собой разумеется, что я действовал в соответствии со своими убеждениями; ну а
за то, что я, быть может, слишком глуп, чтобы верно Вас понять, ответственность
нести не мне, а разве что Господу Богу. В одном Вы должны мне верить:
никто на свете не был больше возмущен моим обхождением с Вашим сочинением, чем
те, кто, надо думать, по Вашему мнению должен был кричать мне «браво!» — то
есть настоящие вагнерианцы. И это я мог предсказать заранее».
312 Паулю Дойзену в Берлин — Турин, виа Карло
Альберто 6, III — Вторник [11
декабря 1888]
Дорогой друг!
(…) Мой издатель получил задание
переправить тебе наконец-то вышедшее произведение «Сумерки кумиров». Вполне
возможно, что появится его французский перевод: я веду переговоры. То, что
печатается[283]
сейчас, носит название «Ecce
H
Я просил моего замечательного друга, маэстро Петера Гаста (его настоящее имя Генрих Кезелиц) нанести тебе визит. Он знает меня действительно глубоко, ты можешь спрашивать его обо всем. Кстати, в Берлине с ним чрезвычайно любезны; по-видимому, сам Иоахим впервые исполнит его «провансальский квартет» (посвященный мне). между нами, причина его пребывания в Берлине — привлекательная девица из среды богатейших берлинских аристократов ( у нее огромное поместье Померании); граф Шлибен — его соперник, но милое создание скорее умрет, чем… Еще раз: это между нами. Он гостил летом в ее лесном замке и успешно выдержал конкуренцию с бравыми гвардейскими лейтенантами из числа окрестных дворян. Эта история началась в Венеции. Ах, эти господа музыканты! Я сам в эти дни получил почти
352
что объяснение в любви от обаятельнейшей и умнейшей женщины Петербурга, мадам княгини Анны Дмитриевны Тенишевой, большой почитательницы моих книг. Георг Брандес едет этой зимой в Ст.-Петербург, где будет читать лекции обо мне.
Сердечнейше свидетельствую свое почтение свое почтение тебе и твоей дражайшей супруге
Твой
Ницше.
313 Генриху Кезелицу в Берлин — Турин, 16
декабря 1888
Дорогой друг,
существенное дополнение к понятию «оперетты»: испанская оперетта. «La gran via»1 — слушал дважды, изрядная вещица из Мадрида. Импортировать ее попросту невозможно: для этого зрелища надо по натуре быть плутом и продувной бестией, и вдобавок праздничной натурой… Терцет трех зажигательных старых каналий — сильнейшее, что я слышал и видел, в том числе в музыкальном отношении: гениально, не подпадает ни под какие рубрики… Я полагал, что теперь весьма образован по части Россини и знаю уже 8 его опер, — так вот, моя любимая «Золушка», для сравнения, в тысячу раз благонравней этой испанщины. Вообразите только, уже сам сюжет таков, что выдумать его мог разве что отпетый мошенник — сплошь какие-то ослепительные трюки и фокусы. (…)
Временами я не понимаю, к чему мне так уж форсировать трагическую катастрофу моей жизни, которая начнется с «Ecce». Эту книгу, думаю, будут читать вовсю из любопытства, которое вызвал «Казус Вагнер», и поскольку теперь я не пишу ни единой фразы, в которой не представал бы весь целиком, то, в конце концов, уже эта антитеза психологу есть путь к пониманию меня — la gran via…
353
314 Августу
Стриндбергу в Хольте — Турин, виа Карло Альберто, 6 III, 18 декабря 1888
Уважаемый и драгоценный господин Стриндберг,
за это время мне прислали из Германии «Отца» в доказательство тому, что я, в свою очередь, заинтересовал моих друзей отцом «Отца». (…)
За окном с мрачной помпой движется похоронная процессия: князь ди Кариньяно, кузен короля, адмирал флота. Вся Италия в Турине.
Ну, Вы осведомили меня о Ваших шведах! И вызвали в мне зависть. Вы не цените Вашего счастья — «o fortunatos nimium, sua si bona norint»1 — а именно, что Вы не немец… Нет никакой другой культуры, кроме французской; это не демарш, а само благоразумие, идти в единственную школу — она неизбежно окажется и верной… Вы желали бы подтверждений этому? Но Вы сами — подтверждение! (…)
С сердечным расположением и наилучшими пожеланиями
Ницше.
315 Генриху Кезелицу в
Дорогой друг,
я открыл для себя эту бумагу — впервые нечто, на чем я могу писать. То же самое с пером. Правда, это — немецкое. То же самое и с чернилами — на сей раз из Нью-Йорка, дорогие, превосходные. У Вас отличные известия; случай Иоахима2 — первый класс. Без жидов не было бы бессмертия — недаром они «вечны». (…)
Весьма любопытно! Вот уже четыре недели как я понимаю свои произведения более того, ценю их. на полном серьезе; я никогда не имел представления, что они означают, я бы солгал, если бы сказал, что они, за исключением «Заратустры», мне импонируют. Это — как мать со своим дитя: она его любит, но в полном неведении того, что оно собой представляет. Теперь у меня полная убежденность, что все удалось, с самого начала — все образует единство и хочет единства. Я читал позавчера «Рождение трагедии»: что-то неописуемое, глубоко, нежно, наполнено счастьем…
354
Не ходите к профессору Дойзену: он слишком
туп для нас, слишком зауряден. А господин Шпиттелер со времен своего
«Кунстварта» обратился в соляной столп: все оглядывается на глупость,
совершенную им в январе (…)
316 Францу Овербеку в Базель — Турин,
Рождество 1888
Дорогой друг!
Мы должны поскорее разобраться Фрицшем, поскольку через два месяца мое имя станет известно всему миру.
Осмелюсь поделиться, что в Парагвае дела обстоят хуже некуда. Завлеченные туда немцы возмущены, хотят получить свои деньги назад, а денег нет. Уже были беспорядки, я опасаюсь самого худшего. Все это не помешало моей сестре крайне глумливо написать мне к 15 октября, что я, похоже, становлюсь «знаменитыми». Это конечно, милое дело, только вот что, мол, за отребье я себе для этого выискал — евреев, которые в каждое бочке затычка, как Георг Брандес…* При этом она называет меня «душенька Фриц»… Это продолжается уже 7 лет!
Моя мать до сих пор ничего об этом не знает — это моя заслуга. На Рождество она прислала мне игру: Фриц и Лизхен!
Что здесь в Турине необычно, так это полное восхищение, которое я вызываю, хотя я непритязательнейший человек, и мне ничего такого не нужно. Однако же когда я захожу в большой магазин, выражение лиц у всех меняется; женщины на улице смотрят на меня, старая торговка откладывает для меня самый сладкий виноград и сбавляет цену!.. Это даже смешно… Я ем в одной из лучших тратторий, в два огромных этажа с залами и кабинетами. Я плачу за каждую трапезу 1 франк 25 вместе с чаевыми, а получаю самое изысканное в изысканнейшем приготовлении. Я прежде даже и понятия не имел, какими могут быть и мясо, и овощи, и все эти настоящие итальянские блюда… Сегодня, например, нежнейшие оссобуко1, бог знает, как оно по-немецки называется, мясо на мозговой косточке! К этому еще брокколи, приготовленные каким-то невероятным образом, а перед тем — нежнейшие макароны. Мои официанты прямо-таки излучают утонченность и любезность; что самое чудное, в моем присутствии никто не становится глупее…
Поскольку в моей жизни может
случиться всякое, я беру себе на заметку всех этих персонажей, которые открыли
меня в эту еще не рас-
355
крывшуюся пору. Я не поручусь, что меня уже не обслуживает мой будущий повар.
Меня еще никто не принимал за немца… Я читаю Journal des debats, мне его инстинктивно принесли в первом же кафе, едва я туда зашел.
Нет больше и случайностей: стоит мне о ком-то подумать, тут
же в дверь вежливо стучится и письмо от него. (…)
*6 сентября Элизабет писала брату: «От мамахен я
узнаю кое-что о твоей растущей славе, и сколь бы это меня ни радовало, похоже,
мне придется теперь расстаться со всякой надеждой, что ты когда-нибудь
переедешь к нам, — ведь слава опьяняет. (…) В следующие недели к нам приезжает
наш дорогой датский друг, я надеюсь, что он привезет с собой датские газеты и
переведет мне то, что там сказано о тебе. Я бы сама пожелала тебе другого апостола,
чем г-н Брандес: это такой пострел, который всюду поспел и от каждого куска
чего-нибудь да откусил. Конечно, поклонников не выбирают, но можно быть
совершенно уверенным, что он сделает тебя модным — это он умеет. Один добрый
совет я все же хотела бы тебе дать: лучше не встречайся с ним лично.
Обменивайтесь в письмах приятными, но не видеться с ним вблизи. Двое наших
друзей, г-н Йохансен и г-н Хауг знают его лично и, надо сказать, не особенно
этому рады. Однако все сходятся на том, что у него замечательный нюх на
интереснейшие, явления во всех эпохах, благодаря чему он умеет вызвать интерес
и к себе».
317 Францу Овербеку в Базель [Турин, 26
декабря 1888] пятница, утро
Дорогой друг
меня сейчас разобрало веселье: мне вспомнился твой старый кассир, которого мне стоило бы успокоить. Ему будет приятно услышать, что я с 1869 года живу без прав немецкого гражданства и обладаю расчудесным базельским паспортом, который множество раз продлевался швейцарскими консульствами.
Я как раз работаю над меморандумом для дворов европейских держав с целью создания антинемецкой лиги. Я хочу надеть на «рейх» смирительную рубашку и спровоцировать его на безнадежную войну. Я не успокоюсь до тех пор, пока молодой кайзер и иже с ним не будут у меня в руках.
356
Между нами! Только между нами. — Полный штиль в душе! Десять часов беспробудного сна!
Н.
318 Карлу Фуксу в Данциг — Турин, 27 декабря
1888
Все учтено, дорогой друг, с
этого момента уже нет никакого смысла говорить и писать обо мне. Вопрос,
кто я такой, на ближайшую вечность закрыт работой, на <обложке> которой мы напечатаем: «Ecce H
«Тристана» же вниманием не обходите: это капитальное произведение, с очарованием которого не сравнится ничто — не только в музыке, но и в искусстве вообще. (…)
319 Константину Георгу Науманну в Лейпциг —
Турин, 29 декабря 1888
(…) Я согласен с Вами, что в случае с Ecce нам не следует печатать более тысячи экземпляров; 1000 экземпляром в Германии — это конечно,
357
безумство, когда речь идет о
произведении высокого. Во Франции же я совершенно всерьез рассчитываю на
80—400 000[285]
экземпляров…
320 Францу Овербеку в Базель (черновик)
[Турин, 29 декабря 1888]
Дорогой друг, твое письмо меня не удивляет. Я никому не ставлю в упрек, если он не знает, кто я; никому этого знать не по силам. Хорош бы я был, если бы испортил абсурдными притязаниями свои считанные человеческие связи. Ни единого мгновения своей жизни я не испытывал по отношению к тебе не то что недоверия, но даже какого-либо недовольства; более того, ты один из очень немногих, кому я глубоко обязан. То, что я не человек, а судьба, — не из тех чувств, которые можно передать. Ты не обязан мне верить в этом даже и сегодня; мне и самому вериться в это с трудом. Мне хватает задора и язвительности, чтобы при случае посмеяться и над собой.
321 Францу Овербеку в Базель [Турин, 29
декабря 1888]
Нет, дорогой друг, мое самочувствие по-прежнему превосходно; единственно — я писал письмо при очень плохом освещении — я просто не мог разобрать, что писал. (…)
Знаешь, во внешнем моем состоянии ничто уже не изменится в ближайшие годы, а возможно, и никогда. какой бы авторитет я ни снискал, я не откажусь ни от своих привычек, ни от своей комнаты за 25 франков. Придется привыкать к философу такого сорта.
Снова очень пасмурно — c
Мне тут даже представилось, что я малость напроказил в письме тебе? Честно говоря, я уже и не знаю, как выглядит то, что называют гневом…
358
322 Генриху Кезелицу в Берлин (черновик) [Турин] — Воскресенье — Воскресенье [30 декабря 1888] par excellence (хотя и пасмурно)

Давний друг,
под моим окном, как будто я уже принцепс Таринорум, Цезарь
из Цезарей и тому подобное, во всю мощь играет туринский муниципальный оркестр.
Среди прочего я слушаю грандиозную «Клеопатру» Манчинелли. Только что я
проходил мимо моле Антонеллиана1 —
возможно, гениальнейшее, что вообще было
построено зодчими, — странно, что у нее до сих пор нет своего имени, —
какого-то абсолютного порыва к высоте не похоже ни на что, кроме моего
«Заратустры». Я окрестил ее «Ecce H
Фридрих Ницше
Н.
359
А еще я был при погребении допотопно
старого Антонелли1 в этом
ноябре. Он дожил ровно до того момента, когда была закончена книга «Ecce H
323 Августу
Стриндбергу в Хольте — Турин, 31 декабря 1888 года.
Дорогой господин Стриндберг,
Вы вскоре сможете услышать ответ на Вашу новеллу2 — он звучит, как ружейный выстрел… Я повелел созвать в Рим правителей, я хочу расстрелять молодого кайзера.
До свидания! Ибо мы увидимся… Une seule condition : Divoryons…3*
Ницше Цезарь
*Ответ
Стриндберга на это письмо, сочиненный на смеси греческого и латыни, был весьма
артистичным:
«Хольтибус, накануне янв.
1889.
Дражайший доктор!
Хочу, хочу безумствовать!
Письма твои я получил не без
волнения. Благодарю тебя.
Правильно
будешь ты жить Лициний, коль скоро пускаться
Больше
не станешь в открытое море и, опасаясь бури стихов,
Не
будешь приближаться к столь опасному брегу.
Приятно, однако,
подурачиться!
360
Стриндберг (Бог, лучший, величайший)»
324 Константину
Георгу Науманну в Лейпциг [Турин, 2 января 1889]
События успели далеко обогнать маленький текст «Ницше контра В.»: вышлите мне стихотворение, которое стоит в конце, а также последнее присланное Вам стихотворение «Слава и вечность». Вперед с «Ecce»! Телеграфируйте господину Гасту!
Адрес по-прежнему
Турин
325 Мете фон Салис ауф Маршлинс [Турин, 3
января 1889]
Фройляйн фон Салис
Мир прояснился потому, что Бог теперь на земле. Разве Вы не видите, как радуются небеса? Я только что вступил во владение своим царством, брошу Папу в тюрьму и велю расстрелять Вильгельма, Бисмарка и Штекера.
Распятый
326 Козиме Вагнер в Байройт [Турин, 3 января
1889]
Принцессе Ариадне, моей возлюбленной
Это предрассудок, будто бы я человек. Но я уже не раз жил среди людей и знаю все, что может выпасть людям. Среди индусов я был Буддой, в Греции — Дионисом, Александр и Цезарь — также мои инкарнации, равно как и творец Шекспира лорд Бэкон. Наконец, я был еще Вольтером и Наполеоном, может быть, также Рихардом Вагнером… В этот раз я прихожу как победоносный Дионис, который сделает Землю праздником… Не сказать, чтобы у меня было много времени… Небеса радуются, что я здесь… А еще я висел на кресте.
361
327 Паулю Дойзену в Берлин [Турин, 4 января 1889]
После того как окончательно выяснилось, что я, собственно, создал мир, друг Пауль также обрел свое место во всемирном замысле: ему надлежит вместе с месье Катуллом Мендесом быть одним из моих великих сатиров и праздничных животных.
Дионис
328 Генриху Кезелицу в
Моему маэстро Пьетро
Спой мне новую песню: мир просиял и небеса радуются.
Распятый
*Кезелиц оказался единственным, кто как ни в чем не
бывало ответил обстоятельным письмом на записку «Распятого»; его ответ
датирован 9 января 1889 года:
«Уважаемый
господин профессор! Должно быть с Вами происходит что-то грандиозное! Ваш
энтузиазм, Ваше здоровье и все свершения, что Вы даете предощутить, должны
встряхнуть даже самых хворых; эпидемию, которую Вы однажды желали здоровью —
эпидемию Вашего здоровья, теперь ничто не остановит.
Лишь
в Берлине Меня застал призыв «Распятого». Погода корчила при этом устрашающую
гримасу, холодный, мглистый, гнетущий воздух побуждал скорее к самоубийству,
чем к танцу; незадолго до того я сам повторял себе слова, которые однажды
сочинил как вариант одного места из «Гибели богов»:
Чаще него
Никто не
твердил мне о танце,
Реже него
Никто предо
мной не плясал.
И
вот Ваши лапидарные слова дали мне толчок: из меня выпрыгнуло что-то, звучащее
как венгерская музыка, совершенно наивное, лишь первая тема, первая страничка —
вероятно, Вы бы рассмеялись
362
над этим комическим effectus æquat causam!1
(…) Снова пробило без четверти два! Скорей к черноокой Маргарите! Знаете ли Вы,
что и она наполовину полька, с материнской стороны?
Полон
почтения, счастья и радости по поводу Ваших триумфов
Ваш
К».
329 Мальвиде фон Мейзенбуг в Рим — [Турин, 4
января 1889]
Приложение к «Мемуарам идеалистки»
Хотя Мальвида, как известно, — Кундри, которая смеялась в то время, как содрогался мир, все же ей многое прощается потому, что она меня очень любила: смотри первый том «Мемуаров»… Я чту все эти тонкие души ради Мальвиды, в Натали живет ее отец и им тоже был я.
Распятый
330 Францу Овербеку в Базель [Турин, 4 января
1889]
Другу Овербеку с супругой
Хотя Вы до сих пор выказывали весьма слабенькую веру в мою платежеспособность, я все еще надеюсь доказать, что я из тех, кто оплачивает свои долги — например, перед Вами… Я прикажу сейчас расстрелять всех антисемитов…
Дионис.
331 Эрвину Роде в Гейдельберг [Турин, 4 января
1889]
Моему ворчуну Эрвину.
Из опасений вновь возмутить тебя своей слепотой в отношении месье Тэна, который некогда сочинил «Веды», я отважусь поместить тебя в компанию богов, и рядом с тобой прелестную богинь…
Дионис.
363
332 «Сиятельным
полякам» [Турин, 4 января 1889]
Я из вашего числа, я поляк даже в большей степени, чем Бог, я хочу воздать вам честь так, как это мне по силам… Я живу среди вас — как Матейко…
Распятый
333 Кардиналу
Мариани в Рим [предп. Турин, 4 января 1889]
Мир Тебе! Я приезжаю во вторник в Рим, чтобы выказать свое почтение его Святейшеству…
Распятый
334 Умберто
I, королю Италии [предп.
Турин, 4 января 1889]
Мир Тебе! Я приезжаю во вторник в Рим и хочу видеть тебя рядом с его Святейшеством Папой
Распятый
335 Георгу
Брандесу в Копенгаген [Турин, 4 января 1889 года]
Моему другу Георгу
После того как ты меня открыл,найти меня было не чудом; трудность теперь в том, чтобы меня потерять…1
Распятый
364
336 Якобу Буркхардту в Базель — Турин, 6
января 1889
Дорогой господин профессор,
в конечном счете меня гораздо больше устроило бы оставаться базельским профессором, чем Богом; однако я не посмел заходить так далеко в своем личном эгоизме, чтобы ради него поступиться сотворением мира. Видите приходится чем-то жертвовать, чем бы и когда бы ни жил. Все же я снял себе студенческую комнатку напротив дворца Кариньяно (где я родился Виктором Эммануилом), в которой, сидя за рабочим столом, я могу слышать прекрасную музыку из галереи Субальнина подо мною. Я плачу за все вместе с обслугой 25 франков, сам покупаю себе чай и все, что нужно, мучаюсь с дырявыми сапогами и ежеминутно благодарю небо за старый мир, для которого люди были недостаточно просты и спокойны. Поскольку предстоящую вечность я осужден перебиваться скверными анекдотами, то я занимаюсь тут писаниной, лучше которой и не придумаешь, очень милой и совершенно не обременительной. Почтовый ящик в пяти шагах, так что я сам засовываю в него письма, чтобы вручить лучшим фельетонистам grande monde1. Разумеется, я тесно сотрудничаю с «Фигаро», а чтобы получить представление, насколько я мирный и безвредный человек, послушайте мои первые два скверных анекдота.
Не слишком переживайте по поводу Прадо. Я — Прадо, я также — отец Прадо, осмелюсь сказать, что и Лессепс2 — тоже я… Я хотел дать моим любимым парижанам совершенно новое представление — представление о порядочном преступнике. Хембидж3[286] — это тоже я: еще один порядочный преступник.
Вторая шутка. Я приветствую бессмертных месье Доде член Французской академии
Astu
Что однако неприятно и задевает мою скромность, так это то,
что в сущности каждая историческая фигура — это я; даже с детьми, которых
365
я произвел на свет, дело обстоит так, что я с некоторым недоверием вопрошаю себя: не из Бога ли и вышли все, кто внидет в «царство Божие»? Этой осенью, одетый самым жалким образом, я дважды присутствовал на своих похоронах — в первый раз будучи князем Роблианом (нет, это мой сын, поскольку я в силу своей природы — Карло Альберто), но Антонелли был я сам. Дорогой господин профессор, Вам бы увидеть все это сооружение; поскольку я ужасно неопытен в том, что создаю сам1, Вам пристала любая критика. Я буду признателен, хотя и не смогу обещать, что извлеку урок. Мы, художники, необучаемы. Сегодня я смотрел свою оперетту — гениально-мавританскую, по этому случаю также с удовольствием констатировал, что и Москва, и Рим нынче грандиозны. Видите, мне и по части пейзажей не откажешь в таланте. Решайтесь, мы чудно, просто расчудесно поболтаем, Турин недалеко, особенно серьезных деловых обязательств не предвидится, бокал вельтлинера мы раздобудем. Подобающая форма одежды — неглиже.
С искренней любовью Ваш
Ницше.
Завтра приезжает мой сын Умберто с милой Маргаритой, которую я тоже лишь здесь буду встречать в одной рубашке. Остальное — для фрау Козимы… Ариадна… Время от времени ее околдовывают…
Я разгуливаю повсюду в своей студенческой куртке, то и дело хлопаю кого-нибудь по плечу и говорю: siamo contenti? Son dio, ho fatto questa caricatura…2
Я заковал Каиафу в кандалы. А еще в прошлом году меня долго и методично распинали и немецкие врачи.
Прикончил Вильгельма, Бисмарка и всех антисемитов.
Можете использовать это письмо любым образом, который не роняет меня в глазах базельцев.
366
Но скажите, братья мои, что может еще сделать ребенок, чего не мог бы и лев? Почему хищный лев должен стать еще ребенком? Дитя есть невинность и забвение…
Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» («О трех превращениях»)
1889
1890

вместо эпилога
Овербек — Кезелицу — Базель, 11 января 1889
Мой дорогой господин Кезелиц,
я считаю необходимым именно Вам незамедлительно сообщить об ужасном несчастье. Пара присланных сюда писем явились для меня констатацией того, что Ницше постигло безумие. В понедельник вечером я поехал в Турин, вчера утром я сдал его, вернее, оставшуюся от него едва узнаваемую груду обломков, в здешнюю больницу для умалишенных. Тут его случай, в котором усмотрели не только непомерную манию величия, но еще много, сколь много других вещей, считают безнадежным. Я никогда не видел столь ужасной картины разрушения. По многим причинам я вынужден сегодня ограничиться этим сообщением. Какой ответ на Ваше ожидавшее меня по моему возвращению письмо!
Всем сердцем преданный Вам
Фр. Овербек
Кезелиц — Овербеку — Берлин, 13 января 1889
Уважаемый господин профессор!
Ваше известие глубоко потрясло меня! Я до сих пор не могу вообразить себе Ницше — одно из высших, по-моему, творений человеческой природы — запертым в клетке сумасшедшего дома. Крещендо его самоощущение, которое само по себе могло внушить опасения всякому, кто не имел представления о целях Ницше, казалось мне полностью оправданным. У него есть право на манию величия. Но ясно, что его машина работала со слишком большим напряжением; то, что он создал за последние полгода, его последние вещи, содержащие квинтэссенцию, истощили его мозг. И теперь ему, должно быть, не хватает рассудка, чтобы сдерживать и регулировать свои великие озарения.
371
Ах, он так часто просил меня приехать в Турин, а я этого не сделал! Само собой разумеется, что мое влияние на него могло бы свестись разве что к тому, что я бы его немного отвлек, поддержал, нарушил его чудовищное одиночество. Но ведь это было бы для него благодеянием! Нельзя было совершить для него большего благодеяния, кроме как уберечь его от ускоренного расходования мозговой энергии!
И все же я не оставляю надежд, что он сможет поправиться. Потому что самым ужасным во всей этой истории будет, если придут филистеры и скажут: «Полюбуйтесь-ка, вот вам и результат! И так будет с каждым, кто и т. д.».
Все несчастье, я говорю, в том, что в орбите Ницше не было никакого замедляющего принципа[287]. Потому что духовный его потенциал был колоссален; этот потенциал не смог бы себя так спалить, если бы он не был таким.
Быть может, глубокоуважаемый господин профессор, я могу надеяться, что вскоре получу от Вас еще какие-нибудь заметки, пусть даже на открытке.
Произведение «Ницше контра Вагнер» было у Науманна уже
набрано для печати. Я думаю, нам не нужно допускать, чтобы это было
опубликовано. Там есть чрезвычайно интересные варианты его ранних мест,
посвященных Вагнеру, но для музыкантов они слишком деликатны1[288].
Также набрано 2 листа автобиографии «Ecce H
Мне думается, уважаемый господин профессор, что все рукописи и письма, которые были в Турине, Вы смогли взять с собой.
Ах, до чего же мне не терпится узнать, как это все происходило! С какими чувствами Вы, должно быть, въезжали в Турин! я, конечно, едва ли могу ждать от Вас более подробного описания; Ваша напряженная работа не позволяет этого. Но, быть может, сама экстраординарность случая позволяет сделать тут исключение? Быть может, я могу хотя бы надеяться узнать некоторые детали, по Вашим рассказам, от Вашей высокочтимой супруги? (…)
372
Овербек —
Кезелицу — 15 января 1889
Мой дорогой господин Кезелиц,
мне очень понятно то нетерпение, которое Вы выказываете… Вы, без сомнения, можете себе так же прекрасно представить, что́ именно мешает мне это нетерпение удовлетворить. То, что Вы называете моей «напряженной работой» — лишь самая малая часть этих помех, и моя искренне и сердечно уважающая Вас жена не может тут даже для Вас в настоящий момент ничего поделать. Дело в том, что с воскресного вечера у нас в доме несчастная мать <Ницше>. Из-за этого волнение, от которого я не смог в эти дни оградить и свою жену, возросло до какой-то едва ли уже выносимой крайности. Даже после того, что я могу и хочу написать Вам в это мгновение, тысяча вопросов останется для Вас открытыми. Думаю, что для начала Вам нужен просто рассказ о том, как все происходило. Многое из того, о чем я умалчиваю, стало мне известно лишь в силу обстоятельств, в которых мне приходилось действовать, и в эти вещи я пока что не хочу посвящать никого из его друзей, даже Вас, — по крайней мере сейчас.
До самого Рождества письма Ницше вводили меня в заблуждение относительно его состояния; в рождественскую пору эти письма стали приходить все чаще, причем почерк и содержание тревожащим образом выдавали уже повышенную экзальтацию. Особенно заставило меня задуматься само по себе совершенно ясное письмо, пришедшее 31 декабря моему замечательному, очень ценимому и самим Ницше в базельские годы, другу Андреасу Хойслеру. Письмо было для последнего полной неожиданностью, потому что это была первая весть, пришедшая к нему от Ницше с чужбины. Тот обращался к Хойслеру с просьбой помочь выкупить обратно произведения, изданные еще Фрицшем. Письма, полученные мною до того, уже дали мне самому повод настоятельно отсоветовать делать это, равно как и повод для беспокойства. Того же 31 декабря я получил ответ, который позволял считать план с Фрицшем выполненным, но при этом совершенно рассеивал мои опасения. 6 января Якоб Буркхардт получил письмо, которое он тут же передал мне и которое оказалось первым документом, предрешившим мои последующие шаги. Теперь стало ясно, что между этим и предшествующими письмами — 4 января, как мне помог впоследствии установить его хозяин — Ницше потерял себя. Он был не только королем, но отцом других королей (в частности, Умберто), даже присутствовал при своем погребении (своего сына Робилана) и т. д., — и все это в маниакальном тоне совершеннейшего безумца. В беспомощном отчаянии я не-
373
медля написал ему настоятельнейшее
письмо, чтобы он немедленно ко мне приезжал, что, как я понял на следующий день
от приглашенного для консультации заведующего здешней психиатрической клиникой,
было двойной глупостью, возможные последствия которой я пресек в тот же день
телеграфным известием о моем немедленном приезде. Ибо коллега Вилле — так зовут
этого заведующего, — которому было предъявлено то письмо Буркхардту, а также
полученное мной самим в понедельник утром краткое послание Н., не оставил у
меня никаких сомнений в том, что нельзя терять ни минуты, и если я каким-либо
образом ощущаю себя обязанным к тому, я должен немедленно ехать. И за это я ему
очень благодарен, хоть мне и пришлось в результате предпринять куда больше, чем
я мог бы представить себе, что я смогу сделать. На самом деле мне нельзя было
появляться в Турине ни на минуту позже. В тот же день — я имею в виду свое
прибытие туда 8 дней назад — это дело стало там скандальным достоянием
общественности; хозяин, обнаружение которого было для меня затруднено особыми
обстоятельствами, только что, на тот момент, когда я нашел его жену, побывал в полиции
и у немецкого консула — за час до того в полиции еще ничего не было известно.
Н., который уже несколькими днями раньше упал на улице, где его, к счастью,
подобрали, угрожало угодить в частный manic
Не буду описывать здесь ту трогательную заботу в отношении Ницше, которую я замети со стороны хозяев, владельцев газетного киоска на виа Карло Альберто, — эта забота тоже характерна для Италии. Переходя к страшному моменту, когда я наконец увидел Ницше, я снова возвращаюсь к главному — этот момент был страшен совершенно по-особому и совершенно не похож на все последующее. Ницше, как-то съежившись, сидел на краешке софы и читал, — как потом выяснилось, последнюю корректуру «Ницше contra Вагнер». Выглядел он совершенно опустившимся. Увидев меня, он бросается ко мне, порывисто обнимает меня, слезы хлынули потоком у него из глаз, сотрясаясь от рыданий, он снова опускается на софу, я сам от потрясения не могу устоять на ногах. Открылась ли ему в это мгновение та бездна, в которой он находится, вернее, в которую он обрушился? Во всяком случае подобного более не повторялось. Все семейство Фино присут-
374
ствовало при этом, едва Ницше, стеная и вздрагивая, снова оказался на софе, как ему дали выпить стоявший на столе бром. Он успокоился моментально и со смехом начал говорить о большом приеме, который якобы готовится этим вечером. При этом он находился в плену каких-то безумных иллюзий, из которого до самого нашего расставания так ни разу больше не освободился. Относительно меня и вообще всех других людей он все это время сохранял полную ясность, относительно себя самого — пребывал в потемках. Например, несколько раз он, громко распевая и молотя по клавишам пианино, с каким-то остервенением выкрикивал обрывки тех идей, в мире которых он жил в последнее время и при этом в коротеньких фразах, произнесенных неописуемо придушенным голосом, выдавал тонкие, поразительно зоркие и невыразимо жуткие вещи о себе как наследнике мертвого Бога, словно бы расставляя в них звуками пианино знаки препинания, после чего снова следовали конвульсии и взрывы невыразимого страдания. Однако, как уже сказано, это было всего несколько раз, какие-то считанные минуты, пока я находился рядом. В целом преобладала демонстрация миссии, которую он себе приписывал, — быть скоморохом новой вечности, и тут он, несравненный мастер точных выражений, был не в состоянии передать свой радостный восторг иначе, как в тривиальнейших выражениях или же какими-то гротескными танцами и прыжками. И при этом — детское простодушие, ни разу не покидавшее его в те три ночи, когда он, бесчинствуя, не давал уснуть окружающим. Именно это простодушие и почти безоговорочная покорность, стоило лишь коснуться его идей о королевских приемах и кортежах, праздничной музыке и т. д., сделали его транспортировку сюда детской забавой — если не для меня, то по крайней мере для сопровождающего, которого я, строго следуя наказу Вилле, отыскал в Турине и взял с собою. Переезд с почти трехчасовой стоянкой в Новаре продолжался с 14.20 среды до без четверти восьми часов утра четверга; начался с кошмарного получаса на залитом солнцем гудящем, как улей, туринском вокзале; стоянка в Новаре тоже повлекла за собою парочку сцен, в основном же мы все время были втроем; Ницше — сонный, потому что перед поездкой ему дали выпить хлорал. Правда он все время просыпался, но самое большее — для того, чтобы громко спеть. Так, посреди ночи он спел восхитительную «Песнь гондольера»1, с. 7, которую я потом обнаружил в этом тексте, а между тем, пока я ей внимал, у меня просто не укладывалось в голове, как этот певец мог произвести на свет такой текст, с совершенно ужасной, кстати, мелодией.
375
Наутро 10 числа препровождение с вокзала в лечебницу, которое вызывало у меня наибольшие опасения, прошло совершенно гладко, если только не считать моего тихого страха за все это предприятие. Сцена в приемной лечебницы (я предполагаю, что Н. на тот момент еще не имеет ни малейшего понятия, где он находится; наш спутник, дабы избежать сцен, подобных туринским, перед выходом из поезда внушил больному, что он должен сначала вступить в Базель инкогнито и поэтому ни с кем не обмениваться приветствиями, иначе это разрушит впечатление от его последующего торжественного въезда в город; и вот Н. в чинном спокойствии пересаживается из вагона в дрожки, где по большей части сидит тихонько в уголке в состоянии полной прострации. Вот уже мы обмениваемся приветствиями с Вилле, директором <лечебницы>, который затем снова ненадолго выходит из комнаты).
Я (нашему спутнику): Простите, господин доктор, что я Вас до сих пор не представил (в суматохе я и вправду позабыл это сделать).
Н. (который мог знать Вилле по прежним годам в Базеле): Разумеется! Нужно нас представить. Кто
был этот господин? (это он о только что вышедшем из комнаты Вилле).
Я (ничего так не боясь в эту минуту, как назвать
имя врача): Он нам еще не представился,
мы сейчас узнаем. (Вилле снова заходит в комнату).
Н. (с достоинством и в любезнейшей манере, какая
была ему присуща в лучшие дни): Я
думаю, что уже встречал Вас[289] прежде, вот только очень сожалею, что не
могу припомнить Ваше имя. Может быть Вы…
Вилле: Я — Вилле.
Н.: (не моргнув глазом, все в той же манере и
спокойным тоном, без всякой настороженности): Вилле? Вы — психиатр. У меня несколько лет назад был с Вами
разговор о религиозном безумии. Поводом послужил один помешанный молодой
человек, Адольф Фишер, который жил тогда здесь (или в Базеле).
Вилле выслушивает
его молча и одобрительно кивает.
Вообразите себе, с каким немым изумлением я, способный подтвердить буквальную точность этого воспоминания, относящегося ко временам семилетней давности, слушал его. Но главное: Н. не проводит никакой параллели между этим совершенно ясным воспоминанием и своим собственным положением, даже и виду не кажет, что «психиатр» каким-то образом может иметь отношение к нему. Он спокойно выслушивает информацию о распорядке завтрака и купания, которую сообщает ему подошедший ассистент врача, и по первому же требованию безропотно следует за ним, — не знаю, можно ли дать более ясное представление о гибельном распаде его личности. С тех пор я его не видел… Я узнал, что его состояние тем временем мало изме-
376
нилось, он много шумит и поет, заставить его спать можно только с помощью медикаментов, в последние 8 дней мне нельзя было даже пытаться его увидеть, важней всего было, чтобы он успокоился. В тот же четверг, будучи сам почти без чувств, я написал его матери. Бедняжка приехала вечером в воскресенье, а вчера днем увидела своего сына. Теперь она хочет забрать его с собой (а именно — к себе домой, что совершенно немыслимо и строжайше ей запрещено), и ни о чем другом и слышать не желает (хотя Вилле и я всячески стараемся ей это отсоветовать). Завтра я получу ответ из Йены, смогут ли принять его там. Если ответ будет положительным, то на послезавтрашний вечер запланирован отъезд: госпожа пасторша и больной поедут вместе с замечательным, подысканным моей женой, сопровождающим — он врач и бывший ученик Н. в гимназии, большой его поклонник.
Еще пара существенных вещей. То, что Вы предположили касательно рукописей и писем, верно только в отношении писем. Их я сгреб в охапку все, какие только мог заметить, передал письма близких госпоже Ницше и оставил покамест у себя все остальное, в том числе множество Ваших писем, — естественно, под замком. Денег я нашел каких-то 900 франков, происхождение 500 из них для меня загадочно, по словам Ницше, они могут быть только подарком фройляйн фон Салис. То, как и где они лежали, не дает никакой гарантии, что это все, что было. В остальном я ограничился тем, что забрал с собой чемодан с его одеждой и несколько книг. Учтите, что находился в Турине всего лишь 24 с половиной часа. Однако у меня не было причин беспокоиться, что с оставшимися вещами обойдутся ненадлежащим образом. Как только госпожа Ницше вернется домой, все будет отправлено в Наумбург.
Далее, как быть с Науманном? Он обратился сегодня ко мне с
вопросами, получив от меня краткое извещение о том, что Н. доставлен сюда. (…)
Что могло бы, по Вашему мнению, выйти из «Гибели кумиров»? Я был пока не в
состоянии читать взятый с собой из Турина экземпляр. Что касается «Ницше контра
Вагнер», то, невзирая на те замечательные вещи, которые есть в этой книге, — а
я взял с собой из Турина экземпляр с корректурой — я самым решительным образом
готов выступить против публикации. Что же до «Ecce H
377
Турине, — тут уже ничем нельзя было помочь! Я узнал от Вилле мрачные, очень мрачные вещи — в частности, что Н. уже давно разрушал свой организм хлоралом, а с недавних пор — и новейшими средствами того же рода. Но еще <я узнал> и многое другое, что не кается Вилле, или, скажем так, касается его не более чем других. Я бы написал еще сегодня кое-что о том, как, судя по имеющемуся материалу, могла протекать эта катастрофа. Но я не могу больше писать.
С неизменно глубокой и искренней преданностью Ваш
Овербек
Не могли бы мы где-нибудь повидаться весной?
Овербек — Кезелицу — Базель, 20
января 1889
Мой дорогой
господин Кезелиц,
с тех пор как я
писал Вам, произошло немало событий. Н. здесь больше нет; в четверг вечером он
в сопровождении своей матери, врача и санитара снова отправился дальше, и, если
все в порядке, должен был уже в пятницу оказаться под надзором профессора
Бинсвангера в Йене. С выбором лечебницы Вилле был совершенно согласен, однако у
него не встретил одобрения ни поспешный отъезд, хотя он против него и не
протестовал[290], ни то, что в транспортировке больного будет
участвовать мать. А вот она и слышать не желала ни этих возражений, ни моего
предложения, чтобы она, если хочет принести какую-то пользу, ехала бы покамест
одна и готовила в Йене место для сына, препоручив мне его сопровождение хотя бы
до Франкфурта, где меня наверняка смог бы сменить рядом с ним кто-то из его
родственников или друзей. Увольте меня от рассказа о четырех печальных днях,
когда госпожа пасторша жила у нас дома, об отъезде и том незабываемом моменте,
когда я около 9 часов утра наблюдал, как Н. под охраной двух своих
сопровождающих поспешным, но неровным шагом, держась как-то неестественно
прямо, с лицом, застывшим как маска, не проронив ни звука, прошествовал из
дрожек через тускло освещенный вестибюль центрального вокзала прямиком в приготовленное
для него купе вагона. У меня есть все основания быть кратким, а Вам все эти
детали должны быть достаточно безразличны с тех пор, как Вы, sit venia verbo1, «спокойны» за главное.
378
Я чувствую все, что
в Вас противилось и продолжает противиться этому, в том числе и тому, что я
совершил, и я действительно не сержусь на Вас за те письма, настолько я благодарен
Вам за то, что Вы их в итоге не отправили1[291]. Ведь и себе самому я не сделал в эти дни
ничего хорошего: уже загодя, по пути в Турин, мучился под грузом
ответственности моего начинания, затем, конечно же, под впечатлением от увиденного
и пережитого, и теперь напоследок меня продолжает мучить мысль, что я сослужил
бы куда лучшую службу своему другу, отправив его на тот свет, а не в
сумасшедший дом; у меня и сейчас нет другого желания, кроме как чтобы он
поскорее лишился жизни. во всяком случае, в чем у меня нет ни малейших
сомнений, и, я думаю, любой, оказавшийся в эти дни рядом со мной, ощущал бы это
точно так же: с Н. покончено! Мне даже не нужно никакого подтверждения в виде
компетентного вердикта врачей, гласящего, что это паралич, который, если не
считать моментов затишья, будет лишь прогрессировать, и никакое излечение тут
не возможно. Судите сами по такой детали: Н. не смог даже воспылать ко мне
ненавистью, которую я, чувствуя себя повинным в том, что лишил его свободы,
предполагал встретить в нем[292]. последними его словами, прежде чем
закрылась дверь его вагона, были пылкие заверения в дружеских чувствах ко мне.
вот так обстоит теперь с этим героем свободы, что о свободе он даже и не
помышляет. (…)
Овербек — Кезелицу — Базель, 9
февраля 1889
(…) Вы спрашиваете,
как «вел себя Н. в своей темнице»? Совсем не так, как ведут себя заключенные, по
крайней мере пока он был здесь, а известия из Йены не дают мне пока оснований
думать о существенных изменениях в его состоянии. В краткие минуты ясности он
сам же совершенно спокойным тоном говорил о сумасшедшем доме, в котором
находится, предполагая при этом, что он здесь совсем ненадолго[293]. Желания вырваться оттуда он, похоже,
совершенно не ощущал, напротив, с неизменной охотой возвращался с прогулок по
саду в свою комнату. Просил ли он хоть раз, чтобы ему дали письменные
принадлежности, — этого я не знаю. По пути из Турина сюда таких случаев не было
— увы, как я могу судить по его бумагам, вероятно, из-за смутнгого
осознания
379
неспособности писать, в которой он перед тем имел возможность
убедиться. Очень часто речь заходила о «друзьях», в первую очередь об их
появлении на предстоящих больших приемах; имена он упоминал лишь мимоходом,
дважды или трижды, в том числе и Ваше — в один из тех многочисленных моментов,
когда он говорил о музыке или слушал ее. О том, что он много пел, я, думается,
Вам уже писал. Пианино, бывшее в его распоряжении в Турине, стояло в гостиной
его хозяина и едва ли уже могло называться инструментом, Тем не менее всякий
раз как Н. за него садился его было очень трудно отодрать от этого инструмента,
к чему я всячески стремился, очень скоро увидев, что в этом состоянии
музыкальные экзерсисы наносят ему только вред. (…)
Отчет профессора Бинсвангера
о состоянии здоровья Ницше
(Сентябрь 1889, приведен в
письме Овербека Кезелицу)
В ответ на Ваш запрос о
состоянии господина профессора Н. сообщаем Вам, что внешне в нем наблюдается
очевидное улучшение постольку, поскольку он говорит несколько связней, а
состояния возбуждения с криками и т. д. появляются реже. Различные бредовые
идеи возникают по-прежнему, случаются и слуховые галлюцинации. Признаки
паралича не прогрессируют и в целом незначительны. Свое окружение он узнает
лишь отчасти, к примеру, постоянно называет старшего санитара князем Бисмарком и
т. д. Он по большей части хорошо знает, где он находится. Часто фиксируется на
болезненных состояниях, в особенности жалуется на головные боли. Прием пищи
регулярный, сон часто беспокойный. Его мать много раз посещала его; он сразу же
ее узнает и разговаривает с ней временами с полной ясностью[294].
Также некоторые из этих визитов он хорошо помнит в последующие дни…
Надежда на выздоровление
хотя и весьма незначительна, но все же сохраняется. Окончательное суждение о
том, как протекает болезнь, можно будет сделать приблизительно лишь через три месяца.
Повышение расходов на уход за больным не предполагается.
Овербек — Кезелицу — Базель, 30 декабря 1889
(…) С тех пор как Вы мне писали, до Вас, я полагаю, уже дошли дальнейшие известия о Ницше и Вы теперь, должно быть, знаете гораздо подробнее и из более непосредственного источника, чем я, об
380
удивительных изменениях, которые с ним произошли. Я получил последние известия около двух недель назад от госпожи пасторши. Следовательно, вы уже знаете о молодом ученом из Гольштинии, поселившемся ради Н. в Йене и совершавшем с ним прогулки до тех пор, пока не оказалось, что он сам болен и должен отказаться от своей затеи, после чего, однако, эти прогулки, происходившие за пределами лечебницы, с большим успехом были возобновлены в сопровождении одного молодого врача. Вы можете себе представить, с каким напряжением я в этих обстоятельствах ожидают приближения момента, когда проф. Бинсвангер должен окончательно высказаться о перспективах излечения. Но даже о них я не могу думать без боязни, пребывая до сих пор во власти впечатлений годичной давности. То, что выздоровление якобы уже происходит, никоим образом не следует даже из последних сообщений госпожи пасторши, хотя в них и говорится об удивительном прогрессе. И все же в какой-то мере они приносят мне благотворное успокоение, поскольку дают блестящую оценку терапии, проводимой в отношении Н., а для меня, судящего издалека и по-дилетантски, вопрос о нем чрезвычайно мучителен. Здесь, в Базеле, последние успехи вызывают удивление у Вилле, который по-прежнему считает продолжительное и серьезное излечение совершенно невероятным.
В ноябре Науманн снова осведомился о рукописях, я перенес все переговоры по этому вопросу на весну, считая, что в сегодняшних обстоятельствах всё без исключения должно быть отложено на будущее. (…)
Кезелиц — Овербеку —
(…) Поскольку этот Лангбен оказался человеком очень разговорчивым и беспокойным и в то же время влияет на Ницше благотворно, мне необходимо посмотреть на него. Он хочет забрать Н. из лечебницы и нуждается в ком-либо, кто смог бы убедить госпожу пасторшу в продуманности и полезности его плана.
Так вот, сперва я выслушаю его: лучше всего, разумеется, если я сейчас же лично отправлюсь в Йену. Ибо о чем может судить тот, кто не знал Ницше до заболевания (ни Бинсвангер, ни Лангбен не относится к таковым, а госпожа пасторша смотрит на своего сына глазами материнской любви и богобоязненных упований и надежд)? Лишь одна треть той силы, которая двигала умом и волей Ницше, приходится на логически правильное мышление; с этим частичным выздоровлением
381
у нас еще долго не будет того
Ницше, который смог бы приступить к продолжению своего отважного труда,
требующего неимоверных усилий. Но ведь только это было бы для нас
его выздоровлением! — а в подобное я, сколь бы горячо этого ни желал, не
могу верить. Именно эта туго натянутая струна, которая ныне порвана,
характеризовала Ницше: без нее он остается руиной, развалиной — душераздирающим
зрелищем.
В общении с Лангбеном я буду молчать о том, что надежды на выздоровление нет. Поскольку Н. в этой психиатрической клинике, похоже, никак не выделяют из общего числа больных и лечат по общепринятой схеме, то я не буду возражать против идеи Лангбена, если смогу убедиться в целесообразности его планов и вообще составлю себе о нем благоприятное впечатление… Но даже и этого мало. Ведь я слишком часто наблюдал, как многие люди с величайшей самоуверенностью рвутся туда, где они могут играть роль благодетелей, и в итоге требуют от общественного мнения громогласного признания, сильно вредя при этом репутации затронутого лица. Однако в данном случае, если судить по этой первой, длившейся почти четыре недели и предпринятой, видимо, в порыве чистого энтузиазма попытке, столь пессимистические мысли непозволительны. (…)
Кезелиц — Овербеку — Дрезден, 7 января 1890
Уважаемый господин профессор!
Доктор Лангбен — это <черпающий> из полноты, гениальный человек. Его решительность и ясный ум, даже «молодцеватость» сразу же бросаются в глаза. Лицом он напоминает вашего базельского виртуоза-виолончелиста Хегара, только оно у него более скуластое. Почерком он очень схож с Рэ.
Он действовал исходя из чистого восторженного преклонения перед Ницше, и опасаясь того же, чего с самого начала боялся и я, а именно, что в отношении Ницше будет повторено то же варварство, которому подверглись Гельдерлин, Роберт Майер. С ним обращаются в лечебнице Бинсвангера, как с опустившимся промотавшимся в Италии и сошедшим с ума профессором — и даже не как с профессором, а как с заключенным или арестантом, так что при подобном лечении человек с такой чувствительностью, как у Ницше, не будь он уже болен, просто бы погиб. Никакого наблюдения, изучения больного, ничего от так называемой современной науки, к которой мы — люди непричаст-
382
ные — испытываем такое уважение, а лишь совершенно грубое, недостойное и нерадивое обхождение с больным. Санитары его хватают и потешаются над ним, в то время как он все прекрасно понимает и воспринимает как нечто чудовищное жуткое[295]. Короче, Ницше находится словно в богадельне — не более того. Грубая кормежка, как для прислуги, масса неудобство (ни одного стула в комнате, только жесткая кушетка без подушек; рядом с комнатой клозет, запах которого он чувствует и т. п.). Из всего того, что мне рассказал замечательный и заслуживающий всяческого уважения доктор Лангбен, следует, что Ницше просто страдает нервным истощением в результате переутомления. Он, доктор Лангбен, говорит, что знает много людей (он назвал одного генерала, находящегося теперь снова на службе), которые пребывали в худшем, нежели Н., состоянии и полностью излечились.
Не подлежит никакому сомнению, что мы, друзья Н., виноваты в
том, что допустили непростительную неосторожность, доверив его столь бездарному
заведению, каковым, похоже, является психолечебница Бинсвангера. Все это
необходимо, пока еще есть время, исправить. Влияние доктора Лангбена на Н. проверено
— и я могу себе хорошо представить, что этот решительный проницательный и при
этом глубоко гуманный человек импонирует Ницше. Как человек с положением,
способный к исключительной широте мировоззрения, Лангбен вполне дорос до его
уровня. Он настаивает на том, чтобы Н. забрали из лечебницы и переплавили сюда,
в Дрезден, ближе к нему — не в другую лечебницу, а для приватного
лечения под присмотром санитара. Доктор Лангбен собирается продолжить здесь
утренние и дневные двухчасовые прогулки с ним. Часть расходов берут на себя
некоторые благотворители — поклонники Н. Главная проблема состоит в том, что он
требует для себя право опеки над Ницше сроком на 2 года. Лишь при этом
условии он берет на себя заботу о нем, так как иначе мать Н.,
прислушивающаяся ко всем обывательским сплетням, может в любой момент
перечеркнуть его методически продуманный план. Смогла же она заявить даже
такое, что не возьмет сына к себе в Наумбург из-за людской молвы, а также из-за
неудобств, которые будут причинены господам, снимающим у нее жилье, так как
часть из них придется выселить!! Я написал вчера г-же пасторше; безусловно
необходимо, чтобы Вы, уважаемый г-н профессор, одобрили это дело исходя из
сложившегося у меня впечатления и под мою ответственность. Я написал в этом
смысле также доктору Фуксу. По прибытии
Признательный Вам К.
383
Напоследок: лучше всего было бы обратиться к г-же пасторше по этому поводу в двух письмах. В первом из них еще не следовало бы затрагивать вопрос об опеке доктора Лангбена.
Овербек — Кезелицу — Базель, 8 января 1890
Мой дорогой господин Кезелиц,
я возвращаю Вам полученное от Вас письмо с искренней благодарностью за сообщение, которое меня чрезвычайно обеспокоило. Во-первых, я смог узнать из него о нынешней ситуации с Лангбеном и одновременно предпринятых Вами шагах, за что Вам особенно благодарен. Иначе я не знал бы, кто же стоит на защите Н., если не считать слепого инстинкта его матери. Ваша поездка в Дрезден, как я теперь вижу, была предпринята Вами совершенно правильно. Полученные до сих пор сообщения госпожи пасторши, случайные и малосодержательные, производящие впечатление вполне благополучных, вызвали у меня лишь недоверие, и то, что я узнаю теперь из писем Науманна и того же Лангбена, усиливает во мне это чувство самым болезненным образом. Особенно из писем доктора Лангбена вынес я совершенно определенное впечатление, что в данном случае он не годится в помощники. Нет смысла далее анализировать это впечатление с учетом Вашего мнения, тем более после того, что произошло за это время и что определило уже, может быть, принятые Вами решения. Тем, что я сказал выше, мне хотелось бы лишь обосновать свою настойчивую просьбу как можно быстрее проинформировать меня о результате Вашей поездки. Вероятно, Вы все-таки не «скрыли» в разговоре с доктором Лангбеном Ваше мнение о «безнадежности», совпадающее и с моим, и поступили в этом совершенно правильно. Ибо, что меня пугает, так это, среди прочего, возможность, что при «попытке сохранить для немецкой нации великого» бедный Н. станет несчастной жертвой фанатичной затеи.
По мере того как будет разрешен этот вопрос, нужно будет заняться и другим, который меня серьезно озаботил в связи со сведениями, содержащимися в письме Науманна — я именно о недостаточном на сегодняшний день уходе за Н. (…) Я и сам смог сделать из моей дали пару наблюдений, вызвавших у меня определенное недовольство лечением, проводимым в Йене. В любом случае даже сейчас не следует страшиться более крупных затрат на лечение, средства на которое или частично уже лежат наготове или наверняка будут получены. Поэтому, чтобы и в этом вопросе тоже присутствовала ясность, прошу Вас как можно
384
скорее поставить меня в известность о том, как развиваются события. От г-жи пасторши, к моему удивлению, я уже несколько недель не получаю известий; боюсь, что она погружена в настоящий момент в мучительное раздумье. (…)
Фр. Овербек
Овербек — Кезелицу — Базель, 9 января 1890
(…) В настоящий момент мое личное мнение о намерении доктора Лангбена касательно опеки состоит в том, что я вижу в этом требовании акт насилия, в необходимости которого пока что не могу себя обсудить. И это также склоняет меня воздержаться от любого влияния на принятие решений по данному вопросу. (…)
Если Н. еще можно помочь, то, наверное, только каким-то чрезвычайным способом, который должен быть применен абсолютно компетентным лицом. Что бы ни произошло в дальнейшем, если будет выявлена неприемлемость его лечения в Йене, господин доктор Лангбен уже одним этим разоблачением заслужит право на самую сердечную благодарность друзей Н.
Не знаю, где взять время на это письмо <которого Вы от меня просите1>… не знаю также сумел ли я осуществить свое главное намерение, а именно: не имея возможности в ответ на Ваше письмо сказать ни «да», ни «нет», довести до Вас полную ясность в вопросе, чего Вы можете ожидать от меня в деле доктора Лангбена. Я должен, как бы то ни было, заканчивать письмо, и делаю это, добавляя еще настоятельную просьбу держать меня в курсе текущих событий. Преданный вам
Фр. Овербек
Кезелиц — Овербеку —
(…) Я полагаю, у доктора Лангбена (человека чрезвычайно значительного, как явствует из нескольких его произведений, которые он мне прислал) никогда не было относительно Вас, уважаемый господин профессор, подозрений, будто Вы каким-то образом пытались угово-
рить мать Н. оставить его у Бинсвангера и не передавать Лангбену. Однако может статься, что сама госпожа пасторша поняла Вас так… Кстати, теперь кажется, что она согласна на все, что собирается сделать Лангбен, — ни к каким энергичным действиям прибегать не нужно. Вы уважаемый господин профессор, доктор Фукс, Науманн, Видеманн и я прямо набросились на нее в эти последние дни: мы и вправду могли произвести на нее впечатление эриний. (Она ни разу не видела своего сына в его палате — только в комнате для посетителей; к нему проникал только доктор Лангбен). Насколько ясно мысли Н., следует из того, что он продемонстрировал доктору Лангбену (который ему симпатичен) математически доказуемый тезис о бесконечном повторении всех стадий развития Вселенной и вообще абсолютно сознательным образом обсуждал с ним все свои проблемы. Говорили и о немецких стоиках, в том числе и о Зойме. «Я знал отца Зойме», сказал Н. И это был едва ли не единственный случай, когда Лангбен услышал от Н. явный бред. Когда Н. указали на то, что этого не могло быть, тот и сам посмеялся своей ошибке. Разум Н. окреп вопреки Бинсвангеру.
Почтительно
Ваш К.
Кезелиц — Овербеку — Йена, 21 января 1890
Уважаемый господин профессор,
спустя два с четвертью года сегодня я снова увидел нашего великого друга — Вы можете представить себе, с какой болью в сердце. Он тотчас же узнал меня, обнял и расцеловал, а своим многократным восторженным рукопожатием он, казалось, хотел сказать, что ему уже почти и не верилось в мое существование. Я поразился тому, как он все помнит, однако заметил (за чем как раз неспособен проследить Лангбен), что он то и дело что-нибудь присочиняет, примешивая подчас к воспоминанием какие-то чудовищные перспективы[296]. Временами его невозможно отличить от прежнего Н., но нередко его выведенность из равновесия бросается в глаза. Смех его обычно весел, но может становиться и жутковатым. Случаются и приступы ярости и какой-то совершенно особой падкости на пустяки. Легче всего отвлечь его от этого можно бисквитами и т. д. До своего отъезда в Данциг я теперь буду прогуливаться с ним ежедневно.
Вскоре Вам вновь напишет
Ваш К.
386
Овербек — Кезелицу — Базель, 24 января 1890
Мой дорогой господин Кезелиц,
вчера, получив Вашу открытку из
Йены, я едва не воскликнул: «Ну наконец-то весточка от Ницше!» Она самым
убедительным образом предоставила отчет за целый год, теперь я снова кое-что
узнал, и к этому узнанному я не отнесся с равнодушием или с непониманием или с
недоверием. Ваша встреча живо напомнила мне то, что я пережил сам. Для подержания
полной доверительности между нами я хотел бы, чтобы вам переслали из
Всегда верно преданный Вам
Фр.
Овербек
387
Кезелиц — Овербеку — Йена, 20 февраля 1890
Уважаемый господин профессор,
только сейчас у меня появилась возможность ответить на Ваше любезное письмо от 16 числа сего месяца. Госпожа пасторша теперь здесь. Ницше в 9 часов утра забирают из лечебницы, и до 6 вечера он остается в городе. Комната, в которой они оба проводят большую часть времени, находится прямо над моей, так что я могу немедленно прийти, если у них что-то происходит. Сегодня этот эксперимент проводится уже в третий раз; до сих пор вышла лишь одна сцена, но выпало из оправы. Н. принялся плакать: «Мама, ну что же ты наделала!» Когда я это услыхал, то поспешил вниз, предполагая, что стряслось нечто серьезное. Мне быстро удалось вставить стекло на место, и к Н. тут же вернулось веселое и умиротворенное расположение духа[297].
В целом дела идут лучше, чем я ожидал. Н., правда, не питает особой симпатии к своей матери, по крайней мере инстинктивно. Если он терпелив и дружелюбен с ней, то это следует считать признаком самопреодоления, которому он остается верен даже в своем теперешнем состоянии. Мне самому и всякому, кто хоть немного стоик по своему воспитанию, многие вещи в ней не нравятся. Резкий звук ее голоса уже через полчаса становится для меня обременителен, особенно если учесть, что ей недостает умения молчать, которое сейчас во многих моментах совсем не помешало бы. А еще все эти звуки, вздохи, мурлыканья пасторской вдовы, которыми она сопровождает всякую произнесенную ей приятность, мне глубоко отвратительны — и Ницше тоже, я вижу это по нему. И даже доктору Лангбену! (…) В то, что он действительно сможет долгое время быть опекуном Н., мне верилось разве что в редкие дни филантропического расположения духа. Всякий будет уже через 14 дней сыт этой историей по горло.
(…) Вопрос, какую службу мы сослужили бы Ницше, снова вернув его к жизни, я предпочту оставить без ответа. Я думаю, он был бы благодарен нам не больше, чем тот, кто бросается в поток, чтобы покончить с жизнью, и вдруг оказывается целым и невредимым вытащен на сушу каким-нибудь тупицей-спасателем. Я видел Н. в таких состояниях, когда мне с жутковатой отчетливостью казалось, будто он симулирует безумие, будто он рад, что все так закончилось![298] (…)
388
Авенариус, Фердинанд / Ferdinand Avenarius (1856—1923) — немецкий поэт, публицист, рецензент Н. № 3111
Айзер. Отто / Otto Eiser (1834–1897) — врач, обследовавший Н. в 1877 г. № 122
Баумгартнер,
Брандес Георг / Georg Brandes (1842–1927) — датский критик, литературовед и публицист №№ 266, 269, 275, 277, 279, 281, 282, 294, 299, 304, 310, 335
Буддензиг, Рудольф / Ruljkmf Buddensieg (1844–1908) — соученик Н. в гимназии Пфорта № 7
Буркхардт, Карл / Carl Burckhardt (1831–1901) — правительственный советник в Базеле, президент попечительского совета Базельского университета № 115
Бюлов, Ганс фон / Hans von Bulow (1830–1894) — немецкий дирижер, композитор и пианист №№ 57, 263
Вагнер, Козима / Cosima Wagner (1837–1930) урожденная Лист, дочь композитора Ференца Листа, супруга дирижера Ганса фон Бюлова, а впоследствии — композитора Рихарда Вагнера №№ 94, 105, 326
Вагнер, Рихтер (1813—1883)[299]
— немецкий композитор, поэт, мыслитель №№
32, 41, 59, 64, 92, 105
389
Видманн, Йозеф Виктор /Josef Victor Widmann (1842—1911) — швейцарский журналист и критик, автор статьи «Опасная книга Ницше» в бернском журнале Der Bund, сентябрь 1886 № 272
Вильгельм II (1859—1941)[300] — кайзер Германии № 309
Гверрьери-Гонзага, Эмма / Emma Guerrieri-Gonzaga — маркиза, флорентийская корреспондентка Н. № 69
Герсдорф, Карл фон / Carl von Gersdorff (1844—1904) — друг Н со времен гимназии Пфорта №№ 14, 16, 17, 18, 20, 30, 31, 36, 44, 45, 49, 50, 61, 66, 70, 73, 78, 89, 86, 104, 183
Гранье, Раймунд / Raimund Granier (1843—1909) — соученик Н. в гимназии Пфорта № 10
Дойзен, Пауль / Paul Deussen (1845—1919) — друг Н. со времен гимназии Пфорта, истории философии, индолог №№ 15, 19, 21, 24, 26, 38, 39, 99, 295, 306, 312, 327
Зайдлиц, Ирена фон / Irene von Sezdlitz — супруга Рейнхарта
фон Зайдлица № 223
Зайдлиц, Рейнхарт фон / Reinhart von Sezdlitz (1850—1931) — писатель и живописец, знакомый Н. №№ 106, 223, 243, 274
Кезелиц, Генрих / Heinrich Köselitz (1850—1931) — псевд. Петер Гаст — композитор, друг Н. №№ 107, 119, 120, 124, 125, 126, 129, 131, 132, 137, 141, 142, 143, 152, 156, 172, 173, 179, 185, 188, 197, 213, 219, 220, 227, 230, 233, 237, 239, 240, 241, 248, 257, 264, 265, 271, 278, 283, 284, 296, 301, 303, 305, 313, 315, 322, 328
Келлер, Готфрид / Gottfried Keller (1819—1890) — швейцарский писатель и поэт №№ 163, 180
Кнорц, Карл / Karl Knortz — американский корреспондент Н. № 285
Круг, Густав / Gustav Krug (1844—1902) — друг детства Н. №№ 2, 3, 35, 51
Ланцки, Пауль / Paul Lanzky (1852 — ок. 1940) — литератор, знакомый Н. № 200
Майер, Матильда / Mathilde Maier (1833—1910) — подруга Р. Вагнера, знакомая Н. №№ 68, 109
Мариани — кардинал, секретарь Папы Римского, один из
адресатов «безумных записок» Н. № 333
Мейзенбуг, Мальвида фон / Malwida von Mezsenbug (1816—1903) — писательница, подруга Н. и Р. Вагнера №№ 58, 60, 63, 71, 84, 95, 98, 123, 169, 175, 201, 202, 212, 232, 238, 297, 300, 329
Мушаке, Герман / Hermann Mushacke[301] (1845—1906) — Товарищ Н. по боннскому университету, член корпорации «Франкония» № 11
Науманн, Константин Георг /Konstantin Georg Naumann — издатель и владелец типографии в Лейпциге №№ 319, 324
Ницше, Франциска / Franziska Nietzsche (1826—1897) — урожденная Олер, мать Н. №№ 4, 5, 8, 12,
13, 75, 112, 117, 118, 128, 139, 144, 170а, 181, 192,
205, 206, 215, 217, 221, 235, 258, 262, 270
Ницше, Элизабет — см. Ферстен-Ницше.
Овербек, Ида / Ida Overbeck (1848—1933) — супруга Ф. Овербека № 146
Овербек, Франц / Franz Overbeck (1837—1905) — теолог, историк церкви, базельский коллега и друг Н. №№ 82, 127, 133, 135, 136, 145, 148, 171, 174, 176, 178, 184, 186, 190, 194, 196, 199, 203, 294, 207, 214, 218, 222, 234, 236, 242, 247, 250, 255, 259, 286, 287, 298, 316, 317, 320, 321, 330
Отт, Луиза / Luise Ott — урожд. фон Айнброд, подруга Н. №№ 89, 90, 101
Пиндер, Вильгельм / Wilhelm Pinder (1844—1928) — друг детства Н. №№ 1, 2, 3
Ричль, София /Sophie Ritschl (1820—?) — супруга Ф. Ричля № 25
Ричль, Фридрих / Friedrich Ritschl (1806—1876) — классический филолог, преподаватель
Н. в Бонне и Лейпциге № 53
Роде, Эрвин / Erwin Rohde (1845—1898) — классический филолог, друг Н. со времен учебы в Лейпциге №№ 22, 23, 27, 28, 29, 33, 34, 37, 40, 42, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 65, 67, 72, 76, 87, 91, 100, 108, 130, 140, 153, 168, 195, 226, 251, 252, 331
Рэ, Пауль / Paul Rée (1849—1901) — философ, друг Н. в конце 70-х — начале 80-х №№ 79, 97, 150, 159, 162, 166, 170
Салис ауф Маршлинс, Мета фон / Meta fon Salis auf Marschlins (1855—1929) — швейцарская писательница, знакомая Н. №№260, 293, 325
391
Саломе Лу фон / Lou
von Sal
Симон (?) — дочь генерала Симона, знакомого Н. по Ницце и Зильс-Марии № 193
Стриндберг, Август /Augest Strindberg (1849—1912) — шведский писатель и драматург №№ 308, 314, 323
Трампедах, Матильда /Mathilde Trampedach (1853—?) — особа, которой Н. сделал брачное предложение №№ 83, 85
Тэн, Ипполит / Hippolite Taine (1828—1893) — французский историк, философ, критик № 256
Умберто I
(1844—1900) — король Италии № 334
Фёрстер, Бернхарт /Bernhard Förster (1943—1889) — учитель, основатель немецкой колонии в Парагвае, зять Н. № 224
Фёрстер-Ницше, Элизабет / Elisabeth Förster-Nietzsche (1846—1935) — сестра Н. №№ 5, 6, 8, 9, 13, 75, 88, 93, 96, 112, 128, 138, 139, 144, 170а, 181, 183, 187, 189, 206, 208, 210, 216, 224, 225, 253, 254, 268, 302
Финн, Эмили / Emily Fynn — знакомая Н. по Зильс-Марии № 244
Фишер, Вильгельм / Wilhelm Vischer-Bilfinger (1808—1874) — классический филолог, член базельского муниципалитета №№ 43, 47
Фритш, Теодор / Fritsch[302] (1852—1933) — издатель антисемитского альманаха в Берлине №№ 246, 249
Фрицш, Эрнст /Ernst Wilhelm Fritzsch (1840—1902) — первый издатель Н. ;245
Фукс, Карл / Carl Fuchs (1838—1903) — композитор, органист, музыкальный критик, знакомый Н. №№ 77, 228, 267, 280, 288, 290, 291, 292, 317
Ширн Хофер, Реза фон / Resa von Schirnhofer (1855—1948) — подруга М. фон Мейзенбург и Э. Ферстер-Ницше №№ 198, 209
Шмайцнер, Эрнст / Ernst Schmeitzner (1851 — ок. 1895) — издатель Н. №№ 103, 111, 113, 114, 121, 161, 177, 191
Шпиттлер, Карл /Carl Spitteler (1845—1924) — швейцарский писатель, лауреат Нобелевской премии 1919 года №№ 261, 273, 289
Штайн, Генрих фон / Heinrich von Stein (1857—1887) — философ, литератор № 211
392
Августин Аврелий 236
Александр Македонский 361
Антонелли, Александр 359, 360, 366
Байрон, Джон Гордон 33, 49, 306
Бауэр, Бруно 286
Бах, Иоганн Себастьян 72
Берлиоз, Гектор 172
Бернар, Сара 173
Бетховен, Людвиг ван 32, 256, 357
Бисмарк, Отто фон 86, 260, 348, 361, 366
Бодлер, Шарль 305—306
Брамс, Иоганнес 307
Брет Гарт, Фрэнсис 154
Будда 361
Бурдо, Жан 359
Буркхардт, Якоб 65—66, 83, 116, 145, 156, 163, 170, 190, 263, 275, 276, 279, 286, 313, 373
Бьернсон, Бьёрнстьерне 295
Вагнер, Козима 65, 66, 97, 128, 159, 173, 201, 260, 286, 313
393
Вагнер, Рихард 40, 56, 58—62, 66, 68—71, 77, 86, 89, 91, 93, 94, 97, 98, 99, 117, 128, 144—145, 147, 159, 172, 184, 198, 201, 209, 214, 225, 231, 233—234, 255, 257, 260, 266—267, 273, 286, 292, 302—303, 305—306, 307, 313, 323, 326, 329, 334, 336, 339, 340, 357, 361
Ван Дейк, Антонис 130
Вебер, Карл
Виктор Эммануил II, король Италии 365
Виламовиц-Мёллендорф, Ульрих фон 39—91, 98
Вильгельм II, кайзер Германии 348, 356, 360, 361, 366
Виндиш, Эрнст (индолог, университетский товарищ Н.) 58—61
Гартман, Эдуард фон 152
Гверчино (Джованни Франческо Барбьери) 130
Гегель, Георг В. Ф. 31
Гердер, Готфрид 312
Герсдорф, Карл фон 89, 99, 116, 217
Гесиод 54
Гете, Иоганн Вольфганг 70, 73, 83, 84, 105, 162, 179, 183, 219, 232
Гоголь, Н. В. 154
Готье, Теофиль 286
Густав II Адольф 312
Декарт, Рене 287
Диоген Лаэртский 45
Д’Оревильи, Барбе 279
Достоевский Ф. М. 267—268, 270, 272, 279, 334, 335, 341, 343
Дуриш, Джанни (владелец дома в Зильс-Марии) 327
Дюма, Александр (сын) 173
Дюринг, Евгений 227, 243—244, 273
394
Зайдлиц, Рейнхарт фон 334
Зенгер, Гуго фон 120
Золя, Эмиль 347
Иисус Христос 30, 38, 231, 336
Кезелиц, Генрих 128, 135, 228, 234, 281, 325, 352, 361
Келлер, Готфрид 286
Клопшток, Фридрих 312
Конфуций 319
Кьеркегор, Сёрен 294, 302, 303
Ланцки, Пауль 214—215, 229, 230, 258, 259
Лао Цзы 319
Лермонтов, М. Ю. 154
Лессинг, Готхольд[303] Эфраим 46, 71
Лихтенберг, Георг Кристоф 46
Лайола, Игнатий 156
Лоррен, Клод 337
Магомет 30
Манчинелли, Луиджи 359
Мейзенбуг, Мальвида фон 125, 142—143, 181, 184, 199, 214, 217, 232, 238, 313, 334
Мендельсон-Бартольди, Феликс фон 307
Мендес, Катулл 362
Мериме, Проспер 160, 172, 173, 231
Мозенгель, Адольф (Художник, товарищ Н. на военно-санитарной службе) 70—76
Моммзен, Теодор 160
395
Наполеон Бонапарт 214, 279, 313, 333, 361
Науманн, Константин Георг 259, 346
Ницше, Франциска 154, 175, 197, 200, 325, 355
Овербек, Ида 79, 89, 92, 108, 109, 110, 122, 175, 216
Овербек, Франц 79, 89, 92, 108, 109, 110, 122, 175, 216
Отт, Луиза 186—187
Платон 53—54, 57, 65, 79, 132, 190, 325
По, Э. А. 154
Ранке, Леопольд фон 312
Ричль, София 103
Ричль, Фридрих 39, 40, 44—45, 51, 52, 59, 62, 86, 89, 102, 103, 312
Роде, Эрвин 79, 81, 83, 95, 99, 142, 197, 257
Ромундт, Генрих 77, 92, 101, 106—107, 108—110, 112
Рубенс, Петер Пауль 130
Рэ, Пауль 101, 128, 145, 146, 151, 152, 170, 171, 174—175, 180—181, 183, 193, 195, 208, 212, 214, 216—217, 223, 225, 247, 290, 313
Саломе, Лу фон 174—175, 176, 179, 181, 188, 195, 198, 208, 210, 212, 214, 216—217, 223—224, 225, 248, 278
Сент-Бёв, Шарль Огюстен де 162, 231, 285
Скотт, Вальтер 118
Софокл 47
Спенсер, Герберт 290
Стендаль (Анри Бейль) 160, 230—231, 268, 290, 295, 324
Стриндберг, Август 309, 329, 335, 342, 343, 359
Тургенев, И. С. 286
Тэн, Ипполит 275—276, 286, 290, 294, 363
Фейербах, Людвиг 23
396
Феогнид Мегарский 28, 34, 35, 46
Фёрстер, Бернхарт 234, 237, 238, 247, 277, 283, 291, 334
Фёрстер-Ницше, Элизабет 115, 117, 135, 175, 179—180, 195, 208, 209—210, 216—217, 223—224, 226, 311, 355
Фихте, Иоганн Готлиб 312
Фишер-Бильфингер, Вильгельм 62, 63, 96
Флобер, Гюстав 286
Фрайтаг, Альвина (служанка в доме Франциски Ницше) 250, 296
Фрицш, Эрнст Вильгельм 83, 89, 97, 103, 106, 114, 257, 280, 339, 340, 345, 346
Хегар, Фридрих 229
Хейзе, Пауль 301
Хиллебранд, Карл 103, 302, 304
Шекспир, Уильям 27, 48, 114, 214, 308, 361
Шелли, Перси Биши 69
Ширнхофер, Реза фон 223, 224, 278
Шлегель, Август 312
Шмайцер, Эрнст 106, 124, 145, 184, 212, 228, 247, 257
Шопенгауэр, Артур 37, 38, 41, 46, 47—48, 49, 52, 56, 61, 63, 64, 65, 70, 77, 80, 99, 112—113, 117, 129, 134, 184, 194, 198, 213, 214, 231, 234, 258, 268, 292, 302—303, 306, 308
397
С. 24 Ницше с одноклассником во дворе гимназии Пфорта.
С. 26 Элизабет Ницше в возрасте 15 лет.
С. 32 Члены венской студенческой корпорации «Богемия». 1866 г.
С. 44 Фридрих Ричль.
С. 66 Рихард и Козима Вагнер.
С. 67 Базель, вид через Рейн на собор и университетские здания.
С. 85 Фридрих Ницше. 1872 г.
С. 102 Фотография Ницше с подписью «Фридрих несвоевременный». 1874 г.
С. 119 Матильда Трампедах.
С. 130 Лугано. Вид на озеро из отеля «Вилла Костаньола».
С. 157 Наумбург, январь.
С. 161 Генрих Кезелиц.
С. 163 Франц и Ида Овербек.
С. 170 Зильс-
С. 174 Печатная машинка, которой пользовался Ницше.
С. 175 Лу фон Саломе. 1882 г.
С. 180 Дом в Таутенберге, где Ницше жил летом 1882 г.
С. 188 слева направо: Лу фон Саломе, Пауль Рэ и Фридрих Ницше. 1882 г.
С. 194 Раппало, февраль.
С. 199 Фридрих Ницше. Осень 1882 г.
С. 206 Вид из Зильс-Марии на озеро.
С. 211 Элизабет Ницше. 1882 г.
С. 227 Генрих фон Штайн.
С. 249 Полуостров Сен-Жан близ Ниццы. Вид с так называемой тропы Ницше.
С. 262 Рута Лигуре.
398
С. 277 Бернхарт Фёрстер и Элизабет Фёрстер-Ницше играют в карты с другими колонистами в Парагвае.
С. 284 «Молитва к жизни». Слова Лу фон Саломе, музыка Фридриха Ницше.
С. 288 Георг Брандес.
С. 310 Рукопись помещенного на той же странице письма Кезелицу, начиная со слов «что предлагает Ривьера».
С. 326 Карл Фукс
С. 359 Башня Моле Антонеллиана в Турине.
Фридрих Ницше
Письма
Редактор и составитель
И. А. Эбаноидзе
Оформление и верстка
И. Бернштейн
Корректор
Г. Парамонова
Подписано в печать 04.08.2007.
формат 60×90/16. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура CaslonC 540. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 25. Тираж 4000 экз. Заказ № 4133
Издательство «Культурная Революция»
Адрес: Москва, ул. Мясницакая, д. 9/4, стр. 1
Телефон/факс (495)6218471
E-mail editor@kultrev.ru
При участии ООО «ПФ “Сашко”»
Отпечатано в ОАО «ИПК “Ульяновский Дом печати”»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14