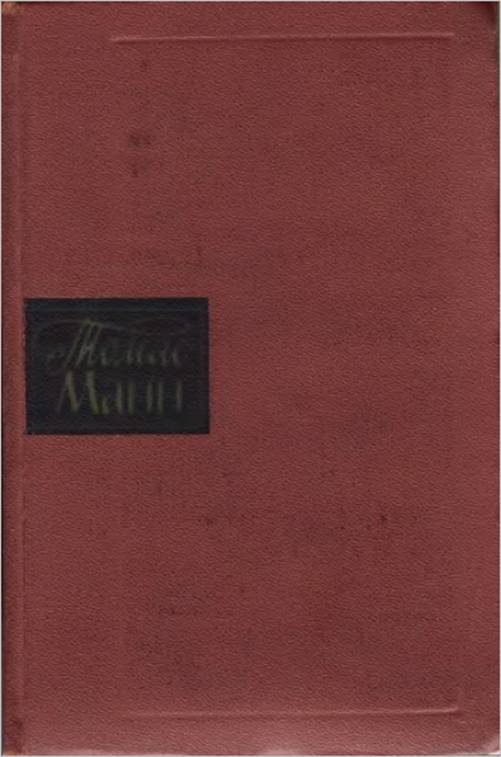
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Томас Манн
Собрание сочинений в десяти томах
Под редакцией
Н. Н. ВИЛЬМОНТА и
Б. Л. СУЧКОВА
Государственное
издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960
ТОМАС МАНН
собрание сочинений
ТОМ ШЕСТОЙ
ИЗБРАННИК
Перевод с немецкого
С. АПТА
ПРИЗНАНИЯ АВАНТЮРИСТА
ФЕЛИКСА КРУЛЯ
Перевод с
немецкого
НАТАЛИИ МАН
Государственное
издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960
Государственное издательство ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Москва 1960 <Ъ --------------page: 5 -----------
THOMAS MANN
DER ERWAHLTE
1950
BEKENNTNISSE DES HOCHSTAPLERS FELIX KRULL
Примечания
С. АПТА, H. ВИЛЬМОHTА и С. СОБОЛЯ
ИЗБРАННИК
Роман
Звон, перезвон колоколов supra
urbem1, надо всем городом, в струящемся над ним
воздухе, пересыщенном гудящими звуками! Колокола, колокола! Они с размаху, с
разлету взмывают, взвиваются на станинах, на перекладинах в немолчной
вавилонской разноголосице. Грузно и часто, гремя и трезвоня — не в лад, невпопад,
они говорят все сразу, перебивая друг друга, перебивая самих себя: било ударяет
о медь и, не дав умолкнуть разбуженному металлу, бьет, раскачавшись, уже о
другой край толстостенного колпака и вторгается в свой же запев, так что не
отгремело еще «In te, D
Наверху звонят и внизу, в семи благодатнейших местах, известных паломникам, а равно и во всех приходских церквах семи епархий на обеих излучинах Тибра. Звонят с Авентина, с палатинских святынь и с Иоанна Богослова в Латеране, звонят над могилой «ходящего в ключах», на Ватиканском холме, со святой Марии Маджоре, на Форуме, в Домнике,
7[1]
в Космедине и в Трастевере, с Ара Цели, со Святого Павла за городской стеной, со Святого Петра-в-веригах, с храма пресветлого Креста Иерусалимского. Но и с кладбищенских часовен, с колоколен ничем не славных церквушек и захудалых молелен — тоже звонят. Кому ведомы их имена и прозванья? Ветер, нет, истая буря, ударяясь о струны эоловой арфы, расшевелила весь мир звучаний и воссоединила в густой всегармонии голоса соседних и дальних колоколов, — так, разрывая воздух, несется благовест великого праздника и вожделенного сретения.
Кто звонит в колокола? О нет, не звонари. Они высыпали на улицу, как и весь римский люд, услыхав столь необыкновенный звон. Взгляните-ка: колокольни пусты, канаты свободно свисают. А все-таки колокола качаются и, гремя, ударяются о стенки била. Неужели мне скажут: никто не звонит? Нет, на это отважится разве лишь человек, ничего не смыслящий ни в логике, ни в грамматике. «Колокола звонят» — это значит: кто-то звонит в них, даром что колокольни пусты. Так кто же звонит в колокола Рима? — Дух повествования. Да неужто же может он быть повсюду, hic et ubique[2], к примеру сказать, на башне св. Георгия в Велабре и где-нибудь у св. Сабины, сохранившей колонны мерзостного капища Дианы, сиречь в сотне освещенных мест сразу? — Еще как может! Он невесом, бесплотен и вездесущ, этот дух, и нет для него различия между «здесь» и «там». Это ведь он говорит: «Все колокола звонят», так, стало быть, он сам и звонит. Такой уж этот дух духовный и такой абстрактный, что по правилам грамматики речь о нем может идти только в третьем лице и сказать можно единственно: «Это он». И все же он волен сгуститься в лицо, а именно в первое, и воплотиться в ком-то, кто говорит и говорит от его лица: «Это я. Я — дух повествования, который, нашедши себе пристанище в библиотеке монастыря Санкт-Галлен в Алемании[3], где некогда сиживал Ноткер Косноязычный, повествует вам в забаву и в преизрядное поучение эту историю; за начало же я беру ее благостный конец и звоню в колокола Рима, то есть сообщаю, что
8
в тот день счастливого сретения все они зазвонили сами собой».
Дабы, однако, и второе грамматическое лицо не осталось в обиде, задается вопрос: «Кто же ты, называющий себя «я», кто ты, сидящий за налойным стольцом Ноткера и воплотивший в себе дух повествования?»— «Я Клеменс Ирландский, ordinis divi Benedicti1, гость, по-братски здесь принятый и посланный моим настоятелем Килианом из монастыря Клонмакнуа, ирландской моей обители, дабы поддержать старые связи, что со времен Колумбана и Галла установились между моей родиной и этой надежной твердынею христианства. Великое множество очагов благочестивой учености и пристанищ муз посетил я на своем пути, таких, как Фульда, Рейхенау и Гандерсгейм, Санкт-Эммеран в Регенсбурге, Лорш, Эхтернах и Кореей. Но здесь, где услаждают нам очи псалтыри и евангелия, чудесно расписанные по пурпуру золотом и серебром с добавлением киновари, а также зеленой и синей красок, где братия, под началом отца-регента, поет так благолепно, как мне нигде не случалось слышать доселе, и где силы телесные подкрепляешь отменными трапезами и, кстати сказать, преотрадным винцом, а поевши, с пользою для здоровья, прохаживаешься по монастырскому двору, вкруг водоема, — здесь я решил задержаться на более длительный срок, поселившись в одной из келий, всегда открытых гостям, куда внимательный настоятель, Гоцберт по имени, распорядился поставить для меня ирландский крест, на коем изображены агнец, обвитый змеями, arbor vitae2, драконья голова с крестом в отверстой пасти, а также Ecclesia3, сбирающая в потир Христову кровь, тогда как диавол силится отхлебнуть из сего сосуда. Изделие это свидетельствует о раннем процветании художеств у нас в Ирландии.
Всею душой прилепился я к своей родине, богатому бухтами острову св. Патрика, к его пастбищам,
9
изгородям, болотам. Воздух там влажен, приволен, да и в монастыре нашем, Клонмакнуа, жизнь тоже привольна, то бишь благоприятна для ученых занятий, обузданных умеренным воздержанием. Мы с настоятелем Килианом давно утвердились во взгляде, что Христова вера и любовь к изучению древних должны преодолевать людское невежество согласно и купно, ибо таковое равно презирает и веру, и просвещение, а там, где пускает корни первая, непременно расцветет и второе. Ученость нашего братства и в самом деле очень высока и, как мне сдается, выше даже, чем в среде римского клира. Иные римские монахи не в меру далеки от мудрости древних и подчас пробавляются поистине жалкой латынью — правда, не столь пакостной, как немецкие,— один из коих, кстати сказать, августинец, недавно мне написал: «Habeo tibi aliqua sécréta dicere. Robustissimus in corpore sum et saepe propterea temptationibus Diaboli succumbo»1. Это уже вовсе невыносимо, и по слогу и по всему прочему; разумеется, из-под римского пера такая мужицкая галиматья никогда бы не вышла. Да и вообще не следует думать, будто я хочу бросить тень на Рим и его главенство, напротив, я мню себя верным их приверженцем. Спору нет, мы, ирландские монахи, всегда отстаивали независимость действий и во многих краях материка первыми проповедовали христианское учение, чем снискали себе чрезвычайные заслуги, воздвигая повсюду — в Бургундии и Фрисландии, в Тюрингии и Алемании — монастыри, сии бастионы веры и миссионерства. Однако это не мешало нам искони признавать епископа Латеранского главой христианской церкви, видеть в нем существо почти божественное и разве лишь место воскресения господня почитать более, чем храм св. Петра. Ведь можно сказать, не солгав, что церкви Иерусалима, Эфеса и Антиохии старше римской, и если Петр, чье имя, прославленное в веках, не хочется свя-
10
зывать с приснопамятным пением петла, и основал Римское епископство, чего никто не отрицает, то ведь это же самое бесспорно относится и к Антиохийской общине. Но такие соображения — не более чем побочные примечания к истине, истина же заключается в том, что господь и спаситель наш, как сказано у Матфея (и кстати только у него одного), поначалу нарек Петра своим наместником на земле, а тот передал викариат епископу Римскому и поставил его главой надо всеми епархиями мира. Ведь в декреталах м протоколах седой старины наличествует даже речь, которую произнес сам апостол при рукоположении первого своего преемника, папы Лина, и это представляется мне подлинным испытанием веры и вызовом духу: пусть-де явит свою силу и покажет, во что только он не способен уверовать. В своей куда более скромной роли — служить инка рнацией духа повествования — я всемерно пекусь о том, чтобы читатель вместе со мной признал того, кто призван занять sella gestatoria1 мужем, удостоенным высочайшего и благодатнейшего избрания. Знаком преданности моей Риму является уже и то, что и прозываюсь Клементием. Ведь изначальное имя мое — Моргольд. Но я никогда его не любил, усматривая в нем что-то дикое и языческое, и — вместе с монашескими ризами — облек себя именем третьего преемника Петра, так что в подпоясанной тунике и в наплечье пребывает уже не вульгарный Моргольд, а утонченный Клементий, осуществивший то, что св. Павел в послании «Ad Ephesios»2 столь удачно назвал «облачением в нового человека». Нет, это уже но бренное тело, шнырявшее по земле в камзоле оного Моргольда! Цингулом препоясано тело духовное — плотское, стало быть, не настолько, чтобы признать вполне правомерным прежнее мое утверждение, будто нечто, а именно: дух повести, во мне «воплотилось». Я вовсе не так уж и люблю этот глагол «воплощать», ибо произведен он от «плоти», от бренного
11
тела, которое я снял с себя вместе с именем Моргольд, от тела, которое сполна является вотчиной сатаны и по воле его способно творить такие мерзкие пакости, что даже трудно уразуметь, почему оно к ним тяготеет. Правда, с другой стороны, тело есть то вместилище души и божественного разума, без коего таковые лишились бы всякого крова, а посему оно должно быть признано необходимым злом. На такое признание тело еще смеет притязать, более же восторженного оно в непотребстве своем поистине не заслуживает. Да и станет ли человек, взявшийся рассказать или обновить (ибо ее уже рассказывали неоднократно, хотя и не так, как должно) историю, которая изобилует плотскими мерзостями и ужаснейшими доказательствами готовности плоти ничтоже сумняся предаваться греху, — станет ли он бахвалиться тем, что сам является неким воплощением?
Нет, принявши мой образ и лик, образ инока по прозванию Клементий Ирландский, дух повествования сохранил изрядную долю бестелесной отвлеченности, позволяющей ему звонить одновременно со всех титулярных базилик города, и я сейчас поясню это двумя примерами. Читатель моей рукописи, чего доброго, и не обратил внимания, — а меж тем это стоило приметить,— что я указал ему на место, где нахожусь, а именно: монастырь св. Галлена и налойный столец, но не сообщил, в какую пору, в которое лето от рождения господа и спасителя нашего Иисуса Христа я здесь сижу, испещряя пергамент своим мелким и тонким, искусным и витиеватым письмом. Касательно сего не дано никакой отправной точки, ибо имя нашего здешнего настоятеля — Гоцберт — таковою служить не может. Очень уж часто и в самые разные времена оно повторяется и слишком легко, буде за него ухватятся, превращается во Фридолина или даже Гартмута. Если же кто-нибудь, из озорства или ехидства, спросит меня: «Неужто ты сам знаешь где, но не знаешь, когда ты живешь?» — я на это отвечу кратко: «А тут и знать нечего», ибо как олицетворение духа повествования я обладаю той отвлеченностью, вторую примету которой сейчас поведаю.
12
Ведь вот я пишу, стараясь рассказать вам историю, одновременно ужасную и высоко назидательную. Но совершенно неизвестно, на каком языке я пишу: по-латыни ли, по-французски, по-немецки, или по англо-саксонски, да и не все ли это равно, ибо если я сегодня, к примеру, пишу по-тиудискски, как говорят алеманы в Гельвеции, то завтра перейду на британскую речь и книга моя станет британской. Я отнюдь не хочу сказать, что силен во всех языках, но они сливаются друг с другом в моем письме и образуют единое целое — язык. Ибо так уж устроено, что. дух повествования — это дух свободный до отвлеченности, и средством его является язык как таковой, сам язык, язык-абсолют, не желающий знать никаких наречий и местных языковых божеств. Иначе как раз и впадешь в политеизм и язычество. Ведь бог есть дух, и слово превыше всех языков и наречий.
Одно несомненно: пишу я прозу, а не стишки, каковые и вообще не очень-то жалую. В этом отношении я следую за императором Каролусом, который был не только великим законодателем и судьей народов, но также покровителем грамматики и ревностным поборником чистой, правильной прозы. Иные, правда, утверждают, будто только размер и рифма способны создать строгую форму, но мне невдомек, почему это поскоки на трех-четырех ямбических стопах, к тому же не обходящиеся без всяких там дактилических и анапестных спотыканий, да еще в придачу забавные созвучия в конечных словах — строже по форме, чем складная проза с ее куда более тонкими и тайными ритмическими обязательствами, и начни я:
Жил
князь, n
Гримальд,
и жил.
Но
вот удар его хватил.
Достались
детям дом и власть.
Ahî2, грешили дети всласть!
или в подобном роде — неужто сие строже по форме, чем грамматически добротная проза, в которой я сейчас и поведу рассказ о великой милости божьей, при-
13
чем изложение мое будет настолько сильно и ярко, что еще немало потомков: французов, англов и немцев — смогут черпать отсюда и строить на этом свои вирши.
Ну, а теперь от присказки к сказу.
ГРИМАЛЬД И БАДУГЕННА
Жил некогда герцог Фландрии и Артуа, Гримальд по имени. Его меч назывался Экесакс. Его кастильский конь носил кличку Гуверйорс. Не было, казалось, князя на свете, о коем господь пекся бы благосклоннее, и взгляд Гримальда смело облетал его наследные земли с богатыми городами и сильными крепостями, достойно и строго покоился на его maisnie1 и оруженосцах, на скороходах, поварах и поварятах, на трубачах, скрипачах, барабанщиках и флейтистах, на его свите—двенадцати юношах знатного рода и доброго нрава, в том числе двух молодых сарацинах, над идолом которых, Магометом, запрещалось глумиться их товарищам христианам. Когда он с женою своей, Бадугенной, благороднейшей дамой, шествовал в церковь или к торжественной трапезе, эти пажи, в пестрых чулках, прыгали впереди них, попарно держась за руки и скрещивая ноги.
Его родовым замком, где большей частью и находился двор герцога Гримальда, был Шастель Бельрапейр, на высотах питавшей овец Артуа, словно выточенный на токарном станке, если взглянуть издали на его крыши и балконы, на предмостные укрепления, стены и башни замка, надежного убежища, каковое и должен иметь князь на случай нашествия лютых врагов извне, а равно и на случай злых смут среди собственных подданных; убежище это было к тому же удобно для жилья и приятно для глаза. Сердцевиной замка был высокий донжон, прямоугольный, с роскошными внутренними покоями, скрытыми, впрочем, не только в жилой башне, но также во многих пристрой-
14
ках и внутренних флигелях вдоль стены, а из зала донжона шла прямая лестница вниз, на крепостной двор, к лужайке, где за прочной каменной изгородью стояла тенистая липа. На скамье, опоясывавшей дерево, герцогская чета часто сиживала в летние дни на подушках из галапского и дамасского атласа, а в ногах у князей, на коврах, разостланных челядью по холеной траве, изящными группами располагалась знать, чтобы послушать правдивые и вымышленные сказы менестрелей, которые, перебирая струны, повествовали об Артуре, владыке всех бриттов, о короле хорошей погоды Оренделе, о том, как поздней осенью он терпит жестокое кораблекрушение и становится рабом ледяного великана, о битвах рыцарей-христиан с диковинно-отвратительными племенами таких отдаленных земель, как Этниза, Гильстрам или Ранкулат: журавлиноголовыми, лобоглазыми, плоскостопыми, пигмеями и гигантами; о необычайных опасностях Магнитной горы и о том, как хитростью отбирают у грифов червонное золото; о богословском споре между святым Сильвестром и неким иудеем перед лицом императора Константина: иудей прокричал в ухо быку имя своего бога, и бык, бездыханный, свалился наземь. Но тут Сильвестр призвал Христа, и бугай снова встал на ноги и громовым рыком провозгласил превосходство истинной веры.
Но все это только примера ради. Вообще же тут задавали друг другу хитроумные загадки и вели непринужденные беседы, полные смысла и corteisie1 К так что воздух не раз оглашался веселым смехом кавалеров и дам.
Я, со своей стороны, тоже готов рассмеяться, если кто подумает, что по вечерам верхний зал освещали дымящие факелы из соломы или лучины. Как бы не так! С потолка свисали паникадила, густо усеянные мерцающими свечами, а по стенам сияли десятисвечные подвесные шандалы. Было здесь два мраморных очага, где сгорали сандал и алоэ, а каменный пол покрывали широкие ковры, которые в особых случаях,
15
когда, скажем, князь Канволейский или король Анжуйский — bien soi venu, beau Sire!1 — гостили у герцога, усыпались еще хворостом, листьями ситника и цветами. За трапезой господин Гримальд и госпожа Бадугенна сидели в креслах с подушками арабского ахмарди, а напротив сидел их капеллан. Барды садились в самом низу стола или же располагались вместе с подлым людом за отдельным столом, а более почетные гости за четырехместными откидными столиками с белыми скатертями, и пажи, по четыре за каждым, склоняя колена, подносили золотые рукомойники и полотенца пестрого шелка. Яства были поистине княжеские: и цапли, и рыба, и бараньи котлеты, и птица, пойманная в рощице, и жирные карпы. Ко всякому блюду пажи подавали перец и аграс (я имею в виду фруктовый соус) и усердно, с разрумянившимися лицами (ибо они сами выпивали за дверью), наполняли кубки вином, и тутовой настойкой, и красным синопелем, и пряным прозрачным напитком—кларетом, каковым особенно охотно и часто орошал горло господин Гримальд.
Не стану больше расхваливать чудесную жизнь в Бельрапейре, хотя было бы грешно умолчать, что лари здесь ломились от холстов и штофов, от редкостного бархата и шелков, от куньих и душистых собольих шкурок; что полки и поставцы сверкали прекрасной ассагаукской посудой: чашами, выточенными из драгоценных камней, и золотыми бокалами; что выдвижные ящики едва вмещали запасы благовоний, которыми окуривали покои, усыпа́ли ковры и опрыскивали ложа — трав и корений, амбры, териаки, гвоздики, мускуса и кардамона; что в тайниках в великом обилье хранилось золото — кавказское, вырванное прямо из когтей у грифов, ожерелья, браслеты, а сверх того еще отдельно всякие чудодейственные камни: карбункулы, ониксы, халцедоны, кораллы и как они там называются: агаты, сардониксы, жемчуга, малахиты и алмазы, что склады и кладовые были битком набиты благородным оружием, кольчугами,
16
нагрудниками и щитами из Толедо, что в испанской стороне, доспехами для воинов и коней, ковертюрами, сбруей, седлами и уздечками с бубенцами, и что стойла, загоны, закуты и клетки были переполнены лошадьми и собаками, учеными соколами, ястребам и перепелятниками и говорящими птицами.
Однако довольно расхваливать! И то ведь не шутка надлежаще разместить столько похвал и сдержать их уздою грамматики. По княжески, как видите, проводили свои дни господин Гримальд и госпожа Бадугенна, вызывая восхищение всего христианского мира, щедро благословенные всеми земными благами. Так значится в анналах, а далее значится: «Для счастья их недоставало лишь одного». Жизнь человеческая течет по избитым образцам, но она стара и косна только в словесном обличье, сама же по себе она всегда нова и молода, если даже рассказчику ничего не остается, как наделять ее старыми словесами. Лишь одного, вынужден я повторить, недоставало для полного их счастья — детей, и сколь часто случалось видеть, как супруги, рядышком, опускали колени на бархатные подушечки и, воздев руки горе́, слезно просили о милости, им не отпущенной! Мало того, во всех церквах Фландрии и Артуа что ни воскресенье с амвонов молили об этом всевышнего, но, казалось, господь бог не хотел внять сей мольбе, ибо обоим уже минуло сорок, а надежда па потомство, на прямого наследника все еще не сбылась, так что некогда держава, наверно, распалась бы в споре зарящихся на власть притязателей.
Помогло ли здесь то, что в дело вмешался сам архиепископ
Кельнский, Утрехтский, Маастрихтский и Льежский, не раз назначавший с. этой
целью торжественное богослужение и крестный ход? Допускаю сие, ибо после
долгого промедления опала всемогущего была наконец снята и государыня стала
ждать радостей материнства, — радостей, но, увы, обреченных истощиться мукой
родин, тяжесть коих все еще свидетельствовала, что Премудрый неохотно исполняет
ее желание. Увы! Бадугенне не суждено было узреть двойню, которую она, непривычно
стеная, про-
17
извела на свет. Свет ее очей погас,
и герцог Гримальд вместе с радостями отцовства познал и горечь вдовства.
Как странно смешивает провидение радость и горе смертных в
едином кубке! Архиепископ, мучительно потрясенный двойственным успехом своего
предстательства пред всемогущим, препоручил епископу Камбрейскому отслужить
панихиду в Ипре, в кафедральном соборе. И когда камень прикрыл могилу, прохладное
родильное ложе госпожи Бадугенны, герцог Гримальд возвратился в Бельрапейр,
чтобы порадоваться тому, что было ему дано, после того как он, с соблюдением
всех обрядов, оплакал то, что было у него отнято. Младенцы, сладчайшие отпрыски
смерти, мальчик и девочка, его плоть и кровь, наследники его дома, стали ему
утехою в горе, стали утехою всему замку, отчего их совокупно и называли
«жойделакурт», то есть «радость двора», ибо мир и впрямь не видел еще младенцев
прелестнее, и никакой художник из Кельна или Маастрихта не смог бы написать
красками ничего красивее: безукоризненно сложенные, исполненные очарования, с
волосиками, мягкими, как цыплячий пушок, и глазками, пока еще лучащимися светом
небесным; лишь изредка хнычущие, всегда готовые улыбнуться ангельской улыбкой,
от которой таяло сердце не только у придворных, но и у самих младенцев: когда
их пеленали, они тянулись друг к другу ручонками и лопотали: «Да, да! Ты, ты!»
Разумеется, «жойделакурт» называли их лишь купно и ради
милой шутки. В святом крещении — а окрестил их капеллан замка —они получили
имена Вилигис и Сибилла; и если принц Вилло, который лопоча: «Да, да!» — шлепал
ручонками гораздо сильнее, чем Сибилла, был наследником и главным лицом государства,
то на нее, как на весь ее пол, падал отсвет и отблеск славы царицы небесной, и
герцог Гримальд глядел на свою дочку куда более нежными глазами, чем на столь
нужного герцогству и не менее прекрасного сына. Тому быть рыцарем, таким же,
как он сам, храбрым и дюжим, ну да, любезным женскому взору, когда после тйоста омоет тело от ржавчины своих
18
пропотевших
доспехов, пожалуй, и до кларета охочим, — ну да, это все знакомо! Сладостная
же, осиянная свыше чужедальность хрупкой женственности, она совсем по-другому
задевает огрубевшие сердца, и отцовское тоже, а потому господин Гримальд
называл сыночка только «бебешкой» и «бездельничком», девчоночку же «ma charmante» и целовал ее, тогда
как мальчика только трепал по щеке и давал подержать ему палец.
ДЕТИ
До чего же заботливо пестовали
высокородную двойню сведущие женщины в чепцах, прикрывавших им лоб и подбородок:
они кормили их из рожка подслащенной водой и кашицей, купали в растворе отрубей
и промывали вином пустые десны, чтобы там поскорей и полегче прорезались и
украсили их улыбку молочные зубы. Зубки прорезались легко и без долгого плача и
были как жемчужины, и притом весьма остры. Но так как близнецы вышли уже из
грудного возраста и перестали быть слабенькими новичками в сем дольнем, мире,
сладостный свет, принесенный ими свыше, исчез, словно померкши за тучами, так
что они потускнели и начали принимать земной облик, самый, замечу, однако,
изящный. Цыплячий пух на их головках превратился в гладкие каштановые волосы;
это чудо как шло к нездешней смугловатой бледности их точеных лиц и постепенно
вытягивавшихся тел, бледности, явно унаследованной от дальних предков, а не от
родителей, ибо госпожа Бадугенна была бела и румяна, а у господина Гримальда
лицо и вовсе было красно, как киноварь. Глаза детей, первоначально сиявшие
лазурью, все более и более темнели, приобретая редкий, почти таинственный,
иссиня-черный цвет, уже не небесный, хотя трудно сказать, почему бы некоторым
ангелочкам не иметь глаз такой ночной синевы. И еще у обоих была одинаковая
привычка искоса глядеть в сторону, словно бы прислушиваясь и ожидая чего-то.
Хорошего ли, дурного? Не знаю.
19
По седьмому году, когда меняются зубы, на них напала
ветрянка, и от чесанья у каждого осталась отметина на лбу, небольшая оспинка, у
обоих на одном и том же месте и одинакового очертания, а именно серпообразного.
Щербинку скрывали их шелковистые каштановые волосы, но подчас господин
Гримальд, потехи ради и притворно удивляясь, откидывал с их лобиков мягкие
пряди, когда няньки в чепцах, ежедневно в определенный час, приводили детей к
скамеечке, где он, с бокалом кларета одесную, обычно сиживал. Улыбаясь и опустив
головы, женщины отступали в глубину зала, чтобы не нарушить своим низким присутствием
высочайшего семейного счастья. Или же они вовсе останавливались у двери,
предоставляя малышам, Сибилле в ее парчовом платьице (или как там называется
ткань, искусно расцвеченная золотыми нитями) и Вилигису в его бархатном, отороченном
бобровым мехом кафтане, — а волосы у обоих были до плеч, — одним идти к отцу,
перед которым Вилигис научился уже, как того требовали правила и приличия, преклонять
колено. «Deu vus sal1, господине достолюбимый», — говорили они
голосками, чуть хриплыми от робости. Затем отец болтал с ними и шутил, называл
их «gent mignote de soris»2 и милашками, спрашивал, как они поживают,
и наконец поручал их Saint Esperit3, причем
Вилигиса хлопал по плечику, Сибиллу же целовал. Он говорил: «Пребывайте в
добром здравии». А они говорили вместе хриплыми голосками: «Да вознаградит вас
бог» — и, удаляясь, пятились, как предписывал этикет, лицом к отцу, после чего
няньки подхватывали детей у двери и брали их с обеих сторон за руки, за
свободные руки, которыми те не держались друг за друга.
А они постоянно держались за руки, и по восьмому году еще, и
по десятому, и были, словно пара карликовых попугайчиков, день и ночь неразлучны,
ибо издавна спали в одной опочивальне, наверху, в башне,
20
оглашаемой криками сычей; там стояли их упругие кровати с лямками саламандрового меха, на которых лежали подушки, и с валиками гадючьей кожи. Подстилка под подушками была из пальмовых волокон. Няньку, что для надзора и ухода за детьми спала там же на простой койке, они часто спрашивали: «Не правда ли, мы еще малы?» — «Малы, голубки мои благородные». — «И мы ведь еще долго будем маленькими, n'est-ce voir?1» — «Ну конечно, seurement, мои милые, еще долго-долго!» — «А мы хотим всегда быть маленькими на этом свете, — говорили они.— Так мы решили, лаская друг друга. Мы станем легкими ангелочками на небеси. Тяжело, наверно, обратиться в ангелочка, когда умрешь, если у тебя и брюхо, и борода, и грудь».— «Ах, глупышки, que Deus dispose2. А Он не желает, чтобы люди всегда оставались детьми, как бы вы там ни решили между собой. Deus ne volt3». — «А если мы укротим свою плоть и проведем три ночи в молитве и бдении, чтобы бог оставил нас маленькими?» — «Ну и простота! Клянусь честью, вы уснете и во сне преотлично утешитесь».
Так оно и случилось. Не знаю, думали ли они всерьез об укрощении плоти, мне хотелось бы верить, что речь няньки обескуражила их. Но так или иначе, понеже над замком и над страной проносились годы, в зеленом венце и в поблекшем, в убранстве из мглистого льда и снова в весеннем уборе, то дети достигли и девяти, и десяти, и одиннадцати; две почки, которые желали, или, вернее, не желая того, должны были стать цветками, уже не малые, а юные-преюные созданья, с писано красивыми бледными лицами, с шелковыми бровями, быстроглазые, с тонкими, чуткими ноздрями над пухловатой верхней губой изящного и строгого рта, сложения в будущем нежного, но еще не принявшего окончательных пропорций, вроде молодых псов, у которых слишком тяжелые лапы, так что, когда Вилигис утром, балуясь после сна, нагой, как языческий бог, с отметинкой под растрепанными
21
локонами, прыгал вокруг стоявшего возле его постели умывального чана, где плавали лепестки роз, то, чем он разнился от своей сестры, его мужской член, казался непомерно большим и вытянутым в сравнении с его узким, бледно-смуглым телом. Меня это зрелище некоторым образом огорчает. Вверху такая ребячески миниатюрная, смышленая головка, а внизу — на тебе, этакая громадина! Мамки только благоговейно прищелкивали языком и говорили: «L’espoirs des dames!»1 Что же до юной принцессы, то она, полураспустившийся бутон, сидела на краешке кровати с таким же открытым (ибо на ночь ей зачесывали волосы вверх) знаком на лбу и, пожалуй, даже мрачно косилась на брата и на его почитательниц. Я знаю, что она думала. Она думала: «Я вам покажу — l’espoirs! Это мой дружок. Даме, которая от него понесет, я выцарапаю глаза, и никто меня не накажет, меня, герцогскую дочку!»
К ней была приставлена родовитая вдова, графиня де Клев, с которой она певала псалтырь в амбразуре окна и которая учила ее ткать материю из драгоценной пряжи. За принцем же присматривал гюрвенал, по имени господин Эйзенгрейн, cons du chatel2, точнее же сказать, даже не замка, а крепости на воде с широкими и глубокими рвами и дозорной башней, откуда далеко было видно море, ибо крепость находилась внизу, на равнине, где Рулер и Тору́, от моря рукой подать. (Будьте внимательны и заметьте себе эту крепость по соседству с рокочущим морем! Ей будет еще отведено особое место в нашей истории.) Господин Эйзенгрейн, знатнейший в этой стране и верный вассал, затем, собственно, и прибыл оттуда в Бельрапейр, оставив дома жену и дитя, чтобы стать ментором и maistre de corteisie3 молодого сеньора. Для более же низких поручений к последнему был приставлен паж Патафрид. Ибо хотя герцог Гримальд, из-за небесного отсвета на ее челе,
22
всегда предпочитал девочку сыну и,
по мере того как бутон распускался, становился с ней все нежней и галантнее, а
с мальчиком, чем больше тот вырастал, все суровее, он всегда по-отечески пекся
о достойном воспитании наследника и радел о том, чтобы сделать его un
Что смыслю я в рыцарстве и в ловитве! Я — чернец, по сути не сведущий во всех этих делах и немного пред ними робеющий. Я никогда не хаживал на вепря, не слышал, как гремит рог перед травлей оленя, не свежевал зверя и не был главарем над охотниками, которому жарят на угольях лакомые куски. Я только делаю вид, что могу складно рассказать о воспитании юного принца Вилигиса, и напускаю словесного туману. Рука моя никогда не размахивала габилотом, не держала пику наперевес; да и никогда не обманывал я никакого зверья манком, и слово «манок», употребленное здесь с этакой непринужденностью, я просто-напросто где-то подцепил. Но таков уж дух повествования, воплощаемый мною; он делает вид, будто отлично разбирается во
23
всем, о чем ведет речь. Также и бугурд, веселая верховая игра, которую юный Вилигис, с кавалерами и пажами, затевал в рыхлоземной долине у подножия замка и участники которой скачут карьером, отряд на отряд, пытаясь потеснить друг друга (в то время как дамы, расточая насмешки или влюбленные похвалы, сидят вкруг поля боя на деревянных балкончиках), — также и эта забава по сути глубоко мне чужда и, пожалуй, даже противна. Но все-таки я непринужденно повествую о том, как мчался, взметая пыль, во главе своего отряда принц Вилло, прекраснейший пятнадцатилетний отрок, — на гнедом коне, без доспехов, в одной только бармице из легких стальных колец, обрамлявшей его бледное и тонкое мальчишеское лицо, в камзоле и бандаже красного александрийского шелка, — и о том, как ему вежливо поддавались, нарочно позволяя пробиться через цепь противников, понеже он герцогский сын, а дамы поздравляли с его победой Сибиллу, его прелестную сестру, которая смеялась от радости и учащенно дышала.
Мнимость этой победы несколько утешает меня в моих столь же мнимо непринужденных разглагольствованиях о материи, весьма мне далекой. Однако обманчивые победы тоже опьяняют, и, опьяненный, гордый тем, что с ним так вежливо обошлись, Вилигис возвращался в замок и шел к своей сестре, которая тоже отлично знала, что здесь восторжествовал должный респект, и, несмотря на это, или как раз поэтому, была так же опьянена и горда, как ее брат. Если вам угодно знать, во что нарядили принцессу в честь такого дня, то на ней было прекрасное, просторное и длинное, зеленое, как трава, платье ассагаукского бархата, собранное в пышные складки, а спереди в широких сборках виднелась подкладка из красного и нижняя юбка из белого шелка. Круглый вырез на смугло-бледной шее, как и рукава на запястьях, был усеян жемчугами и алмазами, смыкавшимися ниже, на груди, в широкое ожерелье. Не менее густо испещряли драгоценные камни и ее кушак, а девичий венец на непокрытых ее волосах тоже был
24
усыпан рубинами и гранатами, красными и зелеными. Читая, как я расписываю герцогскую дочку, иная девчонка, наверно, позавидует и ее длинным ресницам, под сенью которых вспыхивали ее иссиня-черные глаза, позавидует, говорю это, по-иночески потупив очи, и тому, что под бархатом и самоцветами уже колыхалась ее расцветающая грудь. Не могу не упомянуть и о необычайнейшей красоте ее рук, — едва ли меньше братних, они были, однако, удивительно хрупки в кости, и на некоторых пальцах, сплошь заострявшихся к ногтю, сверкали кольца, одно на верхнем, другое на нижнем суставе. Стройная, она отличалась пленительной линией бедер, а пухловатая верхняя губа у нее, как и у Вилигиса, оттопыривалась к носику. И точь-в-точь, как у брата, трепетали ее тонкие ноздри.
— Ах, государь мой и братец, — говорила она, помогая ему снять кольчужный шлем и приглаживая его темные волосы, —ты был великолепен, когда им пришлось пропустить тебя сквозь весь свой отряд! Как стояли в стременах твои ноги во время приступа, мне любо было глядеть. Ни у кого здесь нет таких юно-красивых ног, как твои. Только мои, на свой особый, женский лад, столь же прекрасны. Больше всего меня волнуют твои колени, когда ты жамблируешь и берешь коня в шенкеля.
— Ты, Сибилла, — отвечал он ей, — великолепна сама по себе и без бугурда! При моей мужской стати нужно шевелиться и действовать, чтобы быть великолепну. При твоей, женской, достаточно жить и цвесть, ты и так великолепна. Таково самое общее различие полов, не вникая в подробности.
— Мы завидуем, — сказала она, — вашим отличиям, восхищаемся ими и объяты стыдливостью, потому что в бедрах мы шире, нежели в плечах, а стало быть, живот у нас слишком велик, да и derrière1 слишком объемист. Но я вправе сказать, что ноги мои все-таки высоки и стройны, тут уж не приходится желать лучшего.
25
— Да, — отвечал он, — ты вправе это сказать и не вправе забывать, что мы, в свою очередь, если не с завистью, то с приятным любованием взираем на ваши отличия. Впрочем, пожалуй, даже и с завистью, ибо где уж наш цвет? У нас нет ничего ни вот здесь, ни вон там, разве только немного силы, чтобы выкарабкаться из своей невыгоды.
— Не говори, что у тебя ничего нет! Но давай присядем под
сводом окна и немного поболтаем о сегодняшнем бугурде: как смешон был граф
Киневульф из Нидерлангау, прозванный за малый рост «коротышкой», на своей
огромной вороной кобыле и как жеребец господина Кламиде, fils du c
Они последовали ее совету и уселись на скамье под стрельчатым сводом, обнявши друг друга за плечи одетыми в шелк и бархат руками, и время от времени прижимались друг к другу своими красивыми головками. В ногах у близнецов, опустив голову на лапы, улеглась их англоландская собака по имени Ханегиф, славный пес с превосходным чутьем, белый, с чернинкой вокруг одного глаза, захватывавшей ухо. Он тоже делил с ними опочивальню и спал там всегда между их постелями на набитом конским волосом materas2. Из окна видны были крыши и башенки замка, а ниже — дорога в долине, окаймленная лугами и желтоцветным кустарником, по которой тихо тянулось стадо толсторунных овец. Сибилла вопрошала:
— Ты, наверно, поглядывал на Алису де Пуату, важничавшую в своем шутовском платье, наполовину из златотканого шелка, наполовину из ниневииского атласа, и в юбке из пестрых лоскутьев? Многие находили ее весьма миловидной.
— Я не глядел на ее напыщенную красоту. Я гляжу только на тебя, женская моя ипостась на
26
земле. Другие — чужая кровь, не
единородная, как ты, родившаяся со мной в один день. Я знаю, де Пуату
расфуфыривается только для мужчин, подобных великану Хугебольду, и для таких
развалин, как господин Рассалиг Лотарингский, для тех, кто выше и вдвое жирнее
меня, чуть более толстого, чем прут. Но с тех пор как губы мои опушились
темными волосками, у многих дам, когда они глядят на меня, влажнеют глаза. А я,
напротив, холоден к ним, que plus n’i
quiers veoir1 чем тебя.
Она говорила:
— Эскавалонский король прислал письмо нашему господину Гримальду и просит у него моей руки, поелику я созрела для брака, а он еще не женат. Я узнала это от моей maistresse2, от этой де Клев. Нет, ты не вставай на дыбы! Герцог мягко ему отказал, объяснив, что я хоть и созрела для брака, но еще слишком молода и не доросла до звания королевы даже такого неказистого королевства, как Аскалон, и посоветовал обратить внимание на других княжеских дочерей христианского мира. Впрочем, не ради тебя и не затем, чтобы мы еще пожили вместе, отверг наш отец и государь предложение этого короля. «Я, — написал он, — хочу еще некую толику времени сидеть за трапезой с обоими моими детьми, с дочерью по правую и с сыном по левую руку, а не с одним только мальчишкой да еще с попом насупротив». Вот какую причину имел его refus3.
— Неважно, — говорил он, играя ее рукой и рассматривая кольца на ее пальцах, — какая на то причина, лишь бы нас не разлучили в нашей сладостной юности до времени, о коем я знать не желаю, когда оно наступит. Ибо нас обоих никто не достоин, ни тебя, ни меня, и только мы с тобою достойны друг друга, потому что мы совершенно особые дети, рождения столь высокого, что весь мир должен быть с нами dévotement4 кроток. И оба мы отпрыски
27
смерти, и у каждого щербинка на лбу. Это, правда, лишь следы от ветряной оспы, каковая ничуть не лучше, чем почечуй, грыжа и свинка, но дело не в происхождении отметин, они tout de même1 знаменательны своею сугубой бледностью. Когда бог продлит век дорогого и любимого господина нашего и отца до предельного срока человеческой жизни, что да будет ему благоугодно, я стану герцогом над Артуа и Фландрией, благословенной землей, ибо по тучным нивам здесь волнами ходят колосья злаков, в то время как по холмам десятки тысяч и более щиплющих траву овец вынашивают руно для отменных сукон, а пониже, к морю, настолько обильно растет на полях лен, что крестьяне, как я слыхал, пляшут в трактирах с мужичьей радости, и к тому же. вся страна усеяна богатыми городами, что твоя рука кольцами: веселый Ипр, Гент, Лувен и битком набитый товарами Анвер и Брюж la vive2 у глубокого залива, где из Южного, Северного и Восточного моря непрестанно прибывают и вновь отбывают ломящиеся от сокровищ суда. Горожане разгуливают там в бархате и мехах, но они не учились ни вскакивать на коня без помощи рук, ни целиться пикой в четыре гвоздя на щите, ни сходиться в бугурде, и посему они нуждаются в герцоге, который бы их защищал, а этим герцогом буду я. Но тебя, лучшую из дев, единственную мне под стать, я хочу, когда они будут бросать в воздух шапки, провести рядом с собой через их толпу как сестру-герцогиню.
И он поцеловал ее.
— Мне приятнее, — сказала она, — когда меня целуешь ты, чем когда наш дорогой и достолюбезный государь царапает мне шею и щеку своей ржаво-красной щетиной. Хотя нам следовало бы от души радоваться, если он придет нас проведать, что может случиться с минуты на минуту.
И в самом деле, когда они так сидели и нежно болтали о всевозможных вещах, к ним часто заха-
28
живал герцог Гримальд, не затем чтобы к ним присоединиться, но чтобы резкими речами прогнать принца и понежничать с принцессой.
— Fils du duc Grimald1, — говаривал он, — я, никак, застаю тебя, хлыща этакого, у сего прекрасного дитяти, твоей сестры? Что ты заботишься о ней, похвально, и я тебя одобряю за то, что ты ретиво о ней печешься, помогаешь ей и развлекаешь ее, насколько хватает твоего щенячьего разумения. Но, клянусь, пока я жив, я — первый ее защитник, и у меня еще достанет сил постоять за нее, и если ты обольщаешься, думая, что такое прелестное дитя более привязано к брату, нежели к своему полному мощи и здоровья отцу, то на-кась выкуси. Allez avant, вон отсюда! Пойди постреляй по мишени со своим наставником Патафридом! Герцог желает поболтать со своей дочуркой.
А затем старый рыцарь присаживался к ней в нише и оказывал ей отменную corteisie, что я, монах, могу представить себе лишь с превеликим трудом.
— Beau corps2 у тебя, — говорил он, — и то, что франконцы зовут florie, блеск цветенья, — он лежит на тебе, ты с недавней поры чудеснейше им воссияла. Увы, время благоволит к юности, оно дает ей цвести пышнее день ото дня, зато нас, стариков, уродует все больше и больше: и оголяет чело, и посыпает усы сединой. Да, да, дряхлость должна стыдиться младости, ибо она отвратительна! Между тем, pourtant, почтенность возмещает красоту, и ты, любимейшая, не вправе забывать, что Гримальд твой отец, которому одному причитается твоя умильная и великая благодарность за то, что он дал тебе жизнь, и который столь рано лишился своей любезной супруги. Что же касается тебя, то нам нужно позаботиться, чтобы ты скоро стала невестой, ибо множество сладостных знаков говорит о твоей зрелости. Я помышляю только о твоем счастье. Но,
29
конечно, я не помирюсь с первым встречным, и мало того, что он должен нравиться тебе, нужно, чтобы и я согласился отдать тебя за него, хотя, по правде говоря, мне, старому рыцарю, никому не хочется тебя отдавать.
Примерно так говорил господин Гримальд, сидя с ней в нише, я воспроизвожу его речь настолько, насколько ее может представить себе монах. На следующий год, когда детям минуло шестнадцать, для отрока Вилигиса наступил праздник посвящения в рыцари — много ли я смыслю в таких вещах? — но на языке света это значит, что молодой дворянин получает право препоясаться рыцарским мечом. Герцог Гримальд сам посвятил сына в рыцари под крики «виват» и рев боевых рожков, после торжественной обедни у св. Вааста в Арраском замке, в присутствии многих вассалов и кровных, а затем, между двух своих детей, ведя сына правой, а девушку — левой рукой, на глазах ликующей quemune1 знатнейших, спустился с почетного помоста, и новопринятому шевальеру, привыкшему носить только короткий охотничий нож на бедре, приходилось, конечно, следить, чтобы преогромный меч, висевший у него на поясе спереди, не путался меж ногами. А обоим детям думалось, что было бы гораздо лучше, если бы они только вдвоем, рука об руку, ступали по этим мосткам, а отца не было бы между ними.
И поелику Вилигис прошел уже через обряд посвящения в рыцари, то одновременно и на Сибиллу все стали глядеть как на совершеннолетнюю девицу на выданье, и множились притязания на ее руку со стороны гордых князей христианского мира, у которых хватало духу обратиться с таким предложением. Одни писали послания, другие направляли в Бельрапейр благородных сватов, третьи приезжали свататься самолично: старый король Анжуйский привез своего сына Шафильора, придурковатого малого. Граф Шиольарс Ипотентский, гасконский герцог Обилот, Плигоплигери, принц Уэльский, а также государи из Эно и Гасбания, — все они прибывали и
30
красовались собольими оторочками и горностаями, изысканной свитой и учтивыми, кудрявыми речами, каковые они отчасти читали по писанному. Но господин Гримальд отказывал всем, ибо никому не желал отдать Сибиллу, и даже плохо скрывал свою гневную ненависть к соискателям, решительным «нет» возвращая их всех, сколь ни были они деликатны, домой, восвояси.
Юному же Вилигису привиделся о ту пору страшный сон, от которого он пробудился в поту. Ему приснилось, будто отец кружит над ним в воздухе с задранными назад ногами, с медно-багровым от ярости лицом и, встопорщив усы, безмолвно грозит ему обоими кулаками, словно вот-вот вцепится сыну в горло. То было несравненно страшнее, чем получается на словах, и от одной лишь боязни, что сон повторится, ему и вправду приснилось в следующую ночь в точности то же самое, разве только еще страшнее.
СКВЕРНЫЕ ДЕТИ
На семнадцать лет, не больше и не меньше, пережил господин Гримальд свою жену Бадугенну, а затем переселился к ней под могильную плиту в Ипрском соборе, но и на могильной плите, высеченные из камня, возлежали они благочестивыми супругами, скрестив на груди свои руки пред господом богом. После кончины жены своей сей государь все непомернее пил кларет и вот однажды действительно побагровел лицом, как привиделось Вилигису, но затем застыл: удар хватил его в висок, и он умер, — поначалу только с правой стороны, так что не мог уже шевельнуть ни одним правым членом и наполовину лишился речи. Только левым углом рта ему еще удавалось кое-как изъясняться. Но и врач из Лувена, и грек Клиас, которого он велел призвать к себе, — оба от него не утаили, что удар вполне может хватить его еще раз, и тогда он неизбежно умрет и слева.
Сказали же это они затем, чтобы он загодя распорядился державой, и, наставленный их откровенным
31
словом, он тотчас же созвал цвет государства, кровных родичей, вассалов своих и дружинников, дабы вверить их попечению свою душу и своих детей и привести их к присяге на верность наследникам, коль скоро уж смерти с ним по пути. И вот, когда они все, родичи и ленники купно с детьми, собрались у его одра, на коем он покоился куда как обезображенный, ибо одно его око было закрыто, а щека обмякла в параличе, он молвил им елико мог внятно:
— Seignurs barons1, воспримите мою речь так, словно бы я произнес ее неущербными губами, ибо, к сожалению, я способен лишь прошамкать ее уголком рта. Не взыщите. Смерть схватила меня и уже трубит надо мной в cornure de prise2, дабы освежевать в могиле благородного оленя. Тяжким ударом она сковала меня наполовину, но того и гляди свалит меня вконец; об этом без обиняков оповестили меня мои лекари, чем и явили свое врачебное искусство. Стало быть, мне суждено удалиться из этого садка червей, из этого гнусного волчатника, в которое ввергло нас преступление Адамово и который я тем более готов хулить, поелику должен покинуть его, надеясь ради мученических ран господних войти in portas паридиза, во врата рая, где обо мне денно и нощно станут пещись ангелы, тогда как вам придется еще чуточку помешкать в этом садке червей. Посему незачем обо мне убиваться! Лучше, seignurs barons, припомнить тот час, когда вы клялись быть моими вассалами и влагали свои простертые длани в мои. В том же поклянитесь и моему сыну, когда я совсем умру, и вложите в его длани свои, хотя, может быть, и смешно, чтобы он вас защищал, ибо скорее уж этот молокосос нуждается в вашей защите. Оказывайте ему таковую, сродники и сеньоры, не за страх, а за совесть, и блюдите верность моему дому, дабы он и впредь пребывал в мире и благоденствии!
32
Когда он наставил так своих подданных, он обратился к Вилигису и молвил:
— У тебя, сыне, меньше, чем у кого бы то ни было причин убиваться, ибо корону, скипетр и земли, доставшиеся мне по наследству, я ныне оставляю в наследство тебе, хотя и крайне неохотно, и ты вдосталь вкусишь почестей в этом волчатнике, который я покидаю. За тебя я спокоен, но тем неспокойнее мне за сие прекрасное дитя, сестру твою. Слишком поздно убеждаюсь я в том, что не позаботился об ее будущем, и осыпаю себя за это упреками. Vere, vere1 так не подобало вести себя отцу! И пред тобой, знаю, я тоже до некоторой степени провинился, вызвав своей привередливостью при выборе супруга для этого чудесного ребенка великое недовольство нашим домом у многих князей. Не могу искупить промаха своего иначе, чем наилучшим отцовским напутствием, которое, пред лицом баронов моих, даю тебе напоследок, пока еще могу говорить, хотя бы только левою половиною рта.
И он сказал ему все, что некогда говорил ему его собственный отец, что старо, как мир, и что, по его мнению, приличествовало сказать в такой час.
— Будь совестлив и честен, — говорил он, — не алчен, но и не излишне щедр, смирен в гордыне, приветлив к людям, но никак не в ущерб благородной чинности, со знатным тверд, с просящим подаяния кроток! Чти близких своих, однако и чужих старайся расположить и привлечь к себе. Предпочитай общество умудренных годами старцев обществу молодых глупцов! Более всего люби бога и следуй его закону. Таковы общие советы[4]. Но как душу свою поручаю тебе вот эту твою прекрасную сестру, чтобы ты был ей защитником и братом и не покидал ее дотоле, пока не найдешь ей, и притом поскорее, равного по рожденью супруга, что я, увы, затруднил своей греховнейшей привередливостью. Князья, которые уже добивались ее руки, они не вернутся, ни граф Шиольарс, ни князь Плигоплигери, ни остальные, ибо я был
33
с ними куда как необходителен. Однако на свете еще много христианских государств, главы коих покамест не домогались ее, и ее прекрасные глаза, черные с синим отливом, ее прелестные ноздри, цветущее тело и не в последнюю очередь богатое приданое, что я ей положил, привлекут еще, смею надеяться, не одного знатного жениха. Но и ты тоже поспеши вступить в брак и родить сына, которому сможешь оставить владычество над Артуа и Фландрией. Кое-кто из стоящих здесь сродников, вижу по их глазам, только и ждет, чтобы прекратилось прямое наследование. Говорю так потому, что умирающий волен молвить правдивое слово. При дворах, греховно мною обиженных, искать тебе нечего. Но ведь есть еще много других в Британии, в Пармении, Эквитании и Брабанте, да и в немецких землях. Однако вот уже левая щека моя заболела от долгих речей, и мне пора на покой. Да пребудет с вами милость господня! Прощайте!
После того как он это сказал, господин Гримальд прожил всего только несколько дней; затем удар хватил его вдругорядь, и он умер уже совсем: неподвижный и желтый, подобно восковым свечам, что горели по обе стороны его высокого одра, лежал он в герцогском уборе, к таковому, впрочем, совершенно безразличный, как и к земной жизни вообще, принадлежа вечности, в часовне замка, пока его не доставили к жене, где монахи всю ночь молились возле него за его душу. Да, я скорблю и сокрушаюсь об этой ночи, когда герцог Гримальд, едва умерший и телом еще не ушедший, хотя и усопший, больше не пребывал как отец между сестрою и братом. Ибо по злому наущению сатаны и к омерзительной его радости, каковую они обманчиво приняли за свою собственную, в ту же самую ночь брат спознался с сестрою как муж с женою, и спальня их, наверху, в донжоне, вокруг которого кружили совы, вместила столько нежности, скверны, ярости, крови и бесчестия, что от жалости, стыда и печали сердце мое разрывается и я почти не в силах вести рассказ.
34
Они оба лежали нагие под одеялами из мягкого собольего меха, в тусклом свете лампады и в благоухании амбры, обильно разбрызганной по их кроватям, каковые, по скромному обычаю, стояли поодаль одна от другой, а между ними, свернувшись калачиком, дремал Ханегиф, добрый их пес. Дети, однако, не могли уснуть и лежали с открытыми глазами или же изредка насильственно опускали веки. Как обстояло дело с барышней, не знаю, но Вилигис, взволнованный смертью отца и собственной долей, стонал и терзался под стрекалом сатаны, так что наконец не выдержал, выскользнул из постели, босиком обошел Ханегифа, тихонько приподнял одеяло Сибиллы и лег, богопротивный, к сестре, осыпая ее тысячами нечестивейших поцелуев.
Она говорила шутя, не на шутку задыхающимся голосом:
— Что я вижу, господин герцог, какую высокую честь оказали вы мне своим нечаянным посещением! Чему я обязана столь приятной возможностью ощущать телом ваше милое тело? Я была бы рада и счастлива, если бы только совы не кричали так жалобно возле башни.
— Они всегда кричат.
— Но не так жалобно. Наверно, это потому, что вы не даете покоя своим рукам и столь странно со мною боретесь. Что означает, брат мой, сия борьба? Вот уже твое сладостное плечо у меня на губах. Почему бы нет? Мне это приятно. Только не старайся разнять мои колени, которые всенепременно должны быть сомкнуты.
Внезапно пес Ханигиф сел на задние лапы и жалобно заскулил, задравши морду к балкам потолка, точь-в-точь как если бы выл на луну, — протяжно, раздирая душу и сердце.
— Замолчи, Ханегиф!— воскликнул Вилигис.— Он разбудит людей! Замолчи и ложись, чудовище! О бестия дьявольская, если ты не угомонишься, я заставлю тебя замолчать! Но Ханегиф, обычно такой послушный, продолжал выть.
35
Тогда юный герцог, опрометью вскочив с постели, в неистовом бешенстве схватился за свой охотничий нож, перерезал собаке горло, так что она с хрипом издохла, швырнул нож на труп, орошавший кровью песок на полу, и хмельной воротился к месту сугубого срама.
О горе, славный, добрый пес! По-моему, то было наихудшее из всего, что случилось в ту ночь, и я скорей уж простил бы другое, сколь оно ни богомерзко. Но, видно, тут сошлось одно к одному, и нельзя порицать что-то больше и что-то меньше, когда пред тобою единый клубок любви, убийства и похоти, такой черный клубок, что упаси всевышний и сжалься над ними. Я, во всяком случае, исполнен жалости.
Сибилла прошептала:
— Что ты сделал? Я не глядела, я закуталась с головой в одеяло. Стало так тихо вдруг, и ты немного влажен.
Он говорил, запыхавшись:
— Ничего, Анаклет, мой телохранитель и паж, верен мне и любит меня. Он поутру наведет порядок, похоронит собаку и заметет следы. С нас никто не вправе спрашивать. С того часа, как умер Гримальд, — никто, о сестра-герцогиня, мой милый двойник, моя возлюбленная!
— Опомнись, — лепетала она, — он только сегодня умер, он лежит внизу, окоченелый и обряженный. Оставь меня, ночь принадлежит смерти!
— Из смерти, — говорил он заплетающимся языком, — мы родились и есми ее дети. Во имя ее, о милая невеста моя, отдайся твоему брату во смерти и одари его тем, чего как желанной цели алчет Любовь.
Затем они бормотали слова, которые уже нельзя было понять, да и не следует понимать:
— Nen frais pas. J’en duit.
— Fai le! Manjue, ne sez que est. Pernum ço bien que
nus est prest!
— Est il tant bon?
36
— Tu le saveras.
Nel poez saver sin gusteras1.
— О Вилло, ну и громадина! Ouwê, mais tu me tues!2
О, стыдись! Совсем как жеребец, как козел, как петух! О, прочь! Прочь, прочь! О
ангелок мой! О небесный мой мальчик!
Бедные дети! Как хорошо, что я всегда стоял в стороне от
любви, от этого неверного сполоха над трясиной, от сладостной сатанинской
пытки. Так дошли они до конца, диаволу на утеху. Тот утер свою пасть и сказал:
«Ну вот, дело сделано. Можете преспокойно повторить его и продолжать в том же
духе». Так уж он всегда говорит.
Наутро молодой Анаклет, слепо преданный своему господину,
привел в порядок опочивальню и, никем не замеченный, убрал труп верного
Ханегифа. Но каким внешним был этот порядок и как непорядочно сложилась жизнь
заблудшей пары, брата и сестры, которым я сочувствую, хотя и не могу их
простить, и которых вожделение приковало друг другу, разумеется, еще крепче
прежнего. Безмерно любили они друг друга, и вот почему, да простит меня бог, я
не в силах вполне избавиться от сочувствия этим несчастным.
Принято говорить: «Кто в постель забрел, тот и право обрел»,
— но что было обретено здесь, кроме неправедности да неслыханной извращенности!
Давно повелось, что совокупление подчас предваряет обряд и свадьбу, но здесь
после соития помышлять об обряде и свадьбе было бы чистым безумием, и Сибилла,
потеряв девственность, по-прежнему не смела подбирать свои волосы по утрам и
надевать повязку замужних женщин. Простоволосая, она лживо носила девичий
венец, порванный ее собственным братом, когда шествовала рядом с ним перед
сонмом подданных при погребении господина Гримальда и на празднике вассальной
присяги. Множество роскошных
37
шатров с
трехцветными бархатными крышами (если скинуть кожаные чехлы, покрывавшие их в
ненастье) разбили тогда на лугу у Арраса, и тьмущую шестов, больше, чем деревьев
в Шпесском лесу, водрузили тогда на равнине, увешанных гербовыми щитами и
пышными знаменами. Немало старых рыцарей вложили тогда свои длани в тонкие руки
молодого грешного герцога Вилигиса и склонились перед девою-герцогиней, хотя
лучше было б ей схорониться в пепле и прахе. Но она держалась иного, странного
мнения, каковое и поведала своему блудному супругу, — будто та, которая
принадлежала лишь собственному брату, не становится женщиной в обычном смысле,
но все еще пребывает в девах и по праву носит венец.
При этом они продолжали жить в непотребном браке месяц за месяцем, и не было похоже, чтобы кто-либо из них помышлял о брачном союзе, как то наказывал им отец. Слишком пылко любили они друг друга и рука в руке, герцогскою четой, шествовали к трапезам, а пажи с прискоками двигались впереди. Однако последние, и даже сарацины, уже перемигивались, и так как печальная смерть Ханегифа тоже не осталась незамеченной, то по двору пошли толки и пересуды, каковые подчас прорывались в смелых речах. К примеру, господин Виттих, рыцарь с кривым плечом и злым языком, заявил за трапезой, что герцог Вилигис непременно стяжает себе славу поимкой единорога, когда тот задремлет у лона его невинной сестры. При этих словах не по-здешнему бледная молодая госпожа стала еще чуть бледнее, а ее брат позабыл вовремя спрятать кулак под столом: все видели, как судорожно сжалась его рука на камчатной скатерти и побелели костяшки пальцев.
ГОСПОДИН ЭЙЗЕНГРЕЙН
Когда же миновало несколько месяцев, герцог заметил великое смятение и оторопелость, а равно и маяту своей желанной, и привычка ее, сходная с его
58
собственной, глядеть искоса, словно прислушиваясь, стала неизменной и постоянной, так что по-другому она, казалось, уже и глядеть не могла, и тонкие губы ее бывали при этом испуганно отверсты.
— Что с тобой, радость моя, возлюбленная, единственная, что пугает тебя?
— Ничего, ступай.
Однажды он застал ее припавшей к столу: схоронив руками лицо, она горько рыдала.
— Сибилла, теперь наконец скажи мне все! Я не вынесу долее твоей тоски, я терзаюсь мыслями об ее причине, которой не вижу и на которую при всем желании я не в силах напасть. Умоляю тебя, откройся мне!
— Ах, дурачок! — отвечала она, вспыхивая и едва отрывая лицо от рук. — Ах, глупыш! Сладостный ночью, но глупый-преглупый днем! О чем ты спрашиваешь? Ведь только одно повергает меня в отчаяние и в адский ужас, а тебе и невдомек. О Вилло, как ты посмел утаить от меня, что и через собственного брата можно действительно сделаться женщиной и стать матерью? Я этого не знала, да и никак не считала возможным. Но вот это объявилось или, если еще не объявилось, то очень скоро обнаружится, даже при самых широких и сборчатых платьях, и мы оба, мы все трое, погибли.
— Как, неужели ты…?
— Ну конечно! Зачем спрашивать? Я уже давно такая и в муке ношу свою тайну и твой плод. Е! Deus, si forz péchiez m'appresset!1 Вилло, Вилло! Если ты знал, что девушка может обрести благословенное чрево без венчанья и мужа, только через брата, ты причинил мне великое зло, как и себе самому, как и нашему чаду, которому нет ведь иного места в обширном мире господнем, кроме как в моей любви. Ибо я уже люблю его в его отверженности и невинности больше всего на свете, хотя оно, бедное, и есть горькая наша кара. Но как не знала я, что можно обрести благословенное, вернее, проклятое
39
чрево чрез брата, так и не ведала я, что можно возлюбить кару свою. Отныне я только и буду делать, что молиться, чтобы бог смилостивился над нашим дитятком, хотя бы мы оба были обречены гореть в аду!
Дрожа и бледнея, юный святотатец упал перед ней на колени и смешал с ее слезами свои. Ища прощенья, целуя ей руки, он прижал ее мокрую щеку к своей, и так как голос его по младости лет еще ломался, то слезная речь его звучала куда как жалостно.
— Ах, горемычнейшая, любимейшая, любезнейшая,— плакал он, — как сокрушается сердце мое о тебе, о твоей печали и о моей великой вине! Прости, прости меня! Но коли ты меня и простишь, какая и кому от этого помощь? Если бы мы вовсе не родились, не родилось бы и это запретное и бесприютное в мире дитя, что лишает и нас приюта под солнцем и делает невозможным наше существование на свете! О тебе, возлюбленная, сокрушается мое сердце, хотя тебе, в отчаянии твоем, некоторым образом легче, чем мне. Ибо ты способна любить наказание наше материнской любовью, тогда как я не способен любить его, а способен лишь проклинать. Какое злосчастье! Двадцать лет и более суждено было Бадугенне в праведном браке с Гримальдом ждать нашего появления, мы же сразу и столь жестоко благословлены отпрыском! Неужто ж греху так не терпится плодоносить? Я не знал, что грех настолько плодовит, не знал, как и ты! А уж чтобы грех гордыни тотчас же понес плод и чтобы такова была природа греха, я, право же, никак не предполагал! Ведь в гордыне, о горемычнейшая и любимейшая, состоял наш грех, в том, что мы никого в целом свете знать не желали, кроме самих себя, столь избранных и особых детей. Но долю вины, да будет сие сказано с надлежащим почтением к нему, несет и господин Гримальд, покоящийся в могиле, не только потому, что он произвел нас на свет, но и потому, что он весьма по-рыцарски обходился с тобою, радость моя, и часто ревниво прогонял меня от тебя, а это и по-
40
гнало меня к тебе в постель. Ах, к чему все мои слова? С кем бы мы ни делили свою вину, мы оба обречены — здесь на позор, а там на адский огонь.
И он снова заплакал безмолвно.
Тогда она перестала плакать и сказала:
— Герцог Вилигис, мне неприятно видеть вас хнычущим. Умеете быть мужчиной ночью, да еще как, — будьте же им и днем! Женское хныканье не может помочь в нашем положении, которое столь ужасно, что тут, пожалуй, ничто уже не поможет, но и в таком положении надлежит что-то предпринять, хотя бы только во имя нашего невинно проклятого дитяти, этого плода гордыни, коему нужно сыскать место на земле и на небеси, коль скоро уж мы погибли и здесь и там. Посему ободрись и размысли!
Устыженный, он вытер глаза и щеки носовым платком и возразил:
— Я готов это сделать, и мне хочется быть мужчиной, днем тоже. Я плакал вместе с тобой и разглагольствовал при этом о распределении вины и несправедливом распределении плодовитости. Но вполне возможно плакать и размышлять одновременно, и, ведя свои речи, я про себя придумал выход, или понеже таковой вряд ли у нас имеется, то, скажем, вывод из нашего злосчастного и безвыходного положения. Он может быть только суров, но сделать его нужно, причем мы не можем сделать его сами, разве что выбросившись втроем из самой верхней бойницы нашего донжона прямехонько в ад.
Или, по-твоему, мы должны действовать самостоятельно?
— Ни в коем случае. Я же сказала тебе, что ребенку, которого я вынашиваю вот здесь, нужно сыскать место на земле и на небе, а не в аду.
— Стало быть, мы должны открыться и, хотя слова не хотят слетать с наших уст, так пагубно приникавших в постели друг к другу, пересилить молчанье и во всем признаться. Я подумал уже, не следует ли нам в храме, стеная и запинаясь, рассказать о случившемся нашему попу на ушко, дабы он дал нам наставление свыше. Сие, однако, лучше, пожалуй,
41
сделать потом, ибо сдается, что светское наставление насущнее здесь, чем поповское. И вот — известен мне в землях моих один мудрый, надежный муж, господин Эйзенгрейн, cons du chatel, мой гюрвенал и maistre de corteisie, у кого я учился ловитве, и легкой посадке при верховой езде, и всем правилам рыцарства. Да и вообще он давал мне немало добрых, праводушных наставлений, хотя я не очень-то его жаловал как раз потому, что он был так праводушен и тверд, и еще потому, что я знал, что наш отец, господин Гримальд, часто призывает его на совет. Но хотя великое его праводушие немного меня раздражало, доверие .мое к нему было всегда столь же непоколебимо, как он сам. У него серые, как лед, глаза, светящиеся из-под густых бровей добротой и умом, и короткая седая борода, и шагает он твердой поступью, а на камзоле его вышита львица, кормящая агнца, геральдический зверь с его герба, символ силы и христианского духа. Ему-то мы и поведаем свои печали. Пусть он укажет нам суровый вывод, который надобно сделать, исходя из нашего положения, пусть даст совет и рассудит, как быть нам, горемычным, на этом свете. Ежели я пошлю к нему, в его приморскую крепость, своего Анаклета с настоятельным призывом, он не замедлит явиться.
Невозможно вообразить, как утешило Сибиллу в тот миг предложение брата. Хоть оно покамест нимало не изменило и не улучшило их отчаянных обстоятельств, но деве, столь чудовищно благословенной, все-таки казалось, будто самый отъезд гонца уже означает выход из ее беды, и так же смотрел на это ее не в меру любимый брат, а посему оня с поднятой головой, рука в руке, шествовали к трапезам вослед за прискакивавшими пажами. Кстати, они не обманулись в вассальной верности господина Эйзенгрейна, ибо не прошло и двух недель, во время коих нечистый плод в лоне юницы произрос еще более, как рыцарь Эйзенгрейн, сопровождаемый Анаклетом, миновал бельрапейрский мост, снял во дворе доспехи с помощью слуг и поднялся в опочи-
42
вальню, где с надеждой и робостью ожидали его грешник и грешница.
Вид у него был в точности такой, как, напоминания ради, описал своей возлюбленной Вилигис, и на камзоле его красовалась львица, кормящая агнца. Дородный и осанистый, он переступил порог, поздоровался по-отцовски почтительно и спросил, каковы будут приказания герцога. Тот, однако, молвил тихим, прерывающимся голосом:
— Дражайший барон и гюрвенал, мне нечего вам приказывать, но я и вот эта прекрасная сестра моя — мы можем только просить, даже молить вас, молить о совете и мудром наставлении, молить, чтобы вы с присущей вам твердостью извлекли тот вывод из крайне затрудняющих нас обстоятельств, который не способна извлечь наша малодушная молодость. Ибо затруднение сие таково, что честь нашу можно считать погибшей, если только бог не просветит вашу верность добрым советом и не вразумит вас порешить о нас во спасение наше. Вот мы пред вами!
При этих словах оба, как условились ранее, упали перед ним на колени и со слезами простерли к нему руки.
— Любезные высокородные дети, — молвил рыцарь,— храни вас бог, что вы вздумали! Подобного рода приветствие смутило бы меня, даже будь я вам ровня. Прошу вас, объясните мне, в чем дело! Ты же, герцог, изъяви свою волю, которой я никогда не стану перечить! Коли она в том, чтобы открыть мне вашу заботу, — ну что ж, я твой слуга, и что в моих силах, то в твоих силах, в этом не сомневайся. Итак, говори!
— Но мы не встанем, — ответствовал юноша,— пока не откроемся, ибо стоя этого вовсе нельзя сказать.
И весьма по-рыцарски он стал говорить за обоих, так что Сибилла могла не раскрывать рта и только стоять рядом с ним на коленях с низко опущенной головой, — он рассказал все, что было и что, даже упав на колени, нелегко рассказать: запинаясь,
43
а подчас и совсем беззвучно, слетали слова с его сопротивлявшихся губ, и господину Эйзенгрейну приходилось не раз наклонять ухо, из которого рос большой седой клок, чтобы внимать речи юноши. Когда тот наконец умолк, старый воин держался как нельзя лучше. Не могу на него нахвалиться и хочу от души поблагодарить его здесь за его поведение« Хороший это был человек! Не стал он кричать «караул» и «разбой», не разразился проклятьями, не свалился без чувств, но молвил:
— Да, худо, ох, как худо! О любезные высокородные дети, как все это худо! Вы, стало быть, и впрямь совокупились друг с другом, так что в животе у сестры произрастает плод брата, и сделали вашего покойного отца вашим же тестем и свекром, а равно и дедом на самый постыдный лад. Ибо то, что ты вынашиваешь, принцесса, это его внук по слишком уж прямой линии. И хотя он всегда воздыхал о непрерывном наследовании, таковое прервано настолько, что о наследовании здесь вообще уже не может быть речи. Я вижу, вы плачете оттого, что боитесь грозящего вам позора. Но вполне ли вы разумеете, что учинили вы в мире, вот что мне хотелось бы знать« Учинен величайший беспорядок и застой в природе, так что ей не легче тут разобраться, чем вам самим. Все живое, по воле божьей, должно плодиться и размножаться, вы же заставили ее топтаться на месте и произвели третий брато-сестринский плод, или как там назвать эту застойную жизнь. Ибо, коль скоро отец есть брат матери, он есть дядя ребенка, а мать, коль скоро она отцова сестра, приходится ему теткой и безумно вынашивает в лоне своем племянничка или племянницу. Вот какой беспорядок и смуту внесли вы, неразумные, в мир божий!
Вилигис, который между тем встал и пособил подняться сестре, ответствовал:
— Гюрвенал, мы это понимаем. Мы и сами, но еще лучше с помощью ваших слов, понимаем всю пагубность происшедшего. Но во имя Христа, господине, посоветуй, как нам быть, ибо в этом мы не-
44
сказанно нуждаемся. Скоро сестре придет время разрешиться ребенком, а где ей родить, чтобы не обнаружилось, что мы сделали сей шаг на месте? Что до меня, то я, не желая упреждать вашего решения, размышляю, не следует ли мне покамест, скрытности ради, удалиться от нее за пределы страны.
— За пределы страны? — спросил господин Эйзенгрейн. — Это, господин герцог, сказано очень уж мягко, ибо в окрестных христианских державах нет для вас места при таких обстоятельствах. Но дайте-ка мне подумать!
И он задумался с весьма сосредоточенным видом.
— Да, я знаю, что посоветовать, — молвил он наконец.— Но совет свой я выскажу только при том условии, что вы заранее обещаете последовать ему без всяких уверток и проволочек.
Они сказали:
— Мы обещаем.
— Вы, герцог, — заговорил тогда рыцарь,— должны призвать ко двору всех, кто вершит делами в вашей стране, молодых и старых, кровную родню, вассалов и дружинников, всех советчиков вашего родителя — словом, весь цвет державы и объявить нам, что вы во славу божью и ввиду грехов ваших (я говорю «грехов», а не «греха») решили взять на себя крест и совершить паломничество ко гробу господню. Затем просительно потребуйте от нас, чтобы мы все принесли вассальную присягу вашей сестре, дабы она управляла страною в ваше отсутствие, хотя бы вы и навсегда нас покинули. Ибо походы и невзгоды состоят в близком родстве, и вполне возможно, что вы не вернетесь и в походе загубите свое тело, согрешившее против господа бога, чтобы тем скорее была помилована ваша душа. В этом случае, который я наполовину приветствовал бы, наполовину оплакивал (на поверку — чуточку больше оплакивал бы), присяга на верность оказалась бы особенно необходима, чтобы повелительницей нашей стала сия женщина. Пред лицом всех баронов вам надлежит поручить
45
ее моей верности и опеке, что должно снискать их одобрение, ибо среди них, по воле всевышнего, я самый уважаемый и богатый, поелику владею всеми полями льна окрест Рулера и Тору. Деву же я возьму к себе и к жене своей в наш замок и — это я обещаю— предоставлю ей все удобства родить своего племянничка или племянницу в полнейшей тайне. Заметьте, я не советую, отнюдь не советую, чтобы она из-за содеянного ею греха отрешилась от мира, отреклась от земных благ и укрылась в монастыре. Искупить свой грех и позор у нее будет куда больше удобств, если ее доброта и ее добро не разлучатся и она сможет одарять бедных и тем и другим. Лишись она добра, у нее осталось бы одно добротолюбие, а много ли толку в добротолюбии без добра? Почти так же мало, как и в добре без добротолюбия. Нет, я за то, чтобы она сохранила и добро и добротолюбие, ибо с помощью добра своего она сможет явить и добротолюбие. — Угоден ли вам совет мой?
— Он угоден нам, — отвечал юноша. — С присущей вам твердостью вы сделали сколь должно суровые и сколь возможно мягкие выводы из нашего положения. Вечная вам благодарность!
— Но что, — вопрошала Сибилла, — станется с милою карой моей, с ребенком моего брата, когда я рожу его под вашей защитой?
— Сие более поздний вопрос, — ответствовал господин Эйзенгрейн, — сначала достигнем моста, а потом уже через него переправимся. Я и так дал вам с ходу кучу советов. Вы не вправе требовать, чтобы я решил все задачи сразу.
— Мы, конечно, не станем этого делать, — заверили его дети. — Вы и так уже, добрый наш господин, решили многое! Да, вы поистине подобны львице» к сосцам которой припали мы, агнцы.
— Да, по мне вы доподлинные агнцы, — молвил он не без горечи. — Но так и быть! За дело! Ты, герцог, разошли гонцов! Как можно скорее нужно объявить вашу волю и просьбу баронам. Вам, — нет, всем нам троим или четверым, — нельзя терять времени!
46
Сколь часто, повествуя об этих скверных детях, вспоминал я других брата и сестру: учителя нашего, divum Benedictum, сына Евпроба, и его милую Схоластику; благолепно и свято жили они вместе в долине вблизи Сублаквия, покамест сатана не прогнал их оттуда низкой уловкой. Ибо он привел семь отменно красивых гетер к ним в монастырь, отчего многие из его учеников (не все, но, повторяю, многие) поддались плотскому вожделению. Брат и сестра, разумеется, бежали и, сопровождаемые тремя вранами, пустились в суровое странствие, они обращали в истинную веру всех язычников, что им еще встречались, ниспровергали алтари идолов, и под одобрительные возгласы Схоластики святой ее брат разрушил последний храм лирника Аполлона. Вот она, христианская братская любовь: неразлучны и ангелоподобны! Я же рассказал о любви столь греховной! Не лучше ли было мне с благочестивой обстоятельностью изложить историю Бенедикта и Схоластики? Нет, по доброй воле избрал я настоящую повесть, ибо та свидетельствует только о святости, эта же — о беспредельной и неисповедимой милости господней. Повинюсь, — я питаю известную слабость — не к греху (избави господи!), но к несчастным сим грешникам, более того, я смею полагать, что и учитель наш, хотя он, естественно, бежал из долины Сублаквия по ее осквернении, тоже не отказал бы им в некотором сострадании. Ибо ему довелось отправиться в суровое странствие вместе с милой сестрицей, тогда как моему грешнику выпал жребий (признаю его неизбежным) разлучиться со своею сестрою, — а ведь они сызмальства были нежно привязаны друг к другу, и пагубная страсть только тесней их сплотила, что вообще-то не должно увеличивать моего сострадания к ним, но все-таки его увеличивает, — и вдвоем со своим Анаклетом начать поход в священную неопределенность, настолько чреватую невзгодами, ч что его возвращение было хоть и священным, но довольно-таки неясным делом.
47
Бледные, как смерть, они дрожали всем телом, когда расставались друг с другом. «Прощай, счастливого пути!» —сказали они друг другу, так и не осмелившись еще раз поцеловаться. Не впади они прежде в грех, они могли бы слиться в поцелуе, но ведь тогда Вилигису и вовсе не надо было бы уезжать. Он сказал:
— Ребенка нашего, братца или сестру, я куда как хотел бы еще увидеть воочию. Мне все представляется очаровательное дитя.
— Бог весть,— отвечала она ему, — что порешит об этом наш ангел, господин Эйзенгрейн, когда мы дойдем до моста. — Но вот что, Вилло, я тебе обещаю: я не буду принадлежать ни одному мужчине, кроме тебя. Наверно, я и не смею принадлежать, но прежде всего не хочу.
До этого, разумеется, состоялась встреча местных баронов, и герцог произнес предписанную ему речь. Как он ни молод, сказал он, у него накопилось уже столько грехов, что душе его крайне необходимо паломничество ко гробу господню, и на время его отсутствия, долгого ли, короткого ли, вассалы должны принести присягу его сестре как своей повелительнице. Сестру же он поручает гюрвеналу, господину Эйзенгрейну, поручает ее верности этого самолучшего, чтобы он был ей опорой и она правила страной из его приморской крепости.
Однако с вассальной присягой дело обстояло не так-то просто, ибо немало толков и пересудов ходило насчет девицы и ее брата, и многим баронам вовсе не улыбалось выполнить просьбу герцога и признать принцессу своей повелительницей. Но господин Эйзенгрейн пустил слух, что каждого, кто воспротивится воле герцога, он вызовет сразиться в тйосте на длинных пиках и коротких мечах и никому не даст пощады. А так как тело у него было железное и еще никто не вышибал его из седла, то они поразмыслили и присягнули все как один. И он повез свою подопечную через страну к морю, в свою крепость, сопутствуемый всадниками спереди и сзади, и Сибилла, бледная, овдовевшая и осиротевшая, покачивалась
48
между лошадьми в мягком паланкине, а господин Эйзенгрейн, при оружии, ехал рядом с нею верхом, грозно озираясь и смело упершись рыцарским кулаком в бедро. Нельзя не возблагодарить господа за то, что он послал ей такого сильного и умного покровителя, какие бы еще страдания ей ни предстояли и как ни была она несчастна уже теперь. Бедняжка! Я чернец, я ни к чему не прилепился сердцем на этой земле, я, так сказать, закален против счастья и против страданья и, опоясанный цингулом, неуязвим для судьбы. Потому-то дух повествования и выбрал меня своим сосудом, чтобы я помог горю бедняжки и возвеличил ее бледное страданье своею повестью, хотя бы само по себе оно отнюдь не было достойно возвеличиванья. Тяжко далось влюбленным прощанье. Им, с их серповидными отметинами на лбу, с ребенком брата в лоне сестры, не пристало бы разлучаться. Дева была бледна отчасти из-за беременности, отчасти же и главным образом—оттого, что у нее вырвали сердце, ибо сердце ее пребывало с паломником. А его сердце, в свою очередь, пребывало с нею, хотя было крайне необходимо ему самому, чтобы вместе с Анаклетом пробиться через просторы земные, полные разбойников, диких чудовищ, зыбких болот, недобрых лесов, сыпучих камней, стремительных вод, и достичь массилийской гавани, откуда они собирались, наняв корабль, отплыть в Святую землю. И юноше и девице — обоим было горше, чем когда-либо может быть мне, препоясанному. Но девице моей, признаю, приходилось все-таки чуточку легче, ибо она готовилась родить, и посему она известным образом глядела в лицо жизни, а он — только лишь в лицо смерти.
В замке же господина Эйзенгрейна, в низине, близ рокочущего моря, Сибиллу приняли так хорошо, так ласково, так приветливо, с такой деликатностью, с таким, позволю себе сказать, сведущим участием к ее обстоятельствам, что лучшего и пожелать невозможно. Ведь господин Эйзенгрейн отлично знал, к кому он везет прекрасную грешницу — к своей жене, даме Эйзенгрейн, матроне, которая по-своему заслу-
49
живает такого же восхваления с моей стороны, как и ее супруг. Ибо таилось в ней нечто совершенно особенное и притом образцовое: если он являл собой образец недюжинно твердого и сильного мужчины, то она была женственна паки и паки, нравом и помыслами, и деятельно, всею душою, радела о женской доле, — пожалуй, кроме бога (она отличалась благочестием и носила на своей высокой, как гора, груди большой крест черного янтаря), ее занимало только то, что касается женского бытия, женского ложа, в благочестивейшем смысле, особенно, надо разуметь, тяготы беременности и священно-многострадальная женская плодовитость, прекращение месячных, тяжелое чрево, и тошнота, и странные прихоти, и шевеленье в утробе, и схватки, и роды, и торжественный стон, и рожденье, и послед, и блаженный вздох, и горячие пеленки, и омовенье покрытого слизью младенца, которого она крепко шлепала прутиком и держала за ножки, вниз головкою, если он не хотел сразу же кричать и жить.
Вот чем, как сказано, была одержима дама Эйзенгрейн, однако в стенах замка, среди челяди, ей не хватало событий подобного рода, и владетельная госпожа наведывалась даже к крестьянкам окрестных, сеявших лен деревень, чтобы искусно помочь им в родильный час. Она сама шесть раз рачительно стансу вилась матерью. Четверо ее детей умерли еще во младенчестве, о чем (и это меня удивляет) она скорбела гораздо меньше, чем радовалась, производя их на свет. Произвести на свет — это, сдается мне, и было для нее самое главное. Один из ее возмужавших сыновей погиб в поединке, другой, женатый, жил в собственном замке. И, не способная более зачать, она коротала свой век вдвоем с господином Эйзенгрейном, горестно вспоминая те времена, когда в почетной женской страде могла благоговейно водить по округлой утробе белой рукой. Высока была ее грудь, но живот уже не вздымался, и тем ближе к сердцу принимала доброчестная женщина чужую плодовитость, весть о которой всегда наполняла ее водянисто-голубые глаза (она родилась в Швабии) теплым светеньем
50
и зажигала розоватый румянец на ее славных покрытых пушком щеках. Давно уже такие утехи стали для нее редкостью, а несколько месяцев и вовсе не приключались, так что прибытие Сибиллы и тайна, поведанная ей супругом, немало ее всполошили. Как помирилось ее любочестие с неподобающим и нелепейшим состоянием гостьи, того не ведаю. Вероятно, всякое материнство, каким бы безумным путем оно ни осуществилось, представлялось ей священным и благодатным деянием Всеблагого, взывающим к ее неистовой приверженности ко всему женскому, к ее почти жадной готовности пособить будущей матери.
Как родная мать, разве лишь усерднее и горячее, воспеклась о скорбной герцогине госпожа Эйзенгрейн. Она тотчас укрыла ее от своей дворни в отдаленной опочивальне, где Сибилла, не зная ни в чем недостатка, стала достолюбезной пленницей хозяйки замка, которая одна ее только и навещала, кормила и холила, выслушивала и ощупывала, и пыталась утешить бледную, уже на сносях, принцессу, когда та плакала о странствующем, о погибшем, о единственном, кого она любила.
— Ах, матушка Эйзенгрейн, где мой желанный, мой единственный, брат мой? Как справиться с мыслью, что мы разлучены в этом мире? Нет, я не свыкнусь! Не удваиваю ли я грех свой, не усугубляю ли я проклятья тем, что плачу о нем? Ах, я ношу ведь под сердцем семя плоти его и жизни, принятое мною в его объятьях! Совы кричали, Ханегиф лежал в крови, и в постели тоже пролилась кровь. Зато как сладостна была его близость, когда я ощущала губами его прекрасное плечо и он сделал меня пусть не женою, но женщиной!
— Оставь, — говорила тогда дадла-прислужница,— пускай себе едет! Как только они сделали нас женщиной и внесли свою лепту, пускай убираются на все четыре стороны, тут от них уже нет проку, все прочее— женская забота. Порадуемся, что теперь мы одни, мы, женщины! У нас будут чудесные роды, и уже не за горами тот час, когда я посажу тебя в горячую ванну — это послабляет и ускоряет, Едва
51
почувствуешь боль, хотя бы поначалу совсем глухую, я уже не отойду от тебя ни на шаг и, если придется, буду сидя дремать возле твоей кровати, пока не начнутся настоящие схватки. Увидишь, это премилое дело, куда милее, чем всякие там объятья.
Сибилле, однако, привиделся дурной сон, каковой она и рассказала хозяйке замка. Впросонье ей примерещилось, будто она родила дракона, который жестоко вспорол ей чрево. Затем он улетел, что вызвало у нее великую сердечную боль, но вернулся и вторгся во вспоротое чрево, чем причинил еще пущую боль.
— Это значит, дитя, что ты боишься, и ничего больше. Какой там дракон! Мы чудесно родим самого настоящего человечка, и по мне пускай это будет девчушка. Не робей! Я-то уж сумею принять ее и повить, а не захочет сразу пищать — отшлепаю.
ПОДМЕТ
В сем, однако, вовсе не случилось нужды, ибо дитя, что в муках своих произвела на свет божий девица-роженица, запищало сразу же, как того и желали, и было мальчиком, на диво благообразным и складным, с длинными ресницами, каштановыми волосиками на продолговатой головке и приятнейшими чертами лица, похожим на мать, а стало быть, и на дядю, таким хорошеньким, что дама Эйзенгрейн признала: «Что верно, то верно, я хотела девчоночку, но и этот совсем не дурен».
Шесть месяцев ее дорогая пленница просидела в опочивальне, что гусыня на откорме, затем пришло ей время родить, и она родила при споспешестве одной лишь хозяйки замка, ибо все надлежало свершить без свидетелей, и повитуха никого не подпускала к родильнице. То была жаркая работа, ибо, хотя на дворе стояло лето, госпожа Эйзенгрейн вздула в камине яркий огонь (что считала полезным), и у обеих, пока они трудились под балдахином постели, распарились и пылали румянцем потные лица. Но все шло как по маслу, до того естественно и ладно, словно
52
дитя было сотворено не в кровосмесительном грехе, а, как положено, с чужим мужчиной. Женщины и впрямь совсем позабыли про грех и что на земле нет места сему пригожему и восхитительному младенцу. Это у них вовсе выскочило из головы у обеих, когда ребенка омыли и спеленали; только и было заботы, что поскорей показать его господину Эйзенгрейну, чтобы тот разделил их радость. И вот он пришел по зову хозяйки, осмотрел новорожденного и молвил:
— Да, дитя сие миловидно и царственно, это я должен признать, поскольку дозволено такое признание при столь греховном рождении. Словом, его жаль, и я этого не отрицаю, у меня тоже есть глаза и сердце. Я только спрашиваю: что нам теперь с ним делать?
— Делать? — воскликнула молодая мать в ужасе.
— Уж не хочешь ли ты его умертвить, ирод? — спросила госпожа Эйзенгрейн.
— Я? Умертвить? — отвечал он. — Уж не хочешь ли ты толкнуть меня на убийство этого прекрасного младенца, женщина? Мертвым, — продолжал рыцарь,— он явился на свет, хотя и живет, вот что несообразно, нет у него места в мире, хоть он и налицо. Вот бессмыслица, которую вы заставляете меня разрешить, и еще возводите на меня напраслину. Прикажете, чтобы мальчишка рос здесь, взаперти? Ибо вне этих стен его не должен видеть ни один глаз. Не для того я заставил баронов присягнуть на верность этой деве, чтобы теперь предать огласке ее грех и позор и вместе с ее честью погубить свою. Но у вас, у бабья, куриный ум, вы смыслите только в плотских делах да в пригожих младенцах, вам невдомек, что такое честь и политика.
Тут обе женщины стали плакать: Сибилла — уткнувшись в свои бледные ладони под балдахином, а госпожа Эйзенгрейн, которая держала ребенка,— окропляя его своими слезами.
— Я поразмыслю, — говорил он, — и пораскину умом; как поступить наилучшим образом. Только я запрещаю вам возводить на меня напраслину.
Затем он пальцем пощекотал подбородок младенцу.
53
— Ах ты, красавчик, ах ты, крошка, ах ты, бедный мой грешничек, нечего унывать, что-нибудь да придумаем для тебя!
Жене же своей он молвил назавтра в зале:
— Лучше всего, Эйзенгрейниха, как можно меньше вмешиваться в судьбу этого прекрасного ребенка и отдать его всецело в руки божии. Господь уже знает, как Ему[5] поступить с бездомным, и, останется ли дитя жить или нет, мы смиренно предоставим определить всевышнему[6]. Мы, я полагаю, сделаем только то, что нужно, чтобы всецело доверить мальчика божьему попечению — не больше, но и не меньше. Посему я решил пустить его в море, но предосторожностью, с которой сие учиню, показать богу, что мы, коли дело за нами, были бы рады, если бы он спас ребеночка. Я хочу положить младенца в бочонок, какой у меня уже есть на примете, весьма крепкий и ладный, бочонок же поместить в челнок, последний же пустим на волю волн. Поглотят его волны — ну что ж, тем хуже, значит, такова воля господня, не наша, ибо мы-то выказали величайшее тщание. Если же рука всевышнего даст пристать бочонку к земле, где живут люди, то пусть будет дитя взращено как найденыш и пусть оно радуется жизни сообразно с обычаями той земли и своим званием. Как ты полагаешь?
— Я полагаю, что бог наделил вас, господине, суровым добросердечием, — молвила женщина и, сидя на кровати Сибиллы, пересказала ей все, что поведал ей муж. Та держала ребенка у своей материнской груди и громко возопила, так что малыш испугался, выпустил грудь и тоже сморщился в горьком плаче.
— О, горе, горе!
Сладкая моя кара, которую я столь сильно люблю, с тех пор как она впервые шевельнулась
во мне! Единственное, что мне осталось от моего желанного, дар его плоти,
выношенный мною в страданьях и в великом жару рожденный мною на свет! О рыцарь
Эйзенгрейн, о чудовище, такова твоя вассальная верность! O, tu es mult de pute foi!1 Неужто затем ты называл его
«крошкой» и обещал ему
54
помощь, чтобы теперь выбросить его в
бочке в дикое море и чтобы очи мои, погибнет ли он, или выживет найденышем, все
равно никогда его не увидели? Нет, нет, не снести мне этого! Пусть лучше сунет
в бочку и меня, меня тоже в придачу, чтобы обоих нас поглотили дикие хляби,
меня и мое дитя, мой милый залог! Ах, матушка-восприемница, госпожа Эйзенгрейн,
ты пособила мне в час родин, пособи же и днесь, ибо я в отчаянии!
— Однако, женщина, пора и образумиться,— воскликнула, желая
успокоить ее, старуха. — Какая же это бочка вместит вас обоих, чтобы поплыть по
хляби морской? Та, что у него на примете, крепкая да ладная, для обоих куда как
мала. Опричь всего, тебе надлежит властительно пещись о стране заместо брата,
как договорено, и что станется с ним, вернись он и узнай, что и ты отбыла с
дитятей? Погляди на меня, четверо детей, которых я родила, вскорости умерли, а
один погиб в бою, и что же, разве я лишилась из-за этого разума? У нас была
славная беременность и чудесные роды, а что дитяти не найдется на земле пристанища,
это мы, увы, и наперед знали. Разве что с моря оно сыщет себе местечко, тут Эйзенгрейн
кругом прав. Но как нам приступить к делу, это он наметил только вчерне.
Тонкости нужно домыслить нам, женщинам. Он бы просто-напросто сунул крошку в
бочонок, и вся недолга, но так не выйдет, нет! Мы подстелем ему самолучшие
шелка на одежу, первейшего сорта, и щедро укроем его такими же. Что мы еще
прибавим? Казну денег червонного золота, не меньше, чем пристало князю, чтобы
дитя наилучше воспитали на эти средства, если бог милостиво даст ему прибиться
к земле. Что скажешь теперь? Уж не сдобрила ли чуточку госпожа Эйзенгрейн совет
господина Эйзенгрейна? Но коли ты думаешь, что тут моему совету конец, ты
ошибаешься. Ибо еще мы положим в бочонок вот что. Мы положим в бочонок дощечку,
исписанную на манер грамотки, а на ней деликатно, не упоминая ни людей, ни
страны, опишем обстоятельства его рожденья. Он, мы напишем, высокого рода,
только, увы, сложилось так, что
55
он оказался братом своих родителей и
тетка приходится ему матерью, а дядя соответственно отцом. Потому-то, и чтобы
сие сокрыть, его пустили в море и Христа ради просят нашедшего (ибо надо
уповать, что это будет христианин) сподобить мальчика святого крещения и не
жалеть золота на его воспитание. Пусть приумножит он по-христиански его
богатство и поставит ребенка на ноги. И пусть сбережет ему дощечку и допреж
всего научит ребенка азбуке, чтобы тот, возмужав, прочитал по дощечке эту историю.
Так он узнает, что родом он хоть и высок, но очень и очень грешен, и не
возгордится, а устремит свои помыслы к богу и праведной жизнью искупит
родительский грех, и вы все трое попадете на небо. Теперь отвечай, дала или нет
матушка Эйзенгрейн дельный совет!
Родильница только прижала ребенка к себе и всхлипнула, но не
промолвила больше ни слова, чем и выразила горестное согласие. Да и не могла
она вовсе не радоваться дорогим шелкам, которыми хозяйка замка собиралась
устлать дно этой бочки и укрыть ее ребенка, а равно и казне, которую та ей выделила,
— двадцати маркам золотом: старица запекла деньги в два
хлеба, чтобы положить их младенцу в ноги. Всего же лучше была дощечка, ею
подаренная,— да пошлет мне бог такую прекрасную писчую дощечку! Я одержим
страстью к письму и к хорошим письменным принадлежностям, но я бедный монах, и
такой дощечки, тончайшей слоновой кости, да в золотой оправе, да еще украшенной
адамантами, мне никогда не иметь. О подобных вещах я могу только рассказывать,
вознаграждая себя за свою бедность похвалами и славословием. На этом-то благородном
грунте, соком чернильных орешков, мать описала обстоятельства сына в точности
так, как учила ее хозяйка, и еще начертала в слезах: «Ты, которого я не могу
назвать по имени, не поминай, коли будешь жив, своих родителей лихом. Очень уж
они любили друг друга, а друг в друге себя, отсюда их грех и твое рожденье.
Прости их и загладь их вину перед богом, возлюбя всей душою чужую кровь и по-ры-
56
царски защищая ее в беде…» Она
хотела еще что-то приписать с краю и заполнить малейший уголок, но дама
Эйзенгрейн отняла у нее дощечку.
Настал час, когда она отняла у нее и дитя, — кротко и утешительно. Ему было только семнадцать дней, когда хозяин замка почел за лучшее не оказывать ему долее приюта, но со всею тщательностью передать его в руки божии. Оно еще раз досыта напилось материнского молока, так что даже раздулось и покраснело от сытости. Затем хозяйка его забрала, и под ее руками, а также под руками ее господина прочный бочонок тайно превратился в его обиталище — новое материнское лоно, из темноты которого, коли будет на то воля божья, ему предстояло родиться заново, с приданым в виде шелков, хлебов, начиненных золотом, и уведомительной грамоты. Все делалось в спехе и тайне, и когда засмолили крышку бочонка, из крепости, сквозь ночь в туман, покатила к морю странная колесница: господин Эйзенгрейн, закутавшись наподобие кучера, сам гнал лошадку по дюнам, по траве и песку, а за спиной у него, охраняемый молчаливым холопом, покоился выпуклый гробик с расписными обручами, отверстием и железными кольцами по бокам: эти были необходимы, ибо внутри челна, ожидавшего путников на пустынном берегу, имелись такие же ушки, к которым накрепко привязали бочонок канатами, в безмолвном труде, под бегущими тучами, то скрывавшими, то обнажавшими месяц. Затем господин и холоп столкнули корабль со слабеньким корабельщиком на воду, а Христос послал добрый ветер и благоприятное теченье. Тихо качаясь, удалялся челнок, уплывало дитя, ведо́мое богом.
А с крепостной вышки, куда она, преждевременно поднявшись после родин, кое-как добралась с помощью хозяйки замка, Сибилла при неверном свете луны вглядывалась в нырявшую по дюнам повозку. Ей казалось даже, что она видит, как вдали, на взморье, хлопочут над бочонком мужчины, как отплывает ладья. Но когда и она уже оказалась не в силах уверить себя, что что-то видит, она спрятала
57
лик свой на груди престарелой наперсницы и возроптала:
— Вот он и улетел, мой дракон, ах, горе мне, горе!
— Пускай себе летит! — утешала ее госпожа Эйзенгрейн. — Всегда-то они улетают и мы, страдалицы, остаемся ни с чем. Пойдем, я сведу тебя с башни к священной родильной постели, ибо там твое место!
ПЯТЬ МЕЧЕЙ
Дух повествования, что я воплощаю, — это лукавый и умный дух, досконально знающий свое дело, а потому не тотчас же потрафляющий всякому любопытству: нет, будя его многократно, он частично его утолит, частично же, так сказать, заморозит, чтобы оно сохранялось и как бы даже обострилось. Если кто хочет незамедлительно выяснить, что сталось с ладьею, доверенной дикой стихии господней, то его сейчас отвлекут и усердно займут другой историей, которую знать ему столь же необходимо, хотя бы она его и опечалила. Но пусть то, что она так печальна, позволит ему надеяться, что в море события примут более счастливый оборот, ибо не настолько уж безрассуден дух повествования, чтобы сообщать одни лишь печальные вести[7].
На очереди весть о грешнице-матери, о том, как худо ей все еще приходилось. Поистине, на долю этой женщины выпало столько страданий, что не знаю, в силах ли уста мои достойно передать их словами. Я отлично чувствую, что мне не хватает опыта. Мне не суждено было изведать ни настоящего счастья, ни настоящего горя. Я живу как-то межеумочно, огражденный своим одиночеством и от того, и от другого. Потому, должно быть, я и прибегаю к аллегории, чтобы описать страданья моей героини, и говорю, что пять, никак не меньше, мечей пронзили ей сердце. Сейчас объясню свою метафору и назову эти пять мечей поименно.
Первым была снедавшая ее духовная скорбь о грехе, который она учинила совместно с братом,
58
хотя ее плоть и кровь блаженно вспоминали содеянное и лелеяли надежду на возвращение супруга. Вторым была ее послеродовая немощь и хворость, ибо, несмотря на заботливый уход повитухи, роды оказались весьма долгими и тяжелыми. Прилив молока вызвал у нее жар, и через шесть недель, по истечении коих, как слыхал я, роженице положено встать с постели и в первый раз посетить церковь, Сибилла была еще так слаба, что едва держалась на ногах. Только ли молочная лихорадка тому виною? Ах, нет, ибо теперь я назову третий меч: это — опасения, грусть и тоска о маленьком корабельщике, гонимом дикими ветрами, отданном целиком в руки божии, который уже не отсасывал у нее молока и о коем она не знала, спасся ли он или проглочен пучиной. Как терзал ее этот меч! Но четвертый, обоюдоострый, был всажен ей в сердце такою жестокой рукой, что диву даешься, как она могла это пережить и еще продолжать дни свои — себе не на благо, или разве в самом конечном счете на благо, о чем сообщу в надлежащее время. Дважды, правда, падала она замертво от этого меча: один раз — когда приняла его в сердце, и опять — когда, очнувшись, убедилась, что он все еще там. Затем, однако, она жила с ним и носила его в себе. Как? Спросите об этом нежную и завидно стойкую женскую природу, я этого не могу вам сказать.
Ровно за три дня до того дня, когда недужной надлежало пойти в церковь, в замок явился паж Анаклет, со щитом наи́зворот — в знак дурного известия. Какое это могло быть известие? Анаклета поняли бы и без слов, и без перевернутого щита. Достаточно было того, что он вернулся один. Его возлюбленный повелитель погиб.
Ах, я неутешно скорблю об этой утрате! Тут рассказ мой доставляет мне настоящее горе, которое, как и настоящее счастье, не отпущено моему монашеству в действительности. Вполне возможно, что и пишу я это только лишь для того, чтобы хоть как-то отведать человеческого страданья и счастья. Я едва удерживаюсь от слез при виде перевернутого щита Анаклета, и если бы там, среди хлябей морских, не было
59
никакой надежды на возмещенье и на благоприятный исход, я бы не решился убить бедного Вилигиса. Ибо тот же самый дух повествования, что звонит в колокола, когда они сами звонят, убивает людей, умирающих в песне.
Юный Вилигис, такой стройный, такой красивый, — и мертв! Что правда, то правда, он никого не считал достойным себя, кроме своей купнорожденной и столь же красивой сестры, и недозволительно с ней согрешил. Мне весьма трудно простить ему также убийство Ханегифа, предоброго пса. Однако он был по-рыцарски готов к покаянью, хотя оказалось, что оно ему не по силам. Этот юноша, хотя и отважившийся на грех, никогда, как бы это сказать, не отличался душевной твердостью. Слишком уж легко охватывали его робость и трепет, он был храбр, но слаб. Разлука с милой сестрой и женою явилась для него жестоким и сокрушительным ударом, он не был внутренне закален для крестоносного подвижничества. Немало тягот вынес он с Анаклетом, встречая на пути своем разбойников и диких чудовищ, пробираясь через болота, леса, скалы и воды, но массилийской гавани ему не привелось достичь: еще раньше он схватился за грудь, повернул исказившийся лик к небесам и свалился во мхи, где его конь принялся жалостно его обнюхивать. Как быстро спешился тогда Анаклет! Он на руках отнес его в ближайший замок, хозяин которого радушно их принял и заботливо уложил в постель больного путника. У того, однако, разорвалось сердце, на второй день он испустил дух, и поелику его с головою укрыли саваном, то земле, как бы она ни старилась, не суждено было еще раз увидеть это совершенно особенное лицо близнеца, этот строгий рот с пухловатой верхней губой, эти черные, с синим отливом, глаза, эти чуткие ноздри, этот лоб, и отметину, и темные локоны, и прекрасные брови.
При мысли о том я украдкой вытираю слезу, и я хвалю чужеземного хозяина замка за то, что он распорядился с почестями препроводить на родину тело паломника-князя. Анаклет опередил траурную процессию на один день пути и явился к Сибилле со щитом
60
наизворот, с опущенной головой. Она была уже близка к обмороку, когда ей назвали только имя пажа, только его имя. Когда же она увидела Анаклета, она лишилась чувств и упала ему на руки. Мне стыдно собственных слез, ибо я пролил их в тихой грусти, а ее обуяла боль, которой не утолить никаким слезам, и когда она снова очнулась, глаза ее были сухи, а лицо неподвижно. Она выслушала рассказ пажа о том, что случилось с его господином, и молвила: «Хорошо». Ничего хорошего в этом «хорошо» не было. Такое «хорошо» отнюдь не отдает покорностью воле божьей, скорее оно означает оцепенение, вечное отрицание божественного промысла, и словно бы говорит: «Как тебе угодно, господи, а я извлеку вывод из твоего приговора, для меня неприемлемого. Я была перед лицом твоим женщиной, пусть грешной, не спорю. Отныне же я вообще не буду женщиной, а буду навеки оцепенелой невестой боли. Я так замкнусь в себе, так ожесточусь, что ты подивишься». — Упаси меня боже от такого меча и такого оцепенения! Но я ничуть не подвержен подобным бедам. И все же я рад, что повесть моя позволяет мне отведать от них и что я в каком-то смысле их познаю.
Господин Эйзенгрейн молвил ей:
— Катафалк брата вашего прибыл и стоит в церкви моего замка. Он отдал богу тело ради души своей, и вы теперь наша повелительница. Примите же мое коленопреклонение! Одновременно, во имя вашей и моей чести, разрешите почтительно просить вас, чтобы вы, когда мы станем его хоронить, не выказали иной, скорби, кроме той, с которой оплакивают погибшего брата. Всякую же иную, более горячую, скорбь вам следует тщательно скрыть.
— Благодарю вас, господин рыцарь, за науку и деликатный намек. Мне кажется, на меня не похоже, чтобы я уронила вашу, моего защитника, честь изъявлениями чрезмерной скорби. Вы весьма неопытны по части скорби, если полагаете, что самая глубокая многошумна. Теперь я намерена три часа молиться над гробом моего любимого брата. Это никак не выходит из границ скромности. Затем, в умеренном
61
трауре, доставьте его на его место. Мое же — далее не здесь, не в вашей приморской крепости, и не отсюда собираюсь я править страной. Надеюсь и впредь иметь в вашем лице верного вассала, cons du chatel, но я вас не люблю, и хотя вы сделали меня также и своей повелительницей, вы не пользуетесь моей милостью, о чем вам сейчас и сообщаю. Вы отняли у меня моего дорогого племянника, отправили его в дикое море, а его отца, моего любезного брата, послали на смерть — все это делалось, правда, во имя чести и пользы государства, и все-таки я на вас в обиде и по горло сыта вашей суровою добротою. Я не назначу вас ни сенешалом, ни стольником и вообще не хочу видеть вас около себя, когда поселюсь в своей столице, в Брюже у глубокого залива, в высоком замке. Находись вы при мне, вы бы, ради прямого наследования, строили политичнейшие планы и непременно выдали бы меня замуж за кого-нибудь из равных мне по рожденью князей христианского мира, тогда как рождением был равен мне только один, по ком и пребуду в вечном трауре. О замужестве я не хочу и слышать, celui je tiendrai ad espous qui nos redemst de son sane precious1. Подаяния бедным, пост, бдение, молитва на голых камнях и все, что докучает и претит плоти, — в этом только и будет состоять жизнь повелительницы страны, дабы господь увидел, что перед лицом его больше не грешная женщина, и вообще не женщина, а княгиня-монахиня с омертвевшим сердцем. Таково мое решение.
Да, таково оно было и осталось и, клянусь Христовым распятием, неправедно было это решение. Ибо, увы, господь поразил Сибиллу, поразил всю страну пятым мечом, о чем сейчас и поведаю. Сибилла не вернулась в Бельрапейр, обитель ее отрочества и греха, замок пребывал в запустении, охраняемый лишь кастеляном да небольшим отрядом сервиентов. Княгиня держала двор в Брюже, у залива, оцепенелый двор, где не слышалось смеха и к тому же пове-
62
лительница не показывалась на люди, а в одиночестве или между двух монахов лежала в молитве на голых камнях. В белом платье, сопровождаемая двумя корзиноносицами, спускалась она и одаряла бедных, которые благоговейно ее славили. Себе в удел она взяла не радость и не привольность, а только всенощные бдения, укрощение плоти да постную пищу, все это, однако, не в угоду богу, а назло ему, чтобы он вконец обомлел и испугался.
Так жила она много лет, но в расплате за грех не поплатилась своей красотой, которой бог ее не обидел, и хотя от бдения у нее часто бывали синие круги под глазами, она, сохраняя на земле черты покойного брата и созревая от года к году, становилась красивейшей женщиной, что, думается мне, отвечало ее желанию, ибо ей хотелось досадить богу тем, что она не отдает, столь прекрасного тела супругу, но остается кающейся вдовою брата. А меж тем, как уже в пору ее отрочества, не один христианский князь имел на нее виды и — через посредство послов и посланий, а иногда самолично — предлагал ей руку и сердце, Но каждый встречал отказ. Сие огорчало двор, град и страну, как огорчало и бога, хотя господь опять же ничего не мог возразить против такой покаянной воздержности. В этом-то разладе с самим собою она и хотела оставить всевышнего. На шестой год один весьма знатный князь, Роже-Филиппус, король Арелата, стал просить ее выйти замуж за своего возмужалого сына по имени тоже Роже, но уже без Филиппа. Принц этот был бесстыдник, каких я смерть не люблю. Уже в пятнадцать лет он носил козлиную бородку, черную, как его глаза, подобные пылающим уголькам, с бровями столь же мохнатыми, как его усы; он был долговяз, волосат, задирист и галантен, этакий петух, сердцеед, дуэлянт и повеса, — терпеть не могу таких молодцов. Отлично понимаю, что отец, желая ему добра, считал разумным поскорее остепенить его женитьбой. Благородная и любочестивая дочь господина Гримальда казалась как нельзя более подходящей невестой, к тому же в пользу такого выбора, помимо прочих, говорили и
63
политические соображения, ибо мало того что королю хотелось женить своего наследника на красавице, ему прежде всего хотелось, чтобы Роже присоединил к Арелату и Верхней Бургундии Артуа и Фландрию.
Потому-то одна страна стала засыпать другую посольствами и просьбами, нежными предложениями и ценными подарками, и сам король Роже-Филиппус со своим сыном и представительной свитой бургундских рыцарей посетил брюжский двор, где принц тотчас же соблазнил трех статс-дам, но неизменно встречал холодный взор государыни. Она измеряла всю его рыцарственнейшую фигуру в длину, снизу вверх, насмешливым взглядом, и это донельзя ожесточило и навеки распалило забияку, так что Роже считал свою честь поруганной, коль скоро не овладеет Сибиллой. Да и весь двор, включая трех дам, столь быстро им побежденных, мирволил этому сватовству, ибо все хотели, чтобы Сибилла дала стране герцога и чтобы наконец-то был положен предел ее целомудрию. Она, однако, учтиво уклонялась от домогательств короля, не говорила ни «нет» ни, тем более, «да» и вытребовала себе неопределенный срок на размышление, когда бургундцы стали собираться домой. Оттуда снова пошли посольства, напоминанья и просьбы, но она по-прежнему отделывалась невразумительными посулами, походившими то на отказ, то на вежливое полусогласие и нисколько не прояснявшими дела, дабы все это, как она надеялась, наконец наскучило отцу и сыну. Так продолжалось четыре года, но вот король Роже-Филиппус обручился со смертью и отбыл в ее пределы, а козлинобородый Роже стал королем Арелата. Этот, хоть и пользовался уже милостями всех дам своего двора, числом около пятидесяти, и множества молодых горожанок, однако не переставал вожделеть к белоодежной строптивице, столь презрительно на него взиравшей, и теперь, когда он оказался на троне, к страсти его присовокупилось желание увеличить свое государство и завладеть ее землями, как ему завещал понаторевший в политике родитель. Теперь, когда он ей писал и осаждал ее по-
64
сольствами, в галантных предложениях проскальзывали кичливые угрозы, в том смысле, что он-де скорее уж станет добиваться ее оружием, чем откажется от нее, лучшей из дев, и женится на другой. Она, мол, виною, что его государство остается без королевы, и ее же вина, что у нее в стране нет хозяина, и бог, видя сию беду, в конце концов повелит ему взяться за меч. Так или в подобном роде писал этот петух и жеребчик. Поелику, однако, ответы Сибиллы, тщившейся его обуздать, стали вновь походить на согласие, то миновало еще три года, прежде чем терпенье его иссякло. Но тут уж оно иссякло, и Роже, с двумя тысячами рыцарей и десятью тысячами сервиентов, вторгся в ее страну и принес с собою войну.
— На помощь, господин Эйзенгрейн! Забудьте, что мы в горе заказали вам путь к своему двору! Вспомяните, какие службы вы сослужили нашему почившему в бозе родителю! Призовите моих рыцарей, соберите моих пехотинцев, отоприте арсенал, доброчестный мой полководец, и обрушьте свой меч на дерзкого разбойника, вознамерившегося метнуть нас в свою постель окровавленной десницей! Защитите свою герцогиню, посвятившую себя богу.
Так началась между Бургундией и Фландрией-Артуа война, прозванная певцами «любовной войной», которая, благодаря упорству обеих сторон, с переменной удачей губительно бушевала целых пять лет.
«Довольно,
жено, рати,
пора
покой нам дати.
Несносен
ваш отказ
желающему
вас.
Так
уступите же судьбе!»
Она
в ответ: «Jamais!»1
CАHKT-ДУНСТАНСКИЕ РЫБАКИ
Я, Клементий, воздаю хвалу содеянному премудростью божьей! Сколь превосходным и восхитительным кажется человеку, хоть мало-мальски знакомому с географией, то обстоятельство, что оцеанус сообщается с Северным морем; сообщается через пролив
65
между Каролингией и Англией, именуемый в шутку, за его узость, «рукавом» или еще «каналом», хотя, строго говоря, каналом возможно назвать лишь канаву, прорытую руками человеческими, но не соленую стихию господню, которая отнюдь не отличается застойным спокойствием канала, а куда как часто, секомая бурями и взъяряемая валами, учит корабельщика помнить о вседержителе. Сие касается даже больших и надежных кораблей, вроде того судна, на коем я сам недавно переправился через эти воды. Но, как подумаю, каким случайностям подвержен здесь утлый челн, открытая лодка, к тому же еще, на потеху волнам, без всякого кормчего, или, пожалуй, с кормчим, но с беспримерно нежным и беспомощным, — меня ужасает скудость надежды на спасенье такой ладьи, и я удивляюсь искусству, с коим господь бог, коли на то его воля, ведет ее сквозь опасности, которые сам же уготовляет, и хочется тут воскликнуть: «Nemo contra Deum nisi Deus ipse»[i].
В этих водах, там, где они почти уже открыты вселенскому морю, сотворены острова: и большие, и малые, и малые вовсе, именуемые «Норманскими», потому, наверно, что расположены ближе к Франконии и к землям норманнов, нежели к Корневилю и к Суссексу, и на один из самых малых, удаленный от других в сторону Англии, я и хочу мысленно перенестись вместе с читателем. То был омываемый хлябями кусочек земли божьей, обитатели коего, хотя во спасение себе и приобщившиеся к христианской вере, жили весьма первобытной, обособленной от мира жизнью. Большинство их обосновалось в широко разбросанном, перемежаемом пастбищами и огородами, селении, называвшемся, насколько они знали, как и весь остров, Санкт-Дунстан, кормились же они скотоводством, маслобойным промыслом, огородничеством и рыбной ловлей. Туда-то я перенесусь, и не под конец рассказа, а допреж всего, ради одного благочестивого и превосходного мужа, к которому питаю живейшую приязнь и которому уже сейчас хочу принести благо-
66
дарность за те преизрядные услуги, что он в доброте своей оказал герою повести, богоугодным возобновлением коей я занят. Я говорю об его преподобии Грегориусе, настоятеле монастыря «Agonia Dei»1, каковой монастырь, ведущий начало от старинной лавры-киновии и послушный уставу Цистерциума, находился на западном бреге означенного острова и являл собой — впрочем, надеюсь, являет и ныне — духовное украшение оного. Монахов, принявших схиму, в стенах его укрывалось немногим более чем было учеников у господа и спасителя нашего, этак с четырнадцать, и еще проживало тут несколько служек-бельцов, ходивших за скотом, да послушников-отроков, отданных братии «Муки господней» для духовного наставления и частью прибывших с других островов. Все они, от мала до велика, старики, мужи и юнцы, взирали на своего аббата Грегориуса, по причине его доброты, кротости, справедливости и заботливости, с единодушным и доверчивым почтением как на отца своего; да ведь по смыслу слова «аббат» — кто учен, знает — так оно и быть должно.
Аббата Грегориуса надлежит представлять себе человеком привлекательной наружности, среднего роста, с полным тщательно выбритым лицом, маленьким ртом, округло выступающей вперед нижней губой и прекраснолощеной, блестящей лысиной, каковую обрамляли кудрявые седые волосы у висков. Его орденскую ризу, ладно опоясанную витым вервием, чрез которое были продеты четки, оттопыривало небольшое брюшко, казавшееся скорее выражением спокойной совести, нежели бременем, и отнюдь не лишавшее фигуру аббата приятной подвижности, замечательной для его лет, а лет ему было пятьдесят. Что леность и себялюбивая изнеженность не вязались с его натурой, видно уже из того, что ранним утром, в более чем неласковую погоду (ибо низко нависли тучи, накрапывал дождь и вовсю бушевал северо-северо-западный ветер), мы застаем его одиноко бредущим вниз, к берегу, в обход подковообразной бухты, что с этой стороны врезается
67
в остров и куда море, дробя их о каменные отмели, катит свои валы. Спиною к монастырю, строения коего в пелене дождя вырисовывались на темной полоске леса, аббат шагал, занося вперед посох и подобрав рясу, где по мокрому песку, а где среди каменного лома, громоздившегося тяжелыми глыбами или размолотого в щебень. На плечи, для защиты от сырости, он накинул войлочное покрывало и придерживал его спереди рукой, на голову же нахлобучил отнюдь не монашескую шляпу с широкими загнутыми вниз полями, какие, наверно, носили, правя свое ремесло, рыбаки-островитяне. Жмурясь, он старался подставить ветру затылок, но то и дело поворачивал свое мокрое лицо в противную сторону и озабоченно вглядывался в открытое море.
Мысли у него были вот какие:
«Мерзко, мерзко! Ненастье на нашем острове не в диковинку, но уж в это время года оно на редкость противно. Я не ропщу, но мне неспокойно. Ишь как разбиваются в брызги буруны на отмелях, как они затопляют их от поры до поры и накатываются на пресносольные заводи по правую мою руку, вынуждая меня с почти непристойным проворством отскакивать в сторону от бешеных волн, а ведь здесь, в бухте, они уже посмирнее! Каково же в открытом море, где, по моему повелению, находятся сейчас рыбаки, братья Виглаф и Этельвульф! Увидь меня кто-нибудь здесь, он сказал бы, что я вышел на берег, невзирая на эту непогодь. А меж тем я пришел сюда в такую рань именно по причине ненастья, гонимый своим беспокойством. Не что иное как беспокойство и внушает человеку столь праздные и маловажные рассуждения, как это о «невзирая» и «по причине», слившихся воедино в моем беспокойстве. Бог не желает, чтобы люди были слишком спокойны. Наказания ради он наделяет их беспокойством и при этом внушает им, будто они сами наделили себя таковым, что и случилось со мною, пославшим на лов рыбарей в подобную непогодь, которой, впрочем, нельзя было предвидеть вчера пополудни. Как мог бы я быть спокоен, когда бы не эта мной же самим уготовленная забота! Ибо
68
в остальном все обстоит отлично или по крайней мере вполне хорошо на сем острову, зовущемся, по уверению старейших его обитателей, «Санкт-Дунстаном», а равно и в моей калугерии, спокон веков бесспорно именуемой «Мука господня» и ве́домой под именем сим также на ближайших, хотя уже и весьма отдаленных островах. Лишь во смирении возможно о ней вспоминать, и игуменство в ней — не искус гордыне. Ибо убога она среди монастырей христианского мира, и нет у нее даже собственного капитула, так что трапезная, где царит устоявшийся запах пищи земной, служит подчас и местом собраний. Да и всего только у половины братьев имеются особые кельи, остальные ночуют в общей спальне, и, конечно, лишь у меня есть отдельная просторная горница, о чем надлежит думать не с самодовольством, а с благодарностью, памятуя, сколь smoothly, добролепно, каким налаженным ходом тянутся дни в нашей маленькой вотчине божьей и сколь отрадно почить на загодя постланном ложе, когда можно уже не копать землю и не корчевать дебри, а всего лишь блюсти да поддерживать давно заведенный порядок. Труд землепроходцев и корчевателей исполнили сто и еще много более лет назад братья уединенно-сообщной жизни, которые первыми явились в эти места, орудовали мотыгами, лопатами и кельнями, свозили на тачках камни и, строя свое схимническое прибежище, а также возделывая под огороды пески, одновременно просветили темных островитян и причастили их правде Иисусовой. Они, видать, знали, что праздность есть мать всех пороков, а посему не только предавались созерцанию, коим, кстати, не были бы и живы, но еще прилежно копали и корчевали, подобно тому как и я считаю полезным, чтобы паства моя, помимо размышлений о божестве, всенепременно посвящала себя той или иной грубой работе, — ремесленной или земледельческой,— сопряженной с правочестной усталостью. Сам я, разумеется, слишком стар и сановит для этих занятий. Слишком стар, но не слишком сановит. Слово «сановит» нашептывает мне диавол, дабы посрамить смирение мое, и без того постоянно подверженное
69
известной опасности, поелику я как инфулированный аббат на радость свою являюсь на острову самопервейшей персоной и над рукою моей склоняется каждый встречный. Воистину ли оттого приняли древле здешние жители веру Христову, что некая уже обращенная дева, которую они собирались пожертвовать опустошавшему остров дракону, показала таковому распятие, после чего, напоследок еще раз извергнув из пасти пламень и дым, чудовище улеглось и издохло? Говорят, будто сие настолько их впечатлило, что они тотчас же все как один уверовали в Иисуса. Я не очень-то полагаюсь на эту историю, ибо как мог явиться сюда дракон и из какого яйца он выполз? Я просто не в силах представить себе в этих местах дракона, принимающего в жертву девиц. Но, может быть, все дело тут в греховном недостатке простодушия, хотя я, рискуя угодить в когти беса гордыни, считаю богооправданным известное различие между верой, подобающей образованному человеку, и тем, во что верует vulgus1. Надо, кстати, отметить, и отметить с тревогой, что христианство здешнего люда отнюдь не имеет прочных корней, независимо от того, был ли в сих местах дракон, или нет, а потому превеликое благо, что мы, братья «Agonia Dei», стоим здесь на страже веры. Ибо обретенное может быть вновь утрачено: ведь говорят же, что в Алемании, далече отселе, христианство утвердилось еще во времена римлян, но что затем земли сии погрузились во мрак неверия вплоть до прибытия неких ирландских посланцев, которые снова возожгли светоч. Отгороженность от мира обильной водой имеет, конечно, свои преимущества, она сохраняет простодушие и остерегает от всяческого смятения. Однако, с другой стороны, не так уж и хорошо, когда великие передвижения народов, перемены и переселения, каковыми, насколько я знаю, богата старина, протекают где-то в стороне от ушедшего в себя затворника, отчего, если возможно мысленно так выразиться, творящееся в мире его не захватывает, и он остается в неведении на прежней, первобыт-
70
ной ступени. Мне отлично известно, что здесь, и в умах и в негласных обычаях, бытует множество пережитков, кои вряд ли заслуживают более мягкого наименования, чем «мерзость друидовская», и засилию коих единственною твердыней противостоит наша малая крепость господня. Эти люди, понеже никому не было до них дела, искони жили замкнуто и не покидали насиженных мест, тогда как вообще-то, думается мне, на земле не найдется страны, населенной ее коренными жителями, ибо всем случалось перемещаться и вытеснять других, которые, в свою очередь, уходили в иные края, то ли уже кем-то покинутые, то ли у кого-то отторгнутые. Так, например, я слыхал, что бургундцы, подавшись из дальней Фулы на юг, до римского пограничного вала, не без самодовольства обосновались на реке Ренусе, где были, однако, почти сплошь перебиты гуннами. Мало того, мне известно также, — что Вортигер, князь бриттов, призвал мореходов-германцев, чтобы те помогли ему справиться с дикими пиктами, а эти последние в мгновение ока объединились с призванными против призвавшего. Британское государство нежданно-негаданно основали хауги, англы, юты, и саксы, а затем явился норманн и наложил на него свою десницу. Да, знания мои поразительны! Но, ей-богу, вместо того чтобы хвастаться ими перед самим собой, мне надо бы вспомнить, зачем, опираясь на посох, забрел я сюда в дождь и ветер, вспомнить, что все эти побочные и суетные мысли мои — только от беспокойства о недостаточной рачительности, хотя как раз рачительность-то и ввергла меня в вину. Ибо, по-отечески заботясь об агнцах своих, я намерился нынче ради постного дня вдоволь попотчевать их доброй рыбной похлебкой. Потому-то я и наказал рыбарям Виглафу и Этельвульфу выйти в море еще до рассвета и посулил им отменную мзду, коли наловят в обилии лакомой рыбы. Но, наславши непогоду, какая обычно бывает только в порубочную пору, диавол обратил мою рачительность в прямую ее противоположность. Ибо, прельщенные маммоной, они забрались невесть как далеко, и если сейчас рыбаков уже поглотили волны, то я, не приведи боже, их убийца. Правда,
71
оба они — насквозь просоленные морские волки, крепкие, как угорская кожа, им не впервой тягаться с дикими хлябями. Но как быть, если они все же погибнут, как погляжу я в глаза их вдовам и сиротам? У старшего, Этельвульфа, всего одна дочь, ее выдали замуж за жителя ближайшего на восток острова, именующегося, как большинство полагает, Санкт-Альдгельм. Но Виглаф, его брат, с трудом кормит шестерых детей, и младший из них еще сосет грудь. Мое беспокойство о них обо всех растет и растет. Стоп! Теперь стану как вкопанный и буду следить за входом в бухту, где мои глаза, к счастью, все еще острые, кажется, заметили парус. Наблюдение мое облегчается тем, что дождь перестал, хоть ветер и не стихает. Да, хвала богу, это парус, это лодка Виглафа и Этельвульфа! Поелику они достигли защитной бухты, их можно считать спасенными, и, глядишь, они даже доставят мне желанную рыбу. Поистине удивительно: едва у меня затеплилась надежда на спасение братьев, как я уже снова думаю о рыбе, которая, ввиду грозившей опасности, уже потеряла было значение. Как переменчиво все-таки сердце человеческое, как мечется оно между унынием и заносчивостью! Благо еще, что мысли о рыбе пробуждает во мне добродетель рачительности! — Но что это? Не две ли лодки, одна близ другой, качаются там на волнах? Не обманывает ли меня зрение, хотя вообще-то глаза мне еще служат исправно. Нет, — свидетель Христос! — я вижу парус и две лодки. Или, вернее, видел одно мгновение, ибо вторая вот уже снова как бы растворилась или утонула в тумане, и налицо уже только одна, парусная, которая, собственно, мне и нужна, и попутный ветер стремительно несет ее в бухту. Чтобы миновать каменистые отмели, у морских волков достанет искусства и сноровки, об этом мне беспокоиться нечего. Вот они, вот они, так и мчатся сюда, наискось, под вспученным парусом! Я, пожалуй, окликнул бы их: «Хо-хе, хой-хо!», приставив ладони ко рту, если бы не мое духовное званье. Они, я вижу, держат вон на тот мыс, чтобы пристать в узком и мелком заливе между камнями и берегом. С благодарностью в сердце
72
вернусь туда и встречу спасенных. Теперь я, наверно, даже не удивлюсь, если они возвратились с богатым уловом!»
И вот рыбаки, которым аббат делал знаки рукой, провели лодку мимо камней и, опустив парус, шестом подогнали ее к самому берегу, после чего спрыгнули в воду и руками вытащили свой челн на песок, меж тем как аббат радостно их приветствовал:
— Халло, хойхе, смельчаки, Виглаф и Этельвульф, добро пожаловать на сушу, в надежную гавань! Зато, что вы выбрались из такого ненастья, хвала создателю! Мы поступили бы наилучшим образом, если бы тут же, на месте, втроем опустились на колени и восславили имя его. Вы видите, ваш аббат горько о вас сокрушался, недаром прибрел он на взморье в бурю и дождь. Как у вас дела? Есть ли рыба?
Хехо, халло, господине, на сей раз обошлось,— отвечали они. — Рыба? Нет, это вы littel bit1 слишком уж многого захотели. За счастье вы. почли бы, что нас не съели рыбы: — такие были волны, такие coups de vent2 — вам, сударь, и не представить себе! Один должен был всечасно drawen3 воду из лодки, другой — изо всей мочи holden4 кормило, ни о чем ином не приходилось и thinken5.
«Как они говорят, — думал аббат, — как грубо и низко, — ибо мнил, что досадует на их речь, а на самом деле был разочарован тем, что они не наловили рыбы. — Хоть я и рад их благополучному возвращению,— думал он, — хоть на душе у меня теперь куда легче, все же они погрязли в невежестве».
— Поелику господь вас спас, — молвил он, — я полагаю, ребята, что вы усердно взывали к нему в беде.
— Да, да, сударь, не без того.
— И не примешали к молитве вашей никаких
73
иных словес, всяких там неподобных заклятий и прочего вздора прежних времен? — Нет, нет, сударь, как можно. «Наверно, все же не удержались, — думал он, — При таком-то невежестве. Какие у них рыжие бороды, какое красное, просоленное, жилистое и мускулистое тело, нагое до пояса. Почему они так обнажены, почему сбросили с себя фуфайки и куртки в такую погоду?»
Он окинул глазами лодку, которая снаружи была выкрашена в зеленый цвет, но на которой уже сплошь облупилась краска, так что повсюду проглядывал белый грунт. В ней лежали сети, два весла, шест. У кормы, заваленной их одеждой, возвышался какой-то предмет.
— Что это у вас там? — спросил он и указал посохом на корму.
— Это наше poor people’s1 добро, — пробормотали рыбаки. — Господину оно ни к чему.
«Неужели они все-таки с рыбой, — думал он,— и хотят съесть ее сами? Что бы еще прятать им под одежой? Они явно смущены. Нужно разобраться, в чем дело». И со словами: «Дайте-ка посмотреть» — он потянулся к загадочной клади посохом и откинул в сторону их пропотевшую ветошь. Под ней оказался бочонок, ядреный и ладный, с расписными клепками.
— Ну вот! — сказал он. — Как попал к вам в лодку, мужчины, этот нарядный бочонок? Что в нем такое?
— What shall2 быти
овамо! — отвечали те, стараясь не глядеть на него. — Пожитки poor people’s. Fresh water3; смола, dram4, чтобы пропустить глоточек. И один до
смешного противоречил другому. — Вы лжете, — молвил с укором аббат. — Вы не
обязаны правильно говорить. Но говорить правду обязаны.
74
И он подошел поближе, ощупал бочонок и склонился над ним, дабы лучше все рассмотреть. Вдруг он отпрянул и всплеснул руками. Изнутри, через отверстие, до уха его донесся плач.
— Боже правый! — воскликнул он. — Тихо! Молчите, не шевелитесь, мне нужно прислушаться!
И наклонился еще раз. Плач повторился.
— Блаженные духи, благовестники славы небесной! — промолвил аббат, на этот раз уже совсем негромко, ибо у него пропал голос, и многажды сотворил крестное знаменье. — О мужчины, сыновья одной матери, Виглаф и Этельвульф, откуда у вас сия бочка? Ибо, знаете ли вы о том, или нет, клянусь вам, что в ней сокрыто дитя человеческое.
— Всего только дитя человеческое? — спросили они. Об этом они и ведать не ведали, они даже разочарованы, если в ней ничего больше нет. Студя руки, выловили они бочку из волн, ибо у входа в бухту носилась ладья без mariner’a1, они повернули к ней, подтянули ее шестом и погрузили бочонок в свою лодку, полагая, что в нем найдется какая-нибудь пожива для poor people2 и что никому нет до этого дела, если они приберут находку к рукам.
— Ни слова больше! — прервал их Грегориус. — Ибо каждое слово праздно, а каждое мгновение дорого. Мигом вытащить бочку на берег, вот сюда, где я расстелил покрывало с собственного плеча. Не болтать и не мешкать! Тут же, на месте, откройте чудесную, необычную бочку сию. Говорю вам: в ней живое дитя. Вышибите сразу же днище, быстро, но осторожно! Возьмите топор, ножи! Соскоблите кругом смолу, которой заделаны щели! И живее, живее!
Так они и поступили. Зараженные его пылом, они быстро вытащили бочонок на сушу и ловко, как подобает умелым морякам, освободили от обруча, расщепили и отодрали клепки. Аббат стоял на коленях, и когда бочку открыли, он благоговейно, с тихой молитвой, извлек из нее то, что она содержала: дитя
75
в пеленах, уложенное на свертки александрийского шелка и такими же шелками покрытое, а еще два хлеба и драгоценнейшую дощечку, исписанную на манер грамотки, в ногах у младенца. От дневного света, сколь ни был он сумрачен, дитя зажмурило глаза и чихнуло.
Аббат порадовался, что заранее опустился на колени и что теперь ему, стало быть, уже не надлежало на них пасть. — Deus dédit, Deus dédit1 — молвил он, сложив ладони. — Сие рожденье из дикого моря — самое священное чудо, случавшееся на моем веку. В чем наставляет нас эта дощечка?
И он схватил ее, поднес к очам и пробежал ими грамоту. Поначалу он не вполне уразумел прочитанное, но что происхождение ребенка, хотя и благородное, связано с какими-то ужасными обстоятельствами, понял сразу.
«Чего, собственно, я ждал? — думал он. — Что ребенок, у которого все благополучно, будет носиться по волнам в бочке?» С великим состраданием склонился он над нежной греховной находкой. И тут же, увидевши рядом с собой его кроткий лик, малыш улыбнулся ему сладостными устами.
У доброго пастыря увлажнились глаза. Душа его тотчас исполнилась хлопотливости, и он поднялся, готовый распорядиться самым решительным образом.
— Мужчины, — сказал он, — этот найденыш, как пишут мне, мальчик, столь отраден и мил, а к тому же столь чудесно сбережен богом в сей малой бочке, что мы, несомненно, обязаны воспещися о нем, с умом и оглядкой, во имя бога и покорствуя его недвусмысленно изъявленной воле. Разумеется, это дитя, еще не крещенное, принадлежит монастырю. Но покамест, и тотчас же, ты, Виглаф, возьмешь его с собой в свою ближнюю хижину, и без того кишмя кишащую плодами благословенного брака, и передашь его своей жене Магауте, у которой, кстати, грудь опять полна молока и которая да согреет его и вскормит, ибо,
76
хотя бог милостиво сохранил ему жизнь в его странствиях, наверно, оно тем не менее рискует погибнуть, коли за ним не присмотрят. Gredite mi!1 Все, что вы сделаете для этого карапуза, не будет вам в убыток. Имущественные его обстоятельства, разумеется, весьма запутанны, но стесненными их нельзя назвать, как вы уже видите по редкостным тканям, кои с ним прибыли.
Он снова справился с дощечкой, извлекши таковую из складок своего платья, куда успел ее спрятать, и прочитал эпистолу. Затем взял один из хлебов, преломил его и заглянул внутрь.
— Если я, — обратился он к Виглафу снова, — дам тебе две марки золотом на содержание ребенка, раз и навсегда, будешь ли ты пещися о нем и холить его наравне со своими детьми, как своего собственного, разве только с чуть большим тщанием, понеже он, достигнув немногих лет, отправится в монастырь?
Таких денег, как две марки золотом, Виглафу никогда не случалось видеть сразу, и поэтому он согласился.
— А теперь по домам! — воскликнул аббат.— Мы стоим здесь и совещаемся и так уже слишком долго, если принять во внимание неотложные нужды сего дитяти. Ты, Виглаф, закутай малыша в подостланные под него скарлаты, — они сотканы в левантийском Алисаундре, понятно тебе? — возьми его на руки и неси, насколько способен, бережно! Верхние же я возьму к себе, равно как и оба хлеба, ибо дитя не может их съесть. И помни, если люди спросят тебя и твою жену, как это получилось, что у вас стало вдруг семеро детей вместо шести, — а, впрочем, кто заметит такую разницу? — ответствуйте, что сие сын вашей племянницы с Санкт-Альдгельма или как там называется ее остров, — она, дескать, его родила, но из-за теснения в груди не в силах за ним ходить, а потому вы его привезли и будете печься о нем из любви к родственникам.
— Но ведь that’s2 кривда и отговорки, — воcпро
77
тивясь, вмешался Этельвульф. — Нет у
дочки моей никакого теснения, здорова она и крепка, что яблочко налитое, и
могла бы upbringen1 хоть
twelve kiddens2, когда бы они только у
нее были. That's hoax3, а вы,
господине, always4 учили нас, что надобно говорить
правду, хотя и низкими словесы.
— Зачем тебе, Этельвульф, — спросил аббат, — порочить столь тонко придуманную уловку и пакостно поносить то, что так походит на правду? Ибо в точности так же, по крайней мере, на вид, с ребенком в лодке вы вполне могли бы вернуться с острова Альдгельма, от твоей дочери, которую я не знаю, но которую ты, конечно же с умыслом, изображаешь этакой здоровячкой. Вот что я тебе скажу. Согласишься ли ты, если я дам тебе одну марку золотом, раз и навсегда, подтвердить благочестивый обман, порученный мною твоему брату, и свято молчать о том, как мы нашли младенца сего?
За одну марку Этельвульф сразу же на то согласился.
— Виглаф, — предостерег рыбака аббат, — когда понесешь ребенка, смотри не споткнись от радости, что так разбогател. Да ведь и Этельвульф теперь тоже состоятельный человек. Он ничего не имеет против того, чтобы ты и Магаута, как только поедите, немного за полдень, принесли мальчугана ко мне в монастырь и сказали, что это — ребенок вашей племянницы и что вы хотите заменить ему родителей, ибо мать его по большей части хворает, а меня дружно просите быть ему духовным отцом и тотчас же совершить над ним обряд святого крещения, коего он еще не сподобился. Говорите пристойно и деликатно! Я приму вас в кругу братьев-монахов, а там не годится давать волю привычному просторечью. Иначе братья вас засмеют. Не говорите: «Ji shellt5 сосунка
78
dopen1 или bappen!2» Это неприлично. Возьмите себя в руки, поднатужьтесь и скажите: «Ваше преподобие, господин аббат, сие новорожденное дитя направили к вам наши доброчестные parentes3, которые доверили его нам и просят вас самолично даровать ему святое крещение, дабы снискать младенцу блаженную жизнь, а сверх того, коли соблаговолите, наречь его вашим собственным именем — Грегориус». Ну-ка, Виглаф, повтори!
И Виглафу пришлось поднатужиться и трижды с великим трудом повторить эту просьбу, прежде чем аббат отпустил его в его хижину. Там он отдал дитя своей жене Магауте, наказав ей под страхом жестокой порки никогда не спрашивать, откуда оно взялось, людям же, если понадобится, говорить то-то и то-то и ходить за ним как за своим собственным, только еще чуточку лучше. А Магаута думала: «Нашел чем пугать! Нужно быть мужчиной, чтобы поверить, будто такое дело можно долго таить от женщины. Уж я-то докопаюсь до правды!»
ЗАВЕТНЫЕ ДЕНЬГИ
Теперь послушайте, как все устроил бог и с каким величайшим искусством, себе же наперекор, добился того, что внук господина Гримальда, отпрыск скверных детей благополучно доплыл до суши в своем бочонке. Сильное течение понесло его жалкий кораблик, игралище диких ветров, в узкий пролив, где от земли до земли всего один шаг, а затем, вдоль рукава, к уединенному острову, каковой премудрость господня, избрала пристанищем неприкаянного. Лишь две ночи и один день продолжалось его плавание, и я уверен, что более длительного путешествия не выдержал бы даже такой сильный и дотоле сытый ребенок, как этот. Полагаю, что почти все время он спал, укачиваемый волнами
79
и укрытый от них в темном лоне бочонка, ибо если по прибытии своем он был не вовсе сух, то виною тому не море. Великой опасностью грозили его греховной жизни еще и в самый последний час многопенные рифы бухты, в которую понесло его челн. Но здесь его нашли рыбари, и этим не удалось утаить от аббата свою находку. Дальше все пошло так, как я рассказал.
Магаута, жена Виглафа, обычно тощая и сварливая, после родов неизменно становилась пышнотелой и ласковой, отчего муж, несмотря на нищету его хижины, старался как можно чаще наделять супругу благословенною ношей. Молока у нее было больше, чем потребно ее собственному младенцу, вполне хватало и на приемыша, и она накормила и согрела его со всей кротостью, какой на краткое время снова сподобилась. И вот, румяный, умиротворенный, мальчик лежал на грубых пеленках и на соломе, бок о бок с рыбацким сыном Фланом, что теперь приходился ему молочным братом. И вот, когда супруги поели, они взяли дитя и понесли его в монастырь, как наказывал аббат. Тот задержал братьев в трапезной и велел чтецу, брату Фиакриусу, монаху, обладавшему бархатным басом, прочитать им одну превосходную главу из книги «Summa Astesana». Они с наслаждением ее слушали, когда доложили о приходе Виглафа и Магауты, и мой друг, аббат, казалось, немного посетовал на эту помеху.
— Зачем они отвлекают нас, — молвил он, — от этой великолепной главы!
Но потом явил беднякам полнейшую кротость, хотя и с примесью удивления.
— Добрые люди, — сказал аббат, — какая нужда привела вас к нам, втроем, с этим на редкость[8] красивым ребенком? Теперь Виглаф должен был поднатужиться и наизусть отбарабанить затверженное — о доброчестных parentes, хворой племяннице и крещении, и речь его весьма развеселила монахов. Настоятель полагал, что они будут смеяться над грубою речью рыбака, а смеялись они как раз оттого, что он говорил столь вы-
80
чурно, и еще оттого, что это не вполне ему удавалось, и он, вопреки запрету, все-таки вставил словечки «bappen» и «сосунок».
— Послушайте только этого мужлана! — восклицали они.— Послушайте только его язык и его eloquentiam!1
Но аббат, хоть и сам улыбался, упрекнул насмешников и взял мальчика на руки с нежностью и восхищением.
— Случалось ли здесь, — молвил он, — на сем острову Санкт-Дунстане, видеть когда-либо столь благообразное и очаровательное дитя? Посмотрите на эти глаза, черные с синевой, на эту изящную верхнюю губку! А эти необыкновенно красивые ручки! Дотронувшись тыльной стороною перста моего до этой ланиты, я ощущаю нечто воздушно-благоуханное. Если это substantia2, то разве только небесная. Мне больно слышать, что дитя сие — своего рода сирота, ввиду хворости его далекой матери, и я могу только похвалить супругов Виглафа и Магауту за то, что они пожелали воспечься о нем и холить его как собственное чадо. Особенно же огорчает меня, crédite mi, что такое прелестное дитя еще не приобщено к христианству. Давно пора бы о том позаботиться. Сейчас мы все направимся с ним в церковь, к купели, и там я самолично его окрещу и буду ему, как меня просят, духовным отцом, нарекши его по себе — Грегориус.
Так оно и сталось, мой друг сделал все, как сказал, и мальчуган отныне носил его достославное имя — Грегориус, но обычно именовался попросту Григорс. Под сим именем он и возрастал среди мужичьих детей, и Магаута недурно за ним ходила, даже когда ее пышнотелая кротость давно уже сменилась худобой и сварливостью. Ибо аббат Грегориус исправно следил за тем, как она выполняет свои материнские обязанности, и почти не было дня, чтобы он не наведался в хижину Виглафа и не удостоверился в благополучии своего духовного сына. Но и всем
81
детям этой четы, да и ей самой, жилось теперь лучше, чем прежде, ибо двух марок, полученных Виглафом от аббата, с великим избытком хватало на содержание седьмого ребенка, и если дотоле жестокая бедность держала рыбака в своих когтях, то ныне он вырвался из них и сумел понемногу наладить свое хозяйство. До сих пор дела его шли из рук вон плохо, он тяжко трудился и едва сводил концы с концами, теперь же все изменилось. Он купил трех коров и двух свиней, и сверх того — право пасти скот на выгоне, пристроил к своей хижине коровник, свиной закут и горницу и сиживал там вместе с семьей за молочной похлебкой, колбасой и кислой капустой. Ибо еще он приобрел у общины полоску земли под репник и огород и, удобряя ее навозом, выращивал частью на собственную потребу, частью же для продажи морковь, капусту и полевые бобы, а горемычным рыбачеством занимался отныне только при случае — и все это благодаря счастливой находке!
Когда его жена Магаута увидела, что он строит коровник, она воздела руки горе́ и донельзя удивилась его затее при их бедности. Но он промолчал. Когда же вдруг появились две коровы и вскоре — еще одна, а после закут и свиньи, а затем горница, а потом еще огород, она удивлялась каждой обнове несказанно и громогласно:
— Муже, не рехнулся ли ты? Помилуй, муже, какая муха тебя укусила, и как же нам теперь быть с нашей-то нищетой? Муже, ответь бога ради, откуда у тебя деньги на всю эту роскошь? Никогда у нас не было ничего кроме черствого хлеба, а теперь у нас и колбасы, и пахтанье и мы богачи! Муже, тут что-то нечисто, вот ты уже разводишь морковь. Если не скажешь, откуда у тебя деньги, значит, они от дьявола.
— Разве я не посулил тебе ремня, — пригрозил ей муж, — если будешь спрашивать?
— Ты запретил мне спрашивать про ребенка, а не про деньги.
— Я вообще запретил тебе спрашивать, — сказал муж.
82
— Так-таки ни о чем нельзя и спросить? Ты наживаешь добро, наколдовал нам коров и свиней, а мне и спросить нельзя — с чьею помощью?
— Жена, — сказал муж, — еще одно слово, и я возьмусь за ремень, и ты у меня вдосталь накричишься.
Тут она замолчала. Но однажды ночью, когда он по супружески пожелал ее тощего тела, она не подпустила его к себе, пока он ей не поведал, как они с братом замерзшими руками выловили ребенка из волн и как сие обнаружил аббат, который и дал ему, Виглафу, две марки золотом, чтобы тот вырастил подкидыша для монастыря. Но чье это дитя и кем оно брошено в море, никто не знает. Затем, исполнив свою нужду, он сказал:
— Фу ты, дело не стоило того, чтобы выдать тайну! Если ты ее не сохранишь и начнешь twaddeln1, что Григорс — найденыш, я изобью тебя до полусмерти.
И она действительно хранила тайну и не осмеливалась twaddeln долгие годы, поелику боялась, что исчезнут колбасы и пахтанье, коли она не будет молчать. О приемыше она заботилась не хуже, чем о Флане, ее собственном младшем сыне, и когда аббат заходил к ним, чтобы посмотреть, все ли в порядке, она показывала ему двух благополучных молочных братьев. А он делал вид, будто ему одинаково важно благополучие обоих, и хвалил ее грубовато-нескладного Флана не меньше, чем чужое дитя, которое явно было сделано из более тонкого теста и которому тайно принадлежало все его внимание — не только потому, что мальчик отличался от детей рыбака благородством и красотой, но прежде всего потому, что он знал, в сколь великих грехах тот рожден, ибо подобные обстоятельства глубоко волнуют христианина и вызывают в его душе своего рода благоговение. Глядя, как идут впрок рыбаку деньги найденыша, аббат усмехался. Но он помнил, что сам он, по смыслу грамоты на писчей дощечке, обязан умножить
83
приданое ребенка и пустить его золото в рост. Много раз, начиная с первого дня, читал он сию дощечку, — в общем, наверно, ни одна дощечка, на свете не читалась так часто, как эта. Аббат Грегориус запирался у себя в келье, когда ее изучал, и на первых порах у него ушло немало времени, чтобы из робких иносказаний о родне дитяти (говорилось, что оно — брат и племянник собственных родителей) вывести греховную и потрясающую христианское сердце правду. Брат и сестра, какая мука! Господь сделал наш грех мукой своею. Грех и крест — они совокупились в нем воедино, ибо господь есть по преимуществу бог согрешивших. Потому-то пристанищем неприкаянного чада он и назначил эту свою твердыню — «Муку господню». Аббат глубоко сие восчувствовал, и ему была дорога его миссия. Первый наказ дощечки он уже выполнил и окрестил некрещеное дитя. Второй — научить ребенка грамоте, чтобы тот некогда прочитал свою дощечку,— собирался исполнить, как только мальчик, под присмотром жены рыбака, достаточно подрастет для ученья. Но нельзя было пренебречь и третьим — приумножить достояние подкидыша, семнадцать золотых марок, оставшихся от найденных в хлебах двадцати, после того как аббат отдал три из них рыбакам. Это весьма тревожило благочестивого мужа, ибо разве такая сумма уже сама по себе не есть пища адского пламени, даже если не надобно наживать лихвы и взимать плату за время господне? А ему все-таки очень хотелось учинить сие для своего крестничка, как наказано было в дощечке.
Посему он призвал к себе в келью монастырского келаря, брата Хрисогонуса, запер двери и молвил:
— Брате, у меня, твоего настоятеля, имеется некий в меру большой capitale1, сиротские деньги в золотых марках, числом семнадцать, доверительно мне врученные — не для того чтобы я просто положил их в кубышку мертвым богатством, но чтобы извлек из них прибыль. Писано же: благочестиву рабу надлежит не зарывати в землю данного ему от бога
84
таланта, но растити оный. Однако, по сугубом размышлении, ростовщичество опять же — не христианское дело, но грех. При таком разладе что бы ты мне посоветовал?
— Это проще простого, — отвечал Хрисогонус.— Вы отдадите деньги еврею Тимону Дамасскому, бородачу в островерхой шляпе, мужу верному и надежному, весьма искусному в ростовщичестве. В своей меняльной лавке он только деньгами и торгует, и вы представить себе не можете, какой он дока по этой части. Он пошлет ваши деньги хоть в Лондиниум, в Эссексе, и пустит их там в оборот, чтобы они принесли проценты на проценты, и если вы оставите ему ваш capitale на достаточно долгий срок, то он сделает вам из семнадцати марок золотом полтораста.
— Так ли это, — спросил аббат, — неужто он и впрямь умеет столь искусно доить время? А можно ли на него положиться?
— Нет на свете ростовщика, — отвечал монах,— честнее, чем санкт-дунстанский еврей.
— Хорошо, Хрисогон, в таком случае прошу тебя: возьми эти сиротские деньги и доставь их в лавку желтошляпного Тимона! Ступай тотчас же, дабы capitale поскорее начал расти, и принеси мне расписку!
Так наказал аббат монаху, но потом,-когда тот уже подошел к двери, еще раз его окликнул:
— Хрисогоне, — промолвил он,— я, настоятель твой, обладаю обширными познаниями, жить с которыми, credemi1 подчас не так-то легко. Я припоминаю не один собор и не один синод, запретивший ростовщичество как священникам, так и мирянам или, если не этим последним, то уж во всяком случае нам, священникам. Посему, отдавши деньги еврею, почти за лучшее отправиться в бичевальню и принять умеренное наказание очищения ради.
— О нет, — возразил монах. — Мне уже за шестьдесят, и я с великим трудом выдерживаю удары бича, даже если наношу их себе осторожно. Вы же на
85
десять лет моложе меня и деньги-то ваши. Посему, коли вы печетесь об искуплении, вам придется самим побывать в бичевальне и воздать себе причитающееся.
— Ступай с богом! — сказал аббат и стал снова читать дощечку.
ПЕЧАЛЬНИК
Мальчик Григорс знать не знал обо всех этих делах и заботах, да и о себе и о своих обстоятельствах он тоже знал лишь то немногое, что видел собственными глазами. Он рос среди детей рыбака, которые считали его своим братом, как и он их — своими братьями и сестрами, да и у жителей острова, если это их вообще занимало, он слыл младшим сыном Виглафа и Магауты, ибо в выдумке аббата, будто дитя привезено с Санкт-Альдгельма, от хворой дочери Этельвульфа, не было вовсе нужды или, если какая нужда и была, то сведенья эти быстро изгладились из памяти островитян. Он носил такую же грубую одежду, как его братья, и в три года начал говорить так же, как они и их родители — «What shall быти овамо» и «Мне оно ни к чему»; разве что от аббата, его крестного отца, который часто их навещал, он научился вставлять в свою речь словечко «credemi», так что, бывало, скажет: «Флан, credemi, have not stolen1 у тебя твоих мячиков», отчего братья, а в конце концов и родители, на первых порах в шутку, а затем и не в шутку, привыкли называть его «Кредеми». И он откликался на это имя. Кредеми-Григорс был хорош собою. Казалось, что губы его не созданы для грубой мужицкой речи, слетавшей с них, его мягкие каштановые волосы не походили на свалявшиеся соломенные вихры сорванцов из рыбачьей хижины, а его улыбка — на их ужимки, и ничего общего с их ревом не имели его тихие слезы, когда он плакал от боли, В пять лет он сильно вытянулся и приобрел стройность, все больше
86
и больше отличаясь от местных детей и сложением, и вылепкой рук и ног, осанкою, и походкой. Миловидный, с серьезным, приятным лицом и строго очерченным ртом, он уже тогда часто склонял к плечу свою продолговатую головку и, держась рукой за другое плечо, скосив и потупив глаза, мечтательно куда-то глядел из-под темных ресниц.
В шесть лет он перекочевал в монастырь; аббат нашел, что время приспело; ибо этот добрый человек спешил научить мальчика грамоте. Он отнюдь еще не собирался ознакомить ребенка с пресловутой дощечкой, но ему не терпелось увериться, что уже скоро тот будет способен ее прочитать. Расставанье с родными, по-видимому, не явилось особым событием ни для них, ни для Григорса. Ведь путь ему предстоял недалекий: от отцовской хижины к монахам рукой подать. И все же разлука была глубже, перемена в его жизни значительнее, чем думалось обеим сторонам при этом безгорестном прощании, и хотя он мог общаться с семьею сколько угодно, пропасть между ними от месяца к месяцу становилась все шире и шире, так что родные по большей части молчали, когда он захаживал к ним.
Он был теперь монастырским школяром, заменил свою пестревшую заплатами рубаху подобием стихаря, ровно подстригая волосы на затылке, отпустил их в длину над ушами и содержал в опрятности руки и ноги. Читать и писать он с великою быстротой научился у патера Петра-и-Павла, незлобивого брата, который, как ученый и поэт, именовался Гальфрид Монмутский и был попечителем и наставником пяти-шести воспитанников «Agonia Dei», ночевавших вместе с Григорсом в сводчатой спальне. Они превосходили его годами и уже знали грамоту, когда он к ним присоединился; но вскоре он сравнялся с ними в умении владеть грифелем и пером, а затем, к радости Петра-и-Павла, решительно опередил их в малых сциенциях, художествах словесности, счета и пения, ибо мальчики также певали латинские величанья, которые сочинял и сопровождал игрою на
87
лютне упомянутый брат. Григорс тоже обучился игре на лютне, а равно и латыни.
Его речь стала чиста, как его руки и ноги, и вскоре он при всем желании, совсем не из высокомерия, не мог говорить грубым мужицким языком. Когда по восьмому и десятому году он приходил в гости к поселянам, он из вежливости старался употреблять их слова, но таковые звучали в его устах неестественно и были ему не к лицу, так что все только морщились: он — от стыда, а они — от злости, ибо им казалось, что он над ними глумится. С особенной неприязнью, искажая в гримасе толстые губы и даже сжимая кулаки, взирал на него Флан, его молочный брат, малый с шарообразной головой на короткой шее и такими же круглыми, похожими на лущеные каштаны глазами.
Это причиняло Григорсу боль, ибо на уме у него не было ничего недоброго, и если он все же несколько зазнавался, то совершенно непроизвольно. Успехи его были отменны и доставляли радость Петру-и-Павлу, а также другим братьям, его обучавшим, и аббат, проверяя знания крестника, только диву давался. В одиннадцать лет он был отличный грамматикус, а в последующие годы разумение его настолько окрепло, что и divinitas1 стала ему вполне понятна. Это наука о божестве. Он читал свиток за свитком, и, что бы ему ни преподавали, он быстро во все вникал, схватывал самую суть и сразу овладевал предметом. В пятнадцать и шестнадцать лет он слушал de legibus, науку, трактующую о законах и требующую весьма ясного ума. Молодой Кредеми усваивал ее играючи и вскоре сделался таким законником, каких поискать надо. Замечу, однако, и притом с полной уверенностью в своей правоте, что все эти знания он приобретал без особого рвения. Добавлю также, хотя слова мои, может быть, прозвучат здесь загадочно, что если причиной отчуждения его от родной хижины и послужила изысканная ученость, то существовали еще и другие вещи, чувства и мысли, кото-
88
рые подчас даже отбивали у него вкус к монастырской науке и книгам, и ему втайне казалось, будто он не только отличается породой и складом от своих кровных, но по сути не находит себе места и среди монахов и школяров, будто не по нем его платье, его званье, все его бытие, где молитвы сменяются корпеньем над книгами, будто он здесь такой же чужой, как и там.
Было ли это высокомерием или греховным чванством? Но если он не гордился успехами в ученье, не придавал им никакой важности и не считал их своим настоящим, почетным делом, то что же еще мог он вменить себе в заслугу? Допустимо ли гордиться собою просто так, ни с того ни с сего, независимо от своих дарований, и, стало быть, считать, что ученость — удел тех людей, которым она нужна, чтобы тоже что-то собой представлять? А он держался со всеми учтиво и скромно, не из подобострастия, но из врожденного добронравия. В пятнадцать— шестнадцать лет он вырос в красивого юношу — стройный, с узким лицом, прямым носиком, изящным ртом, прекраснобровый, овеянный мягкой грустью. Жители острова любили его. Когда он по тому или иному монастырскому поручению приходил к ним в деревню, они говорили с ним улыбаясь, а за спиной многозначительно перешептывались; он это подмечал без удовольствия и все же с какой-то особой жадностью. Беседуя с кем-нибудь, он в то же время прислушивался к речам тех, кто стоял сзади и рассуждал о нем, отнюдь не стараясь не быть услышанными.
— Это, — говорили они, — Грегориус, школяр, аббатов крестник, youngster1 прямо-таки удивительный, хотя всего-навсего сын нашего Виглафа и нашей Магауты, кто бы подумал! Grammatica2 и divinitas прозрачны для него, что твое стекло, а ведь нисколько не важничает и всегда приветлив с людьми при таком уме, ну и lad3. Он .и сам еще станет аббатом,
89
вот увидите, и мы все, дайте срок, будем целовать ему руку. Да мы хоть сейчас поцелуем ее не в обиду себе, ибо (не знаю, слышит ли он меня, или нет) есть в нем что-то такое, перед чем нашему брату ничего не стоит и, пожалуй, даже приятно склониться; бог весть, откуда это у него! Не знай я наверняка, что его родила хижина, никогда бы я этому не поверил, и, право же, лучше бы мне о том не знать. Просто-таки жаль, что он не может похвастаться благородным происхождением, ибо, окажись оно у него, он, ей-ей, сгодился бы в правители какой-нибудь богатой страны — и так далее, в этом же смысле.
С трепещущим сердцем прислушивался Григорс к таким разговорам. Не то чтобы они его услаждали; они его даже мучили, как ни жадно он к ним прислушивался, и казались ему злоречивым намеком на какую-то неправомерность его рождения. Они звучали как подтверждение его собственных дум и обостряли внутренний разлад, все больше и больше его тревоживший. Когда он вот так стоял, как я вам описываю, склонив к плечу голову и мечтательно глядя куда-то из-под ресниц, — он, представьте себе, мечтал о рыцарстве. Рыцарский бой, ратная служба, вассальство и гордая куртуазность стали ему знакомы из книг, которые, отдельно от ученых трактатов, также хранил монастырь: из преданий о Роланде и короле-бретонце Артуре с его пышным двором в Дианасдруне. Когда он читал их, у него, как говорят поэты, «вздымалась левая грудь». Он мечтал быть в числе Артурова джентльфолька и, лежа в одиночестве на морском берегу, в своем стихаре, головою на камне, видел себя в другом наряде,— в пурпурном плаще, в наплечнике и нагруднике, видел, как он приближается к кринице в густом лесу, где на могучем древе висела золотая чаша. Стоило ее взять, зачерпнуть воды из криницы и, не сходя с места, окропить изумрудную лещадь, как в лесу разражалась гроза и буря, неминуемо губившая любого смельчака. Однако он, Григорс, остался невредим среди молний и рушившихся стволов и спо-
90
койно встретил одетого в латы властелина криницы, который, как и следовало ожидать, призвал его к ответу. Разгневанный властелин криницы был вдвое выше и вдвое сильнее его, но не обладал такой собранностью в бою, как Григорс, а потому отрок его убил, после чего снискал благорасположение добродетельной вдовицы поверженного[9].
Вот каковы были его мечты; но если испытания, коим он мысленно себя подвергал, его и будоражили, то они, собственно, не сами по себе занимали и омрачали его душу. Так уж он был сотворен, что не только мечтал, но одновременно призывал себя к ответу за свои мечты, подобно тому как властелин криницы призвал его к ответу за его дерзость. То, что он лелеял эти мечты и непрестанно грезил о рыцарстве, то, что его помыслы неизменно устремлялись к щиту, что ему так хотелось поднять собственный щит, стиснуть локтем ратовище копья, дать шпоры коню и скакать, скакать — вот что поражало Григорса и заставляло его думать о себе и своем положении. Смешно, когда кто-нибудь, не зная чужого языка, утверждает, что внутренне знает его, отлично владеет им и говорит на нем с естественной легкостью. Но именно так обстояло дело у Григорса с верховой ездой. О ком бы ни говорили, что он великолепно сидит в седле, делает вольты, затягивает повода, жамблирует, — юноше всегда казалось, что у него самого это получится ничуть не хуже, а то, пожалуй, и лучше. Он ни с кем не делился такими мыслями именно потому, что находил их смешными, если на все взглянуть со стороны. Но для него тут не было ничего смешного, для него это была правда, которая, как и разговоры за его спиной — что он, мол, не походит на сына хижины, — лишь омрачала ему душу, заставляя его сомневаться в правомерности его рождения.
Наверно, поэтому на нем и лежал всегда флер печали, что, впрочем, только красило его и скорее усиливало, чем уменьшало юношеское его обаяние. А впрочем, не рискнуть ли мне на более смелое утвержденье, не написать ли так: всей своей душою,
91
да, поистине, всей своей плотью и кровью он чувствовал, что если жизнь его в чем-то неправомерна, то и сама ее правомерность опять-таки крайне неправомерна? Чем доказать столь смелое утвержденье? Но тень грусти окутывала юношу, и братья «Муки господней», равно как товарищи Григорса по ученью, называли его «печальник», а если были родом с материка, из норманских мест, — то «Тристан озабоченный, qui onques ne rist1». Таким образом, кроме «Кредеми», у него имелась еще вторая кличка, и, право же, он носил ее без стыда, ибо, называя его «печальником», никто не хотел сказать, что он неженка или ханжа. Да оно и не вязалось бы с его тайными мечтами о рыцарстве! Телосложения он был скорее тонкого, чем грузного и могучего, легкорукий, стройный в ногах. Но в соревнованиях школяров на гравии монастырской площадки и на лугу, где молодежь острова упражнялась в бросании мяча, в борьбе, прыжках и фехтованье на палках, в метанье копья и в беге, он, при всей своей хрупкости, добивался большего, чем иные при более мощной стати — и притом по той же причине, по какой он мысленно одолел властелина криницы, то есть попросту потому, что, не в пример прочим, обнаруживал величайшую собранность и, в отличие от них, вкладывал в состязанье все свои силы, не только телесные, но и другие.
Если Григорс-печальник и без того был хорош собою, то во время игрищ он становился прямо-таки красив, по причине только что упомянутой, и это ни от кого не могло укрыться. На его сосредоточенный лоб ниспадали каштановые волосы, более мягкие, чем у других, а на узком лице с заметно выпуклой верхней губой, вплотную прижатой к нижней, и тонкими продолговатыми ноздрями — на этом лице, которое не багровело и не вздувалось от напряженья, как у его товарищей, а наоборот, приобретало бледность и матовость, горели с какой-то особенной силой пронзительные голубые глаза: они подмечали любое движенье противника, любую его уловку, и молние-
92
носно, пружинясь всем телом, Григорс встречал ее, пресекал, отражал, добивался перевеса и одерживал победу. Все единодушно признали бы его первенство в играх, если бы не его молочный брат Флан, — этот ему не уступал.
Флан, как я уже говорил, был малый могучего телосложения, с короткой шеей, коренастый и широкогрудый. Он давно уже стал подручным отца в рыбной ловле, а равно и в крестьянской страде на пашне, в хлеву и свинарнике, что отвлекало его от игр не меньше, чем усердное учение Григорса. Но всегда, когда последний участвовал в игрищах, Флан тоже приставал к молодежи и, благодаря своей силе, оспаривал у него преимущество, так что никто не мог решить, кто же из братьев сильнейший. Григорс метал копье на редкость далеко, гораздо дальше, чем позволяли предположить его легкие руки, но затем совершенно рядом в землю, дрожа, вонзалось ратовище Флана, не дальше, однако же, ни на пядь и не ближе, — никакой судья не сумел бы тут установить чье-либо превосходство, как и в беге, когда они завершали его в точности одновременно, едва дыша, хотя одного несли мускулисто-кряжистые, а другого — стройные ноги: они вместе касались грудью шнурка, и приходилось выкликать сразу два имени, ибо победителей было двое. Всем мальчикам хотелось, чтобы в игру вступили Григорс и Флан: тогда она становилась напряженнее, потому что эти предельно напрягавшиеся соперники заставляли и прочих напрягать свои силы и душу. Когда гоняли мяч ногами и головой, Флан никогда не играл на той же стороне, что и Григорс, и это все одобряли, ибо оба отряда желали иметь одного из братьев своим вожаком, зная, что его ловкость сделает их более ловкими в нападении, в беге, в гашении удара и защите ворот — одиннадцать игроков по обеим сторонам поля сливались, казалось, в единое целое и с точностью часовых колесиков передавали друг другу кожаный шар, так что последний одинаково часто пролетал между левыми и между правыми колышками.
93
Однажды этих несходных и все же сходно искусных в игрищах братьев подстрекнули побороться перед лицом всей молодежи, и эта борьба протекала странно. Флан, будучи сильнее, но не искуснее, быстро повалил Григорса, однако тот, упершись в землю ногой и руками и особенно головой, не давал положить себя на спину; повернуть его и прижать лопаткой к траве Флану не удавалось; видно было, что полупобежденный скорее позволит проломить себе череп, чем перестанет упираться. Так длилось несколько минут, показавшихся зрителям едва ли не добрым часом, и за этот срок руки Флана набухли от усилия. Затем случились две вещи сразу, или, вернее, столь быстро одна за другой, что они, можно сказать, совпали во времени. В тот миг, когда эта сила на какую-то ничтожную долю уменьшилась и чуть-чуть отступила, чтобы возобновить натиск, Григорс оттолкнулся от земли головой и ногой, которая служила ему опорой, и вместе с собой, подминая Флана под себя, бросил обвившего его брата на мятый дерн, так что лопатка противника чуть коснулась земли — но лишь на мгновенье, ибо сразу же, прежде чем следивший за ними судья успел выкликнуть имя Григорса, Флан, не ослабивший натиска, снова повалил победителя и прижал его лопатку к траве: таким образом он победил напоследок, а Григорс сначала, и опять нельзя было назвать имени победителя, иначе как выкликнув и то и другое.
Я вовсе не интересуюсь борьбой, да и вообще игрищами. Мне кажется, что я даже роняю свое достоинство, как и достоинство места, где я нахожусь, и стольца, за которым пишу, повествуя о состязаниях каких-то там мальчишек-островитян у далекого канала. И все же сие согревает мне душу и странно захватывает воображение. Да ведь и в самом деле сноровка Флана еще поразительней ловкости Григорса, ибо этот был из особого теста, а Флан ничем не отличался от остальных, и такой же телесной силой, как он, обладают многие. Однако, говоря между нами, он тоже боролся не только телесною силой, о нет, но
94
еще и другой. И если вы спросите, какая же это добавочная сила его вдохновляла, то отвечу вам: ненависть. Ненависть к Григорсу, его брату, — вот что вдохновляло его и уравнивало с ним в игре. Больше того, эта ненависть заставляла Флана досадовать и злиться, что его игра с Григорсом была только игрой, а не жестокой борьбой — не на живот, а на смерть[10].
УДАР КУЛАКОМ
Поэтому приключилось вот что. Однажды, когда молочным братьям было уже без малого по семнадцати лет, случилось так, что они почти одновременно оказались на берегу, неподалеку друг от друга, примерно на том самом месте, где некогда благополучно пристала ладья Этельвульфа и Виглафа. Дело было летом, после полудня. Солнце медленно склонялось над морем, но еще не румянилось и не багрило вод, которые не то что безжизненно, а мирно, набегая на отмелях длинными и мягкими грядами, синие, с серебристыми блестками, простирались в широкую даль. Хорошо было здесь в этот час. Грегориус пришел первым, воспользовавшись досугом. Он сидел на песке, прислонившись спиною к большому камню, вытянув ноги, обутые в просторные кожаные сандалии, и читал книгу, но иногда поднимал голову и смотрел, как кружат и парят чайки, или окидывал глазами море вплоть до четко обозначенного окоема, перед которым окраска воды густо темнела и который закрывал вид на страны мира. Между прочим, на указательном пальце правой руки он носил перстень с печатью, каковой недавно подарил ему его отец во Христе, аббат, и на темно-зеленом камне коего был вырезан агнец с крестом.
Немного позднее пришел Флан. Шагах в тридцати от места, где сидел Григорс, он стал хлопотать над отцовской лодкой, вытащенной на берег, — уже не той, которую некогда столь озабоченно поджидал аббат Грегориус: эта была больше и ладнее, прекрасно-выпуклая, с красивым бушпритом, утлегарем и
95
прямым парусом, снаружи приятного темно-красного цвета, и даже с названьем, красовавшимся у форштевня. Ибо если ее предшественница вовсе не имела названья, то сия именовалась «Непорочная Ингуза», что мог прочесть всякий, кто умел читать. Флан не умел, но хорошо знал это название с чужих слов.
По приходе он бросил на Григорса хмурый взгляд, а затем занялся сетями, чинил весло, наконец с глухим шумом швырнул его в лодку, отошел от нее и, насвистывая, лениво играя своею силой, вразвалку побрел по кромке берега в сторону брата. На Флане были только короткие штаны да свободная, распахнутая на груди холщовая куртка, рукава которой едва доходили ему до локтей. Когда он поравнялся с Григорсом, он резко, нимало не опасаясь причинить боль себе самому, оттолкнул левой ногою вытянутые ноги сидевшего, словно это какой-то ненужный, докучливый предмет, и пошел дальше. Григорс, вскинувши брови, поглядел ему вслед.
— Прости, Флан, — крикнул он брату вдогонку,— что мои ноги загородили тебе дорогу!
Флан пропустил его слова мимо ушей. Сделав еще несколько шагов, он повернул назад. Когда Григорс это увидел, он согнул ноги в коленях и поставил их на песок, чтобы они не мешали Флану, даже если тот пройдет совсем рядом. Но на сей раз он остановился перед Григорсом, так что этот опустил книгу и вопросительно на него взглянул.
— Читаешь? — спросил Флан.
— Да, читаю, — отвечал Григорс, улыбаясь и пожимая плечами, словно чтение — какая-то странная его причуда, и добавил:
— А ты, как я видел, навел порядок на «Непорочной Ингузе»?
— Это тебя не касается, — сказал Флан, качнув коротким зашейком. — Что же ты читаешь?
— Можно было бы сказать, — ответил Григорс, — что тебя это тоже не очень касается. Но все-таки книга, которую я читаю сейчас, носит название «De laudibus sanct’ae cruris».
96
— Греческая? — спросил Флан, снова качнув головой.
— Нет, латинская, — ответил Григорс, — и называется «О восхвалениях святого креста». Так, впрочем, следовало сразу сказать. Брат Петр-и-Павел велел мне читать ее в свободное время. Это, знаешь, стихи, снабженные хорошими прозаическими примечаниями.
— Нечего тебе boasten и swaggern1 передо мной, — обрезал его Флан, — какой-то ученой дребеденью насчет прусического мычанья! Ты ведь хочешь посрамить меня своей болтовней и болтаешь нарочно, чтобы дать мне понять, насколько ты умнее и благородней, чем я.
— Да нет же, Флан, — возразил ему Григорс. — Клянусь тебе, ты ошибаешься. Когда ты спросил меня, что я читаю, я почувствовал прилив крови к лицу, и, несомненно, со стороны было видно, что я покраснел. Ты не мог этого не заметить. Я покраснел, как девица, оттого, что ты заставил меня говорить с тобою о книге и о латинских стихах. Я говорил неохотно, мне было стыдно, и я подосадовал на твой вопрос, ибо я отнюдь не хочу держать себя вызывающе.
— Ага, тебе было стыдно! Стыдно за меня, стыдно передо мною! Да знаешь ли ты, что эта самая большая обида и самый оскорбительный вызов? Я затем и спросил, чтобы показать тебе, что ты не можешь рта раскрыть, не можешь даже жить на свете, не бросая мне вызова! Но ты говоришь, что не хочешь этого, Ты, наверно, не хочешь, чтобы я вызвал тебя на бой?
— Ты этого не сделаешь.
— Я уже это сделал! Но ты поджимаешь ноги. Зачем ты поджал ноги, когда я повернул назад?
— Потому что не хотел, чтобы ты снова споткнулся.
— Нет, тогда бы ты подошел ко мне, призвал меня к ответу, потребовал удовлетворения, как
97
подобает мужчине и дюжему парню. А ты поджимаешь ножки и скрючиваешься, эх ты, рохля, сопливый, трусливый попик и рохля!
— Этого тебе не следовало говорить, — сказал Григорс и медленно поднялся.
— А я это говорю! — вскричал Флан. — Говорю потому, что ты по поповски виляешь, и не хочешь понять, и не хочешь признать, что пора нам с тобой посчитаться по чести, раз и навсегда, чем бы дело ни кончилось, по чести, каков бы ни был исход, — понимаешь? Ибо так продолжаться не может! Ты рожден в хижине вместе со мной, ты — такой же сын Магауты и Виглафа, как я и как прочие, а на, поди же — не такой же. Ты словно вышел из кукушечьего яйца, у тебя иное тело, иная жизнь, в тебе есть что-то несносно иное, черт его знает что именно, и ты осмелился пробиться к чему-то более благородному и высокому— добро бы ты этого не знал! Но у тебя хватает дерзости это знать и даже хватает дерзости быть ласковым с нами! Если бы ты нам дерзил, это было бы куда меньшей дерзостью с твоей стороны! Ты крестник аббата, тебя, помесь хижины и гордыни, он по шестому году взял в монастырь, ты обучен и грамоте, и науке, и всякой поповской блажи, но от поры до поры ты приходишь к нам в гости, и мы замечаем, что ты не хочешь, чтобы мы заметили разницу между нами, — твой нежный ротик подражает нашему говору, а это несносно, ибо мужицкая речь пристала только мужицкому рту, и если так говорят нежным ротиком, то это — издевка! Издевка — самое твое бытие, ибо ты вносишь в мир беспорядок и путаницу. Будь ты этаким святошей, slack и flimsy1, обабившимся монашком, хилым и немощным, то любой честный парень сказал бы: «Ладно, ты нежненький, а я сильный. Я тебя не трону, твоя слабость для меня священна!» Но ведь ты, как вор, добываешь откуда-то мощь, и в играх ты так же искусен, как я, в точности так же, как я, хотя я силен своей силой, а ты — своей нежностью, — этого не стерпеть чест-
98
ному парню, и поэтому я говорю: «Нам пора посчитаться не на шутку, без дураков, здесь же на месте, в простом кулачном бою и до решительного конца», Я бросил вызов и словом и пинком, и теперь тебе нельзя отвертеться.
— Да, конечно, нельзя, — сказал Григорс, и лицо его похорошело: смуглое, оно стало строгим и бледным, и верхняя губа юноши чуть-чуть прикрыла нижнюю. — Ты хочешь, стало быть, чтобы мы здесь наедине, без судьи и свидетелей непременно сразились на кулаках и дрались до конца, пока один из нас не перестанет сопротивляться?
— Да, я хочу! — крикнул Флан и быстро сорвал с себя куртку. — Кончай, кончай, кончай сборы, чтобы я не ударил тебя прежде, чем ты примешь стойку, ибо я не могу больше ждать и не обязан щадить твою проклятую нежность, крадущий силу! Я отколочу тебя, я разобью тебе морду, я расквашу тебе желудок, я отшибу у тебя селезенку, так кончай же скорее сборы, чтобы я покончил с тобой!
— Позаботься лучше о собственной селезенке! — сказал Григорс; снимая с себя стихарь и опоясываясь рукавами приспущенной рубахи, он взглянул на живот Флана, туда, где находится селезенка.
— Я готов, — сказал он и, легкорукий, мальчишески тонкий, встал против могучего Флана. Тот бросился на него, наклонив вперед голову, как бык, и всадил кулак в руку брата, которая, прикрывая лицо и грудь, двигалась вверх и вниз, меж тем как другая его рука наносила удары, впрочем, не тяжелые, — удары, сыпавшиеся на шею, висок и ребра Григорса, были тяжелее, хотя часто стремительный кулак Флана, промахнувшись из-за увертливости противника, летел в пустоту и увлекал за собой нападающего, так что последнему тоже изрядно доставалось при неудачном выпаде. Это была сумятица неистовых кулаков, подергивающихся голов, растопыренных, упирающихся, топочущих ног, сталкивающихся, переплетающихся, выпрастывающихся и снова сплетающихся тел, — случалась, правда, и передышка, когда братья, подпрыгивая, обороняясь, примериваясь, подстерегали
99
друг друга, но лишь для того, чтобы вновь схватиться, вновь наносить и вновь получать удары, промахиваться и попадать в цель, впрочем, не так уж долго.
Не так уж долго, ибо Флан, который, по-видимому, несколько перерасходовал свои силы, бросая вызов, и был ослеплен яростью, все время помнил слова ненавистного брата, посоветовавшего ему заботиться о собственной селезенке, и дюжему парню все время казалось, будто Григорс, с его тускло горевшими глазами на неизменно спокойном и необычайно сосредоточенном лице, метит именно в это место, — особенно в одно кратчайшее и всезавершающее мгновенье, когда тот, пользуясь правой рукою лишь для защиты и глядя в злосчастную точку, явно направил на нее левую, которой отлично владел. Но так как Флан сразу же принял надлежащие меры, чтобы отвратить удар, правая рука Григорса, без всякого преднамеренья, опустилась на нос противника — опустилась молниеносно и с такой силой, какой Григорс дотоле не обнаруживал, да и не пытался выказать, и раздавила его: в самом деле, нос был разбит, переносица треснула, удару придал особую тяжесть перстень с крестом и агнцем. Нос Флана сплющился, по подбородку у него потекла кровь, лицо его стало неузнаваемо; тараща глаза на безобразную, мокрую опухоль, он задрал голову и вслепую махал кулаками. Григорс, испуганный своей грубостью, отступил далеко назад. Флан бросился за ним.
— Продолжим! — ревел он. — Защищайся, выблядок![11]
И при этом плевал кровью, которая текла по его губам, прямо в лицо Григорсу. Но тот по-прежнему отступал и не защищался, а только не подпускал к себе бесноватого, потерявшего человеческий облик полуослепшего противника.
— Нет, Флан, — отвечал Григорс; он и сам задыхался, под глазом у него горел фонарь, да и тело было все в синяках.— Ни за что! Назови меня трусом, но сегодня я больше не буду драться, отложим наши счеты до следующего раза. У тебя сломана пе-
100
реносица, и бою конец, и тут уже не до драки: сейчас тебе нужны холодные примочки и любое кровоостанавливающее средство, которое найдется у вас в хижине. Пусти, я оторву лоскут от своей рубахи и смочу его морскою водой.
И в самом деле, когда Григорс отказался сражаться, Флан, помедлив, последовал его совету. Так уж устроено, что перелом кости удивительным образом потрясает всю человеческую syst'hema1. Флан вполне мог бы упасть в обморок, и действительно, черная тень обморока уже мелькнула перед его глазами, но он был слишком крепок, чтобы лишиться чувств. Он отошел в сторону, туда, где прежде сидел Григорс, поднял свою куртку и, прижав ее к лицу, сел на землю.
Когда Григорс приблизился к нему с мокрым лоскутом, он отмахнулся от брата яростным движением плеча и даже попытался, сидя, толкнуть его ногой, но это неистовство причинило его разбитому носу такую боль, что Флан поневоле закричал во весь голос: «Ай! Ай!»
— Вот видишь, вот видишь! — пожалел его Григорс, однако уже не рискнул подойти к нему вторично с мокрою тряпкой. Флан посидел еще несколько мгновений, затем встал и, не отнимая от лица пропитанной кровью куртки, медленно побрел по траве дюн, — по песчанке, к родительской хижине.
ОТКРЫТИЕ
«Плохо!—думал Грегориус, стоя на берегу и глядя вслед брату. — Как это плохо кончилось и для меня, и для него, но для меня, пожалуй, совсем плохо. Ибо теперь виноват я, хотя сначала виноват был он, выказавший столь самозабвенную воинственность. Хижина меня проклянет, а аббат накажет, я должен буду поститься и стоять на коленях за то, что нанес родному брату такое увечье, от которого он, боюсь,
101
никогда уже вполне не оправится. Но что мне оставалось делать? Ведь он же хотел, чтобы мы посчитались не на шутку, до решительного конца, и, значит, в любом случае я пострадал бы, либо телом, либо душою, и, может быть, лучше бы мне пострадать телом, чем вечно нести вину за его разбитую переносицу. Но что поделать, если моему духу присуща в бою столь необычная собранность? У брата Кламадекса, который неустанно испытывает природу и в этом своем занятии тайно доходит до колдовства, есть лощеное чечевицеобразное стекло, собирающее солнечные лучи в такой степени, что если подставить под него руку, то сразу отдернешь ее, обжегшись, а если навести стекло на бумагу или на сухую траву, то они начнут тлеть, побуреют, задымятся и вспыхнут — а все от сосредоточенья лучей. Точно так же обстоит дело и с моим духом в бою, и потому-то нос Флана, увы, разбит, — я знал это наперед, о да, как только он вынудил меня драться по-настоящему, я уже знал это с полной определенностью, и, может быть, мне следовало его предупредить, но ведь в пылу самозабвенья он бы все равно не послушался. Что же мне делать теперь? Исповедаться сначала аббату? Нет, пойду-ка я лучше за Фланом и, насколько это возможно, оправдаюсь перед родителями».
И, надев свое платье, он на некотором расстоянии от раненого бойца стал подниматься к отцовской хижине; он ускорил шаг лишь под конец, когда Флан уже миновал огород, разбитый у самого дома, и переступил порог. Магаута оказалась на месте, сразу же стало слышно, что встретила Флана именно она. Конечно, она увидала кровь, конечно, отняла от его лица куртку, недоуменно причитая, конечно, ужаснулась его носу, который меж тем, разумеется, еще больше распух и являл собою страшное зрелище, и, конечно же, разразилась громкими воплями.
«Так и должно быть, — думал Григорс. — В точности так она и должна вопить, коль скоро уж он застал дома именно ее. Лучше бы Виглаф тоже был дома. Он взглянул бы на дело разумнее. Но он, наверно, на морковном поле или на рынке. Дам ей на-
102
кричаться, подожду, пока Флан все объяснит, а потом уже покажусь».
И стал за отворенной дверью. Изнутри доносилось:
— О небо, о боже правый и всемогущий! Флан, Флан, дитя мое, на тебе кровь, ты весь в крови! Что с тобой, что случилось, на кого ты похож? Дай поглядеть, о дай же поглядеть! Нос? О lackadaisy!1 О, горе мне! О, несчастный день! Увы, увы, мои глаза меня не обманывают! Носа нет, нос проломлен, это уже не нос! Флан, дитя мое милое, что произошло — fisticuff, quarrel и scramble?2 С кем, с кем? Кто сделал это с моим ребенком? Я хочу знать!
— Да ведь не так уж и важно, кто это сделал, — прогнусавил Флан в расплюснутый нос. — Чем плакать, дай-ка лучше красной хлопчатой бумаги и воды.
— Не плакать?! Хлопчатой бумаги, примочку? Это — пожалуйста, это — изволь! Но не плакать? Чтобы родная мать да не плакала и не смела спросить, кто над тобой надругался, кто искалечил тебя на всю жизнь? О, горький день! Какой день, какой день. Увы, мои глаза меня не обманывают! Кто это сделал? Кто обидчик?
— Проклятый Кредеми,— выпалил Флан, — так и знай! Целился в селезенку, а стукнул в нос, хитрая бестия! Я хотел драться дальше, но он увильнул.
— Кредеми? Григорс? Да как он смеет? Что ты ему сделал такого?
— Спросил, что он читает, а он в ответ: «Сейчас отшибу тебе селезенку», — и когда я ее прикрыл, он двинул меня по носу. Если нос теперь не выправится и я всю жизнь буду мычать, как коза, то учинил это твой любимый сын, попик, мой брат.
Но тут плотину поток свалил и сладить с водою не стало сил:
— Ха, ха, ха, ха! Мой сын, твой брат? Да не сын он мне вовсе, не я его родила на свет, и не от твоего
103
отца он зачат, он такой же тебе брат, как свинья в закуте, не верь этим дурацким басням, этому вранью, это mockery!1 Горе мне, бедной женщине! Приблудший проходимец, морской бродяга, проклятый костедробитель, злодей и душегуб! Такова его благодарность? Для того ли я растила его вместе со своими детьми, этого негодяя без роду, без племени, приплывшего бог весть откуда? Для того ли кормила я его грудью, в ущерб другим, чтоб теперь избивал он, чтоб теперь убивал он моих же детей! Мои дети — люди как люди, у них есть и дом и родные, а у него, у найденыша, на острове нет родни! Ведь никому невдомек, кто он такой и откуда взялся! Но я, да поможет мне бог, заявлю на весь мир, я, да пособит мне Христос, скажу где угодно, что он — подкидыш хоть и пролез в господа, подкидыш, несчастный подкидыш, и все тут! Он об этом забыл, ему еще никто не выкладывал, как нашли его, убогого, в бочке, привязанной к лодке, среди пустынного моря! Но коль скоро он изувечил мое дитя, я это заявлю, я буду кричать об этом во весь голос! Горе мне! Что возомнил о себе незаконнорожденный прохвост! Черт принес его на мою голову! Уж я-то знаю, откуда он родом, — из бочки, из волн морских! Он, наверно, надеялся, что все будут вечно молчать о его позоре! Ха-ха! Ему только того и надо, он преспокойно бы чванился под защитой вранья! Проклятье рыбам, которые не сожрали подкидыша! Ему повезло, как всегда везет незаконнорожденным. Он попал прямо в руки аббату; если бы тот не отнял его у твоего отца и не стал его духовником и крестным, Христос свидетель, мы бы приструнили найденыша! Он пас бы у нас коров и свиней, чистил бы хлев своими ручками! Ну не чудак ли твой отец, если он, выловивший из волн ребенка озябшей рукой, уступил его аббату и позволил ему вырасти наглым неженкой, вместо того чтобы завладеть находкой и сделать мальчишку своим батраком, да, да, батраком, корпящим в навозе.
104
Так голосила Магаута. Наконец в хижине отзвучали ее вопли и брань. За дверью стоял Григорс, он учащенно дышал, глаза его были широко раскрыты. Он слышал все. Каждое слово звенело у него в ушах, жгло его мозг. Что это, как это понять? Сумасшедшие выдумки оскорбленной матери? Вздор и огульная хула? Нет, материнская ярость такого не выдумает: из бочки, из волн, приблудший подкидыш, найденыш, чужак. Нет, это не ложь! Все так и есть. — Оцепенев, он постоял еще несколько мгновений, затем встрепенулся и поспешил прочь, однако не в монастырь, монастырь уже не был ему домом; у безродного и чужого, у беззащитного и отверженного оставался только один кров — небо, с которого уже спустился вечер и которое уже покрылось звездами. По пескам и по мхам, сосновыми, покосившимися от ветра рощами шагал Григорс к морю и от моря, он исходил весь остров, сторонясь деревни, сторонясь хижин, наконец сел под каким-то деревом и спрятал в ладонях лицо — лицо чужака! Ведь никто, никто не знал, кто он и что он — какой позор! Каждый, даже последний бедняк, мог отныне кольнуть его этим позором, мог бросить ему в лицо: «Ты — ничей!» — не ведая, сколь великую радость дарит ему таким оскорбленьем, радость, от которой у Григорса спирало дух, когда он задумывался о своем позоре. Ведь этот удар по переносице Флана, развязавший язык его, Григорса, кормилице, был освободительным ударом, ударом в ворота, теперь широко отворенные, — в ворота всяких возможностей. Он ничей, но он существует, и кем-то он должен быть. Его прибило теченьем, но ведь он же — не порост морской, он явился из какой-то страны. Где его страна, где его родители, и кто они? Неужели они, или кто-то другой, препоручили его, новорожденного, морю — и почему? Неужели истинные его обстоятельства настолько неблагополучны? Не следует ли посвятить всю свою дальнейшую жизнь их выяснению, каковы бы они ни оказались? Они были тайной, он сам был тайной, но тайна есть кладезь всяких желаний, всяких надежд, догадок, помыслов и возможностей.
105
Подкинут из-за какого-то темного пятна? Но где пятно, там благородство. Кто не знатен, тот и без пятен. Как хотелось ему променять плебейское благополучье на благородное неблагополучье!
С этими мыслями он уснул и проспал всю ночь под деревом. Когда забрезжил день, он пошел к морю и, умывшись, явился в монастырь как раз в тот час, когда аббат с братией и школярами возвращались из церкви после заутрени. Застав своего крестника в сводчатом коридоре, сей славный муж строго нахмурился, хотя нос его, как всегда по утрам красноватый, имел самый добродушный вид, отнюдь не соответствовавший хмурому взгляду.
— Грегориус, — молвил он, — где ты был?
Тот и раньше уже стоял с опущенной головой и вместо ответа опустил ее еще ниже.
— Неужели, — продолжал аббат, — ты становишься с возрастом бездельником и вертопрахом? Тебя не видели ни во время вечерни, ни в трапезной, ты не ночевал дома и еще прогулял заутреню. Что за безрассудство! Какая муха укусила тебя, обычно такого благочестивого мальчика?
— Отче, — смиренно промолвил Григорс, — ресcavi1. — Peccavisti?2
— Аббат испугался теперь не на шутку. Несколько мгновений его пухлая нижняя губа беззвучно дрожала, и кровь отлила от его румяного поутру носа.
— Следуй за мной! — приказал он наконец. — Сию же минуту следуй за мной в мою келью!
Этого Григорс и добивался. Поговорить наедине с тем, кто купил его у Виглафа и дал ему свое имя, было единственным его желаньем. Спрятав руки в рукавах, склонив голову, последовал он за аббатом. Они вошли в келью. Перед молитвенной скамеечкой возвышалось распятие с мученическим, окровавленным ликом. Аббат указал на него рукой.
106
— In n
— Так и поступлю, — молвил он, — сколь ни тщетны мои усилия. Ибо устам моим никогда не удастся по достоинству отблагодарить вас, отче и господине, за все, что вы для меня сделали. Однако клянусь вам, что всю свою жизнь я буду еще и от себя просить того, кто не обходит наградой ни одного доброго дела, чтобы он увенчал вас небесным венцом за то, что вы так бережно, на глазах всей своей паствы, воспитали меня, чужого ребенка, бедного найденыша.
Снова и по-новому испугался аббат. Последние остатки утренней красноты исчезли на его носу.
— Что ты говоришь! — сказал он торопливо и тихо, порывисто схватив сложенные руки Грегориуса.
— Я обманут, — продолжал тот и низко склонил голову, словно признавался, что обманщик — он сам. — Я обманут любовно и кротко. Я не тот, кем меня учили себя считать. Врата истины — а их можно назвать также вратами возможностей — распахнулись передо мной от одного удара. Я победил в бою Флана, которого считал братом, победил благодаря вообще-то не свойственной здешнему люду способности выказывать в схватке величайшую собранность. Разгневавшись, так как я причинил ему боль, моя кормилица, его мать, прокричала, — и я это слышал собственными ушами, — что я всего-навсего найденыш, без роду, без племени, в младенчестве вытащенный из волн озябшей рукой. Позор истерзает мне тело и душу, если мне когда-либо случится услыхать это снова, и credemi! — я больше никогда этого не услышу.
Он встал. Уже не смиренно, не на коленях, а твердо, на ногах, стоял он теперь, и синеватым огнем горели его глаза на бледном, прекрасном лице.
107
— Простимся, господине возлюбленный, ибо я не останусь здесь долее. Странствующим холопом буду нести я тяготы поисков, скитаясь без крова, подобно тому как уже прожил без крова минувшую ночь. Несомненно, что где-нибудь я найду неведомую страну, откуда я родом. У меня есть сноровка и разум, и я, credemi, не погибну, коли не будет на то непреложной воли господней. Испытать же ее надлежит, и лучше мне умереть и сгинуть в пустыне, нежели пребывать долее на этом острове. Меня изгоняет бесчестье. Уж очень боюсь я насмешек. Чего только не разболтает женщина! Стоит ей что-то сказать одному, как вскоре об этом узнают трое, четверо и наконец все. А посему, господине, благословите меня на странствия!
Как огорчился тут мой друг аббат, к которому я в ходе рассказа проникся еще большим уважением! Нос его снова покраснел, и в глазах его стояли слезы.
— Дитя мое, — молвил он, — выслушай теперь меня! Я хочу помочь тебе добрым советом, от чистого сердца, как дорогому мне человеку, который с детства находился под моим покровительством. Credemi, господь оказал тебе великую милость, ибо открыл тебе глаза, дабы ты больше не блуждал в потемках и не коротал век в неведении, а действовал по свободному выбору. Это решение я должен был предоставить ему, не предваряя премудрости божьей. Ты видел, что я испугался при первых твоих словах — на самом же деле мне стало легче, оттого что бог изъявил свою волю, сподобив тебя распоряжаться твоей жизнью по своему собственному разумению и выбрать между ним и миром. Теперь эта борьба должна отбушевать в твоем сердце, и тогда выяснится, как употребишь ты свою свободу — себе во благо и спасение или же на погибель. Господь ждал семнадцать лет, прежде чем поставить тебя перед выбором, но и сейчас ты еще слишком юн, чтобы свобода твоя не нуждалась в совете. Так возжелай же, любезный сын, добра самому себе и последуй моему наказу, дабы предпочесть надежность крайней ненадежности и в пылу ребяческого озлобления не поступить опрометчиво и потом не раскаяться. Пока ничего не говори! Ты меня еще не вы-
108
слушал. Так слушай же. Ты превосходный юноша. Все складывается у тебя как нельзя лучше, здешние жители питают, к тебе приязнь, у них добреют глаза, когда они тебя видят. Не покидай их! Ты привык к монашеству, не отступайся же от этого кроткого, многоотрадного поприща! Ты весьма сведущ в книгах, твой путь предопределен. Я стар годами, мне уже шестьдесят семь, dear me1, долго ли я еще проживу? Я не говорю, что, умри я завтра, тебя тотчас же назначат на мое место. Настоятелю приличествует старость, хотя мало кто умнеет от старости. Но однажды — в этом не сомневайся, так и в завещании моем записано — ты станешь настоятелем «Agonia Dei», владыкой над всеми, от мала до велика, и стражем веры на нашем острове. И этим ты хочешь пренебречь из-за какой-то брехливой дуры? Рано или поздно она должна была проболтаться; так было угодно богу, чтобы предоставить тебе свободу выбора. Но поверь мне, что уж я-то сумею раз и навсегда отучить ее от такой болтовни. Григорс ему ответил:
— Стоя за дверью. хижины, я услыхал сущую правду. В этом убеждает меня каждое ваше слово, и прежде всего то, что вы, господине, называете Магауту брехливой дурой, ибо, будь она моей матерью, вы бы подыскали другие слова. Но как бы то ни было, она — моя кормилица, и когда-то вы сами остановили на ней свой выбор. Если бы вы поглядели на нос Флана, моего бывшего брата, пострадавший, не премину заметить, в честном бою, то вы бы, конечно, согласились, что матери трудно совладать с собой при виде подобного зрелища. Я не гневаюсь на нее и не осуждаю ее за злые слова, ибо они были средством меня просветить. Вам я, конечно, навеки обязан. Вы известным образом почтили бога во мне, несчастном, и снискали этим такую святость, что любовь и благоговение должны были бы побудить меня выполнить вашу просьбу. Но все же я стою на своем, и отсюда вы можете судить, сколь бурно негодует моя
109
молодость при одной лишь мысли, что презрительное злословье окружающих станет моим уделом. С тех пор как я узнал, что я не сын этого рыбака, я поневоле стал еще более щепетилен в вопросах чести, чем прежде. А почему? Потому что самый факт моей найденности таит в себе невероятнейшие возможности. Никто не знает моих предков. А вдруг они такого происхождения, что мне подобает рыцарство? Господине, милый отец мой, все мои мечты говорят за то, что именно оно, а не что-то другое мне подобает! Верно, у вас наилучшая жизнь. Покой отлично сочетается в ней с праведностью, и блажен избравший ее по праву. Но я не могу ни вести ее, ни принять в наследство. Я должен уйти, ибо с тех пор как я знаю, кем не являюсь, у меня только одно желанье: проделать путь к самому себе, допытаться, кто же я есмь.
— Сын мой, сын мой, не каждому полезно так уж точно знать, кто он и что он, даже если рыцарство станет его уделом. Ежели ты мне когда-либо верил, поверь и сейчас: в этих стенах твое место. Через мое посредство бог тебя защитил. От кого? Может быть, от тебя самого. И ты хочешь уйти из-под его защиты, не боясь, что попадешь в ад? Нет ничего более сообразного обстоятельствам, чем не знать, кто ты таков, и загадку твою нельзя разрешить лучше, нежели закончив свой век благочестивым и всеми любимым аббатом на этом мирном, отрезанном от мира острове. Внемли же предостереженьям, мольбам и уговорам любящего тебя человека — останься!
— Нет, господине, сберегите мне вашу любовь, как и я буду хранить и лелеять в сердце свою любовь к вам, но я должен уйти. Рыцарство — единственная моя страсть, и, право же, лучше быть рыцарем господним, чем обманщиком-иноком!
— Сыне, credemi, для старика это не такая уж легкая вещь, а напротив, жесточайшее испытание терпенья и доброхотства — выслушивать вздор, который мелет своим ломающимся, мальчишеским голосом зеленый юнец. Рыцарство! Ты жаждешь рыцарства. Да ведь у тебя нет ни малейшего о нем представленья, и ты нисколько к нему не подготовлен. Умеешь ли ты
110
хотя бы ездить верхом? Конечно, нет. Откуда тебе знать, как сидеть на коне? Тебе хочется стать посмешищем. Спроси любого сведущего в рыцарстве, и он тебе скажет: «Кто ходил в школярах, кто двенадцать лет корпел над книгами и не скакал на коне, тому всю жизнь быть попом, это для рыцарства человек пропащий». Но что значит — пропащий? Ведь этакий конник и забияка, не научившийся читать и не способный при всем желании взять в толк самое что ни на есть необходимое, прямо до него касающееся и, собственно, для него-то и написанное, он-то уж никогда не научится грамоте, и для священства он тоже человек пропащий. И тот пропащий, и этот пропащий, но ты — ты господу сын настоящий; едва ты покажешься, шепчет народ: «Глядите, стихарь ему очень идет!»
— Напяльте на рыцаря рясу — и он, отец мой, покажется вам смешон. А мне только дайте копье и шлем — увидите: я понравлюсь всем! А не понравлюсь — тогда, клянусь, в сутану снова я обряжусь!
«Ах, пострел, — с нежностью подумал аббат Грегориус.— Конечно, рыцарское платье ему пошло бы, да и за материей дело не стало».
Но он ничего не сказал и только озабоченно покачал головой.
— Вы не знаете, отче и господине, — продолжал Грегориус по-ребячески пылко, — как подготовлен я внутренне к рыцарству. Я никогда вам в этом не признавался, покамест врата возможностей были закрыты. «Ведь ты же не умеешь ездить верхом», — говорите вы мне по-отечески. Да, физически я ни разу этого не проделывал, но мысленно — тысячи раз, и в мечтах своих я сидел на коне лучше любого рыцаря из Эно, Гасбания или Брабанта, в самом деле лучше, а не просто бахвальства ради. В своей начитанности я не раскаиваюсь, grammaticam, divinitatem и leges1 — все это я изучал охотно и с легкостью. [12]Сколь часто, однако, за книгой, тайком, я в мыслях играл копьем и щитом! О них я вздыхал, и была велика неутоленная эта тоска. Коня, коня мне! Он громко ржал, он
111
сразу хозяина узнавал. И тут шенкеля пускал я в дело, настолько ловко, настолько умело, что ни в бок, ни в лопатку не шпорил коня, который стремительно нес меня. Нет, ближе к sursangle1, скача во всю прыть, я ухитрялся шпоры вонзить. Копыта летели с гривою рядом, и всякому, кто провожал меня взглядом, наверно, думалось обо мне: красавец писаный на коне! Здесь не поможет могучий зад, здесь ловкость и легкость победу сулят. Небрежно-изящен, я вел себя так, как будто всё мне — забава, пустяк. Коня пришпорив, к вольту готов, я в poigneis2 налетал на бойцов и помнил, что целятся при поединке в четыре гвоздя на щите, в серединке. Так дайте же добрый совет мне, отец, чтоб рыцарем сделался я наконец!
— Сыне, сыне,— сказал аббат, потрясенный этими знаниями. — Ты горазд говорить, и лексикон твой, богат, — я поражен, я этого не отрицаю. Sursangle? Poigneis? Credemi, я не понимаю ни слова, с таким же успехом я мог бы слушать греческую речь. Всему этому ты научился не у брата Петра-и-Павла. Но откуда это у тебя, я отлично вижу: сердцем ты не монах. Жаль, Грегориус, весьма огорчительно, милое мое дитя! Но так и быть, сыне, я дам тебе отеческий добрый совет! Ладно, сними с себя это облаченье, откажись от иночества! Надень светское платье или, пожалуй, даже рыцарское, во имя неких, кстати сказать, весьма неясных возможностей, которые вытекают из того, что ты не сын рыбака. Но останься здесь, Гpeгор, останься у нас! Не пускайся, в странствия, не уходи в широкий мир! Умоляю тебя об этом, ведь у тебя же нет ни гроша за душой. Ведь ты же беден, как церковная мышь, дорогой мой! Как же ты явишься рыцарем в гордый мир без всякого денежного подспорья? Конечно, имей ты, к примеру, полтораста марок золотом, ты мог бы еще пойти в рыцари. Но где тебе их достать? Об этом нечего и думать. Так предоставь же действовать мне! Я устрою тебе, положись на меня, выгодную женитьбу, я найду тебе богатую
112
невесту если не на Санкт-Дунстане, то на Санкт-Альдггельме или на каком-нибудь другом острове. Уйми свое сердце хотя бы настолько, чтобы остаться у нас, пока я не уладил этого дела!
Однако упрямство Григорса было непоколебимо и не внимало советам.
— Отец мой, — ответил он, — я благодарен вам, от глубины души благодарен и за прежние ваши заботы, и за это предложение устроить мне выгодную женитьбу. Но, исполненный благодарности, я должен его отвергнуть. Юноша, обладающий честью, не может жениться, не выяснив, кто он таков, ибо ему пришлось бы сгореть со стыда, если бы его дети спросили его о своих предках. Удел мой — не почивать здесь в благоденственном браке, а попытать удачи в тяжких скитаньях, — не откроется ли мне, кто я таков. [13]Удача манит и зовет меня властно. Она не обманет того, кто всечасно ее домогается. Сжальтесь, отец, благословите, и спору конец.
Тогда добрый аббат вздохнул и сказал:
— Ну что ж, видно, час пробил. Я предпочел бы еще немного повременить, но твое упорство, которое я, впрочем, уважаю, хотя и сожалею о нем, не дает мне отсрочки. Сейчас ты узнаешь, дитя мое, как обстоят твои дела. Сейчас ты это прочтешь, ибо для того я и сделал тебя школяром, чтобы ты когда-нибудь сумел это прочесть. Да, так и знай grammatica, legés и даже divinitas суть лишь побочные, привходящие следствия того, что тебя нужно было вообще научить читать согласно полученному мною указанию и для вящего твоего вразумленья.
С этими словами он подошел к своей конторке, отпер ее, потянулся к самому дальнему, глубоко спрятанному ларцу и, отперев его тайно хранимым ключом, извлек оттуда изящную, драгоценную табличку слоновой кости в оправе из золота и самоцветов, густо исписанную.
— Она твоя, — молвил аббат Грегориус, — твоя собственность, хотя послание обращено к тому, кто тебя найдет, а нашедшим, по воле бога, оказался я. Дощечка была с тобою в бочонке, и семнадцать лет я
113
берег ее для тебя. Присядь же, любимое мое чадо, на эту скамеечку и воспользуйся своей грамотностью, единственно для того тебе и завещанной. Такие вещи нехорошо читать стоя. Приготовься, бедное дитя мое, к великой сумятице чувств.
Смущенно взял Григорс дощечку из его рук, посмотрел на грамотку, на аббата, снова на дощечку, сел на скамейку и стал читать, время от времени поднимая голову и оцепенело, с разинутым ртом, глядя вперед невидящими глазами. За ним, сложив руки и с покрасневшим носом, часто мигая, чтобы скрыть свои слезы, наблюдал настоятель[14].
Юноша читал долго. Наконец он уронил дощечку и, съежившись, позвал старика судорожным движением руки. Шатаясь, он подошел к аббату и, горько рыдая, припал к его плечу; игумен старался успокоить несчастного, он похлопывал его по спине и даже немного покачивал. Сколь часто уже так бывало! Это от века повторяется на земле. Один безудержно рыдает на груди другого, а тот говорит: «Ничего, ничего! Полно, полно! Так уж случилось. Крепись! Бывает и хуже. Не твоя вина. Как-нибудь образуется. Черпай силы в боге…» и тому подобное. Так говорил и аббат Грегориус, хотя у него самого текли по щекам слезы, И еще он сказал со вздохом:
— Кто ты, об этом тебе не поведано. Но каковы твои обстоятельства, бедное мое дитя, это ты теперь знаешь.
— Я отброс человечества! — рыдал Григорс. — Я мерзостный плод греха! Я не принадлежу к роду людскому! Я — изверг, чудовище, дракон, василиск!
— О нет, ты преувеличиваешь, — мягко возразил аббат, покачивая плачущего. — Ты тоже сын человеческий, и притом прелестнейший, хотя у тебя и не все ладно. Каких только чудес не творит господь! Вполне возможно, что зло обернется добром и неладное станет ладным.
— Я это знал! — продолжал роптать Григорс. — Я чуял сердцем что-то неладное. Недаром товарищи называли меня печальником. Но что я — дракон и чу-
114
довище, что я племянник своих родителей — этого я никак не подозревал!
— Ты забываешь другую сторону дела, — сказал аббат, — которая да известной степени возмещает то, что ты, преувеличивая, именуешь чудовищностью; я имею в виду твое очень высокое происхожденье.
— И это, — ответил Григорс, отпуская плечо аббата и выпрямляясь, — это тоже чуяло мое сердце. Ах, отче, мои родители, мои милые, грешные родители, родившие меня во грехе и на грех! Я должен их увидеть! Я должен их искать по белу свету, пока не найду их и не скажу им, что я их простил. Тогда и господь их простит, он, может быть, только того и ждет. А я, судя по всему, что известно мне о divinitas, я, жалкое чудовище, ныне приобщусь к человечеству через это прощенье.
— Сыне, сыне, обдумай все хорошенько! Предположим, твои родители еще живы, и ты найдешь их в огромном мире, — кто сказал тебе, что ты будешь для них желанным пришельцем? Поелику они когда-то бросили тебя в море, полагаться на это отнюдь нельзя. Простить их ты можешь и здесь, приобщаясь тем самым к человечеству и обретая блаженство. Именно сюда привел отверженного чудесный промысл, именно этот малый оплот своего покоя назначил господь пристанищем для того, кому во всем мире не было места. И ты хочешь бежать отсюда, хочешь ринуться в мир во что бы то ни стало? В глубине души я надеялся, что, когда ты узнаешь, каковы твои обстоятельства, ты согласишься, что твое место — здесь.
— О нет, отец мой! Стоило мне это узнать, я еще больше утвердился в своем решенье. Сколь часто читали вы мою дощечку? Я читал ее с жаром душевным и буду читать ее бессчетное число раз, ежедневно, чтобы страдать и казниться. Вот она. Что пишут мне милые мои родители? Сверх меры любили они себя друг в друге, это их грех и причина моего появленья на свет. И мне надлежит искупить их вину перед богом — не самоутешительно укрывшись в монастыре, а всею душою своей возлюбив чужую кровь и
115
по-рыцарски защищая ее в беде. Так пробьюсь я сквозь дали мирские к моим родителям.
— Сын мой, пусть будет по-твоему, я согласен, я тебя не держу. Конечно, твое присутствие здесь было бы мне отрадой на старости лет; но теперь я стану молиться за тебя и говорить о тебе, дитя мое, богу, а это ведь тоже значит не разлучаться с тобой. Так узнай же и последнее, что мне осталось тебе поведать!
Аббат подвел Григорса к стоявшему в келье ларю, открыл его, отложил хранившиеся там священнические принадлежности, орари, епитрахили, всевозможную церковную утварь и, достав с самого дна несколько свертков превосходнейшего броката, вручил их юноше с такими словами:
— Это твое, вдобавок к дощечке. Это служило тебе подстилкой и покровом в бочонке, здесь хватит материи на рыцарское платье, а то и на добрых два. Это из левантийского Алисаундра, голубчик, тончайшей выделки. У того, кто наделил тебя таким приданым, был отменный гардероб. Я вижу, ты рад своему выводному добру. Но брокатом оно не исчерпывалось и не исчерпывается, как явствует из дощечки, читая которую, ты, наверно, не обратил особого внимания на эту часть сопроводительного письма. Когда я говорил тебе, дитя мое, что у тебя нет ни гроша за душой и что ты беден, как церковная мышь, я лукавил, на самом деле это не так. Кроме шелков, в подспорье твоему младенчеству были даны два хлеба с запеченным в них золотом, двадцатью марками, мздой за твое воспитание. Только три из них, предполагая, что ты согласишься со мной, отдал я рыбакам. Остальные деньги, однако, я не зарыл и не позволил им плесневеть и ржаветь, но доверил их отличному ростовщику, еврею Тимону, а тот пустил их в оборот и нажил тебе за семнадцать лет полтораста марок. Таким образом, ты располагаешь суммой, с которой можно явить себя рыцарем гордому миру.
Смущенный и счастливый, стоял перед аббатом Григорс. Конечно, это чудовищный и тяжкий грех — родиться от собственной тетки. Но так как он не причиняет физической боли, то мысль о нем нетрудно
116
прогнать при виде щедрых даров, которые сваливаются на тебя после такого открытия.
— Ты улыбаешься, — сказал аббат. — Ты улыбаешься, хотя глаза у тебя заплаканы и ты бледен. Ведь я же тебе говорил, что мои слова вызовут у тебя сумятицу чувств.
ГОСПОДИН ПУАТВИН
Сумятица чувств! Я, Клеменс, сидя за Ноткеровым стольцом в качестве гостя Санкт-Галлена, могу по ходу рассказа касаться и таких вещей. Откровенно признаю, что, излагая диспут между Григорсом и Грегориусом, я был целиком на стороне моего друга аббата и находил его доводы весьма убедительными, тогда как его воспитанник говорил, по-моему, как зеленый юнец. Узнав о своем греховном происхождении, он, вместо того чтобы устремиться в широкий мир, должен был бы, наоборот, благодарно привязаться к уготовленному ему богом убежищу и сохранить верность духовному званию. В этом, по человеческому разумению, его отец во Христе был совершенно прав, и более чем справедливо оказалось предостережение аббата, что странствия и поиски не принесут юноше ничего хорошего и, возможно даже, сулят ему нечто ужасное. Но пределы человеческого разумения весьма ограничены, если дело идет не о рассказчике, который заранее знает всю повесть вплоть до ее чудесной развязки и как бы участвует в божественном провидении, а это — льгота, не имеющая себе равных и, собственно говоря, смертному вовсе не причитающаяся. Посему, стыдясь ее, я склонен предпочесть человеческое разумение и на этом месте повествования порицать то, что позднее, в силу милостивого разрешенья событий, вынужден буду хвалить. Итак, я с некоторым неудовольствием повествую о том, как Григорс, завладев всем своим приданым, дощечкой, золотом и драгоценными тканями, поспешил расстаться с островом Санкт-Дунстаном, чтобы начать жизнь странствующего рыцаря. Он сбросил
117
с себя одежду послушника-школяра и надел светский полурыцарский или, скорее, пажеский наряд: кольчугу с поясом и капюшоном, а также легкие ножные латы, прикрывающие бедра и голени. Это было весьма скромное облаченье. Но кроме того он тайком заказал монахам, промышлявшим портняжничеством, роскошнейшее платье из своих шелков: щегольскую, с темными переливами, епанчу, или houppelande, воздушно-легкие нарукавники которой принято носить наперевес; еще тонкотканые панталоны и берет. Епанча эта представляла собою геральдическую мантию, ибо на груди ее, в овальной вставке, было вышито изображение рыбы, каковое юноша избрал своим гербом, и надо сказать, что из всех его препараций[15] мне действительно нравится только эта. Ибо если рыба означала, что странствующий рыцарь вскормлен в рыбацкой хижине, то одновременно этот рисунок, будучи символом Христа, показывал, что носитель герба вырос в монастырских стенах. Сие похвально.
Светское платье и все прочее, необходимое в пути: съестные припасы, пресную воду и золотую казну — он разместил на судне из гнутых досок, с медной обшивкой и высоко вздыбленным бугом, которое ему удалось снарядить и для которого, с помощью денег и доброго слова, он нанял нескольких корабельников. На полосатом парусе была тоже выткана рыба. Григорс не задавался вопросом, выдержит ли его ладья плаванье в океане или хотя бы даже в том узком, но бурном водном пространстве, что в шутку именуют «каналом» и «рукавом». Когда-то он прибыл сюда на гораздо более утлом челне, и его решимость ринуться навстречу невзгодам и бедам питалась неодолимым желаньем искупить чудовищный грех своего рожденья, знатность которого он все-таки очень ценил. Что его корабельщикам, людям незнатным, рожденья хоть неказистого, но благословенного, собственно говоря, нечего искупать, нимало его не трогало, потому что себя он считал героем приключенья, а их — всего лишь безликим своим придатком. Я непроизвольно поступаю так же, за что себя порицаю — себя, не его, ибо кто волен противостоять провидению?
118
Когда — уже в начале осени — настал день разлуки с островом, где его взрастили и где честь и стыд не позволяли ему долее жить, — он, конечно же, проливал горючие слезы прощанья на груди аббата, который с несколькими монахами провожал Григорса на корабль, поминутно благословляя юношу на подвиг странствий.
— Но куда, дитя мое, куда? — вопрошал он с тревогой. — Туда, куда зовет меня моя дощечка, — отвечал Григорс, указывая на свою левую грудь, — и куда подуют ветры господни. На их волю отдаем мы наш парус.
Так, в тумане, отчалили они от того берега, к которому некогда прибило младенца; отец и сын старались продлить горестное прощанье взглядом и жестом, покамест их не скрыла друг от друга широкая полоса воды и тумана. Это случилось куда как скоро: ладья исчезла в клубящейся пелене, едва они покинули сушу, и на всем пути, днем и ночью, с редким упорством, словно желая защитить корабельщиков своей опасной завесой, их окутывала сырая беспросветная мгла. Кто уже предположил, что скитальца застигла буря, что он потерпел кораблекрушение или что судно его металось в волнах, тот ошибся: море было спокойно, и ветра почти не чувствовалось. Правда, очень слабый норд-вест иногда наполнял их парус, но и этот ветер в иные дни совсем затихал, так что они либо стояли на месте, либо ложились на весла, не зная, продвигаются ли хоть сколько-нибудь вперед, ибо солнца они почти не видели, а звезд не видели вовсе, равно как и других кораблей, не говоря уже о земле. Поверьте мне, они предпочли бы жестокий шторм и высокие валы этому мертвому злополучью, этому многодневному блужданью в тумане. Семнадцать дней, по моим подсчетам, плыли они вслепую. У них иссякли запасы пресной воды и кончился провиант. Над морем царила гнетущая тишина, и корабельщики уныло прозябали на борту; одни слонялись без дела; другие дремали, потому что в такую погоду, да еще на пустой желудок, человека клонит ко сну.
119
У мачты стоял Григорс, их кормчий, всматриваясь в беспросветную мглу, в которой, сколько в нее ни всматривайся, ничего не усмотришь.
Зато он первым увидел чудо, случившееся, по истечении семнадцати дней, сразу после полудня. О радость, туман рассеялся. Бриз, сначала легковейный, но вскоре уже стремительный, рассеял его, разорвал в клочья, и солнечный свет прямым и широким снопом озарил чудеснейшую картину, — неужели то был обман зрения, морок, фата-моргана? Нет, перед ними открылись гавань и берег, перед ними высился город с зубчатыми стенами и воротами, а они, окутанные клубами влаги, и не подозревали, что все это так близко. Кто опишет ликованье приунывших было мореходов после такого открытия! За дело, скорее, под парусом и на веслах, к осиянному солнцем, увенчанному крепостью городу у глубокого залива, всколыхнувшиеся волны которого качали теперь их корабль. Вновь поднявшийся ветер дул им навстречу, и они лишь с трудом пробивались к желанной цели.
Но добро бы только ветер да волны противились их прибытию! Увы, против их приближения был и город, коего величественную картину открыл им рассеявшийся туман, ибо он же открыл и городу незнакомое судно. Казалось, что горожане решили защищаться от чужеземцев. На них полетели камни и железные ядра, пущенные из дальнобойных баллист. Греческий огонь преградил им путь. Лишь после того как они множеством знаков доказали горожанам свою скромность и миролюбие, те прекратили оборону и позволили им пристать. Ладья их обуглилась в пламени, и двум морякам в кровь расшибли головы меткие каменья. Но ведь это были фигуры второстепенные. На пристани, где грузчики выгружали товары из чрев нескольких кораблей, к Григорсу подошел в окружении стражников с пиками и в полосатых одеждах статный человек с лицом скорее озабоченным, чем суровым. На голове у него была шляпа, с полей которой, ниспадал плат, прикрывавший его уши и грудь, но руки и ноги его были защищены латами.
120
Его вопросы о личности и происхождении чужестранца поначалу звучали грубо, однако стоило незнакомцу как следует разглядеть Григорса, как голос его смягчился, более того, покончив с расспросами, он даже не стал дожидаться ответа, а как бы в извинение сперва представился сам такими словами:
— Знайте, что я один из знатнейших в этой quemune1 точнее говоря, самый знатный, ибо я — ее старшина и мэр. Мне доложили о вашем прибытии, каковое было сочтено враждебным действием. Поэтому я пришел, чтобы убедиться, враг ли вы, и, установив противное, приказал прекратить оборону. Не удивляйтесь столь негостеприимной встрече. Этот некогда веселый город пребывает в жестокой беде, и не будь открыта его задняя дверь — со стороны моря, откуда нам удается по ценам, продиктованным отнюдь не людской совестливостью, получать кое-какие припасы, он давно бы уже погиб. Что касается вас, то мы не знали, что и подумать. Викинги свирепствуют в морях и то и дело разбойничают на побережье. Пока мы вас не увидели лицом к лицу, мы принимали вас за одного из них. Сколь далек ваш нрав от тех, кого мы опасаемся, я хотел бы услышать.
— Весьма далек, господин мэр! — отвечал юноша.— Я прибыл издалека, с Укерского моря, после долгого плаванья в тумане, и зовусь рыцарем Рыбы, имя же мое — Грегориус.
— А мое — господин Пуатвин, — вставил староста.
— Благодарю вас, — ответил Григорс. — Занятие мое, — продолжал он, — ратный труд, и я еду на рыцарские подвиги в чужие страны, за свой счет и без малейших поползновений к разбою, ибо в золоте у меня нет недостатка.
— Приятно слышать, — сказал господин Пуатвин и поклонился.
— А на скрижали жизни моей значится, — присовокупил Грегориус,— что то, чем я есмь, мне надлежит обратить на чужую кровь и по-рыцарски
121
защищать ее, если она в беде. Ради того я и отправился в странствия.
— Это в высшей степени похвально, beau Sire1[16], господин рыцарь Рыбы, — отвечал горожанин. — Вас произвела на свет, конечно, чистая женщина, ибо черты вашего лица правильны и привлекательны, а ваши манеры изящны. Вы из норманнов?
— Вы не ошиблись, — ответил Григорс.
— У меня наметанный глаз, — удовлетворенно сказал мэр. — Если вам угодно, последуйте за мною в мой овдовевший дом, чтобы запить collacie2 добрым и хмельным зельем, остатки которого, наверно, найдутся в погребе. Пусть знают, что этот город, даже пребывая в беде, умеет оказывать гостеприимство.
— Любезность, с какою он через ваше посредство принимает странников, — отвечал Григорс, — как нельзя лучше говорит в его пользу. Но почему, — спросил он, когда они оба сели на мулов и по бревенчатому мосту въехали в городские ворота, — почему вы дважды упомянули, что ваш город пребывает в беде, что, впрочем, видно и по озабоченным лицам тех немногих горожан, которые нам повстречались? И почему мне сдается, что большинство их, исключая стариков и детей, с оружием в руках, заполнило крепостные стены и башни?
— Право же, издалека вы явились, укерский гость, — отвечал господин Пуатвин, — если вы явно не слышали о горе нашей страны и ее столицы Брюжа, которую некогда называли la vive, а ныне, пожалуй, можно назвать «мертвой». Да и не диво! Обособленно живут люди, у молвы не столь уж длинные ноги, и даже весть о диковиннейших событиях теряется в воздухе где-то поблизости, отдаленных же мест достигает лишь поздно или вообще до них не доходит. Ведь и сам я мало что знаю, чтобы не сказать — ничего, о том, что творится у чужих народов, к примеру, у аквитанцев, гасконцев, англов, лотарингов и турок. Точно так же и вы никогда не слыхали о лю-
122
бовной войне, как, несомненно, когда-нибудь назовут наше горе поэты, ибо уже и теперь это название у всех на устах. Вот уж пять лет, как она бушует. Роже Козлиная Борода, король Арелата и Верхней Бургундии, разорил наши земли и замки, и у нашей государыни-герцогини — да направит к ней господь своих ангелов — ничего не осталось кроме этой столицы, стены которой покамест еще отражают натиск врага — доколе, о том ведает один лишь всеблагой господь бог, коему, кстати, следовало бы вспомнить о своей благости, пока не поздно. Боюсь, однако, что он подавляет ее умышленно, потому что гневается на нас и потому что наша государыня, несмотря на ее непорочнейшее поведение, не совсем с ним в ладу. Ибо, не в меру целомудренная, она отрекается, на печаль всеблагому, от женского естества, упорно отказываясь подарить стране герцога-государя, за что мы и платимся так называемой любовной войной. Но вы вправе осведомиться о смысле этого названья. Дело в том, что Роже Козлиная Борода любит нашу государыню и, прельщенный ее красотой, домогается ее руки вот уже двенадцать лет, из которых семь он посвятил мирному сватовству, хотя все настойчивее и чаще прибегал к угрозам. Наконец он объявил нам войну, ибо этот волосатый забияка поклялся, что любою ценой положит к себе в постель гордое тело нашей правительницы. Мы дважды отбивали его нашествие и победоносно прогоняли бургундцев, что стоило жизни лучшим из наших лучших, например, господину Эйзенгрейну, верному рыцарю, — вам, чужеземцу, это имя ничего не говорит, а нам — до слез многое. Ах, все напрасно! Воодушевленные упорством своего повелителя, враги три года подряд вторгались к нам снова и снова, бесчинствовали, жгли, угоняли наши стада, вытаптывали наш лен, разоряли нашу страну и на четвертый пробились к этому укрепленному городу, последнему, который им сопротивляется и который давно уже окружен; они осаждают его стены всевозможными приспособлениями: с помощью башенных катков, ежей, кошек, нагло водружаемых лестниц и отвратительных ката-
123
пульт. В замке же, там, наверху, в единственном оставшемся у нас убежище, укрывается та, из-за кого идет этот спор, та, кто при виде всех наших страданий говорит только: «Jamais». Удивительно ли, что там и сям, хоть и приглушенно, а раздаются голоса, выражающие уже назревшую мысль: не пора ли нашей государыне, которая так долго себя блюла, стать женою Роже и положить конец проклятому побоищу? Даже среди придворных, в замке, имеется весьма внушительная по своей численности и знатности coterie1, открыто ратующая за это предложенье. А государыня стоит на своем: «Никогда de la vie!2»
Все эти сведения Григорс почерпнул в доме и в покоях господина Пуатвина, за вкусным обедом, состоявшим из копченого мяса и подогретого пива с гвоздикой, который подала им экономка и ключница, женщина от природы любезная, но тоже с печатью забот на лице. Юноша был необычайно взволнован услышанным.
— Достопочтенный гостеприимец, глубокоуважаемый староста,— ответствовал он,— ваши слова как бы рассеяли туман, застилавший мои глаза, и открыли мне, почему после долгого слепого плаванья мне должна была открыться картина этого города. Я у цели. Сюда направил мое кормило господь, и мне ясно как день, что я в надлежащем месте. Ведь я всегда просил его доставить меня туда, где для меня найдется дело, дабы юность моя не пропадала втуне, но защищала угнетенную невинность в честном бою. Коли угодно будет моей государыне, я стану ее слугой и наемником и по примеру этой многострадальной мученицы изберу своим девизом слова «Никогда de la vie!» Ибо к этому герцогу, коего вы именуете Козлиной Бородой, потому, наверно, что он таковую носит, да и вообще волосат, что, кстати сказать, на мой взгляд является признаком особой мужественности, — к нему я питаю величайшее отвращение, а равно и к той coterie, которая, вслух ли, ис-
124
подтишка ли, советует сдаться и пытается убедить непорочную, чтобы она стала женой наглого соискателя и ненавистного опустошителя ее страны. Надеюсь всем сердцем, что эти гнусные отступники составляют меньшинство при дворе и что вокруг святой страдалицы сплотились рыцари более высоких помыслов.
— Ах, — отвечал староста, — из-за великой их верности число их все уменьшается. Почему — вам сейчас станет ясно из моего краткого, но горестного пояснения. У герцога Роже вошло в обычай подъезжать к городским воротам и вызывать наших лучших героев на поединок, а в поединке еще никому не случалось его одолеть. Не желая ронять свою честь, наши рыцари один за другим принимают вызов, но до сей поры Роже всегда вышибал их из седла и, если они просили пощады, уводил их в плен у нас на глазах, а если не сдавались, то убивал. Поэтому-то благородное окружение нашей правительницы позорно поредело.
— Должно быть, этот человек, — предположил Григорс, — обладает даром недюжинной собранности в бою и способен сосредоточить свой жизненный дух в решительный миг?
— Мне, — возразил хозяин, — не вполне понятен смысл ваших слов. Я лично полагаю, что наши бойцы заворожены молвой о неуязвимости герцога. Драться побуждает их честь, а не вера в победу, в которой они, сознаваясь себе в том или нет, при всей их храбрости, заранее отчаиваются.
— Вы очень умны, господин гостеприимен, — почтительно заметил Григорс.
— Да, я умен, — отвечал староста.—Разве в противном случае я был бы мэром Брюжа? К тому же моему уму свойственна полнейшая ясность и общепонятность.
— Когда же,— спросил Григорс, — ожидается следующий самоуверенный вызов этого полководца?
— Сейчас его нет у стен города, — отвечал господин Пуатвин. — Его палатка снята. С наступлением осени и до следующей весны он возвращается через
125
наши опустошенные земли в свое государство, которым тоже ведь надобно управлять. Наш бедный город, разумеется, остается в осаде, но зимой дело ограничивается мелкими стычками и вылазками.
— А весной, — заключил Григорс, — он снова вернется, чтобы, полагаясь на свою рыцарскую сноровку в поединках, похитить у государыни ее защитников и заставить ее сдаться, что в данном случае означает — отдаться. Наверно, она молода и красива?
— Она, — ответил хозяин, — приблизительно вдвое старше вас, которому я дал бы лет семнадцать — восемнадцать, но, несмотря на ночные молебны и умерщвление плоти, она вполне сохранила свою красоту — на печаль богу, как я подозреваю, ибо она бережет от мужчин свое прекрасное тело.
— Чтобы она отдалась этому козлинобородому герцогу, — возразил Григорс,— богу наверняка не угодно. Настолько я отваживаюсь угадывать его мысли, ибо в свое время я изучил divinitatem.
— Стало быть, вы сведущи также и в книгах?
— Немного. Но это ничуть не поможет мне в нынешних обстоятельствах. Единственное, что мне поможет и в чем я молю вас помочь мне, мой достопочтенный и умный гостеприимец, — это предстать пред очи вашей государыни, чтобы объявить себя ее слугою и чтобы она позволила мне жертвовать жизнью за ее свободу и защищать убежище ее чистоты от волосатых мерзавцев.
— Ваше рвение делает вам честь, — сказал горожанин после короткого размышленья, — к тому же я не стану скрывать приязни, которую вы мне внушаете. Не сомневаюсь, что невзирая на вашу молодость, ваше воспитанье и норманская[17] tournure1 не посрамят вас перед государыней. Однако предстать пред ее очи не так-то легко, ибо она лишь крайне редко и очень немногим позволяет себя лицезреть. Разве что в соборе, когда она простирается ниц перед богом, можно увидеть ее постольку, поскольку вообще можно увидеть женщину, молитвенно застывшую в земном
126
поклоне. Но я попытаюсь вам пособить. Господин Фейрефиц де Беальзенан, стольник герцогини, — мой покровитель и друг; это человек с лоском и куртуазнейшей выучки; представьте его себе широкогрудым и тонконогим, одетым в светлые, расшитые цветами шелка, с раздвоенной, мягкой как шелк бородкой. Таково беглое описанье его наружности. Я поговорю с ним о вас, похвалю ему ваши намеренья и желанья и, думается, добьюсь, чтобы он, со свойственными ему хитроумием и ловкостью, обратил на вас внимание герцогини. Дотоле же оставайтесь у меня, то есть будьте моим жильцом и нахлебником! Мне приятно было узнать, что в золоте у вас нет недостатка. Это утешительное исключение из правила. Обычно странствующие рыцари исполнены высоких помыслов, но бедны, а это сочетание никогда не вызывало у меня особого сочувствия. Вы же сумеете по справедливости заплатить за кров и за стол. Пища ваша будет обильна и, однако же, достаточно умеренна, чтобы не повредить вашей стройности и предостеречь вашу доблесть от сонливого ожирения. Согласны?
— Согласен, — отвечал Григорс, и они скрепили свой договор, прихлебнув пряного пива, отличного напитка, приправленного гвоздикой, которого я никогда не отведывал, но который с удовольствием пропускаю через их глотки.
Повествование весьма часто лишь заменяет нам наслажденья, в коих мы по собственной воле или по воле неба себе отказываем.
ВСТРЕЧА
Я знал, что господин Пуатвин выполнит свое обещание и при первой же оказии переговорит со стольником, чью внешность он так хорошо описал, о Григорсе и его просьбе, — на этот счет у меня не было никаких сомнений. Слишком уж понравился старосте его юный гость с мужественным и нежным лицом, слишком уж угоден был старику этот обходительный и щедрый постоялец, чтобы не сдержать своего слова. Он сделал это спустя всего две недели после прибы-
127
тия юноши, в мэрии, где его, прискакавши из замка, навестил де Беальзенан, чтобы обсудить с ним обстоятельства затихшей на зиму и прозябающей об эту пору любовной войны, а заодно и снабжение двора некоторыми самонужнейшими и несамонужнейшими припасами, причем господин Пуатвин старался провести четкую грань между первыми и вторыми, ставя в пример, когда речь шла о несамонужнейших припасах, схимнически-суровую жизнь самой государыни, протекающую в посте и бдении.
Возражая старосте, господин Фейрефиц резонно заметил, что восхищение ее образом жизни вполне уравновешивается великим горем, которое таковой причиняет городу и всему государству. На сей раз стольник не был одет в расшитые цветами шелка, и в этом отношении его вид не соответствовал описанию старосты. Для защиты от случайных камней его могучий торс был облачен в панцирь, украшенный накрахмаленными брыжами, а голову его покрывал шлем с накладным узором. Зато ноги его, чрезвычайно тонкие, обтягивала только мягкая разноцветная ткань, забранная в башмаки, острые носки которых высоко выдавались при верховой езде из стремян. Но и обряженный на добрую половину в железо, царедворец отнюдь не утратил изящества и ловкости и во время переговоров ему удалось изобразить некоторые несамонужнейшие статьи довольствия насущно нужными. Затем староста сказал: — Au reste1, господин стольник, incidemment2 и à propos3[18], недавно сюда прибыл и попросился ко мне на постой некий состоятельный странник, еще молодой, Грегориус по имени, достойный рыцарь. У него в гербе рыба, и он клянется всеми святыми, что господь сподобил его увидеть этот пребывающий в беде город единственно для того, чтобы он, Грегориус, показал здесь свою рыцарскую доблесть и великодушно помог нам справиться с нашими мучителями. Прежде всего он хочет явиться к нашей горемычной госуда-
128
рыне и предложить ей себя в вассалы. Согласитесь ли вы, со свойственной вам ловкостью, это устроить? — Это мне ничего не стоит, — отвечал господин Фейрефиц.
— Но вполне ли уверены вы в чистоте его родословной? Если бы я ввел в заблуждение нашу государыню, это было бы непростительным faux pas1 с моей стороны. По правде сказать, Укер — несколько расплывчатое обозначение, ибо мало ли кто может прийти из далекой заморской страны. Я был бы вам очень признателен, если бы вы представили мне более точные сведения о его рыцарстве.
Тут господин Пуатвин заметно смутился, ибо речь стольника заставила его спохватиться, что сам-то он так и не уточнил происхождения юноши и что (он готов был этому удивляться, но, к своему удивленью, не удивился), те скупые, а на поверку и вовсе ничтожные сведения, которые тот о себе сообщил, его, Пуатвина, вполне удовлетворили. Поэтому он обращался в одинаковой мере к своему собеседнику и самому себе, когда отвечал:
— Не знаю, достаточно ли внимательно вы следили за моими словами, чтобы восстановить в памяти мое упоминание о рыбе в гербе этого юного витязя. Если даже не затрагивать величайшей святыни (хотя, с другой стороны, ее тоже нельзя не затронуть, ибо мне известно, что мой гость жил некоторое время в благочестивой обители и изучал divinitatem), этот знак, как вы согласитесь, дает пищу самым разнообразным толкованиям. Он является символом воды, — и действительно юноша прибыл к нам по воде и рыба выткана на его гафельном парусе. Он является далее символом мужественности и одного особого, присущего ей качества и достоинства, имя которому молчаливость. Стало быть, не приходится удивляться, что носитель этого знака отличается мужественной молчаливостью. Если рыцарство есть утонченная мужественность, то один ваш взгляд вполне заменяет вам любые расспросы, и поэтому вы предпочитаете не раскрывать рта. Могу только
129
добавить, что чужеземец уже заранее, еще не став ленником государыни, ко всеобщему нашему воодушевлению явил нам свой доблестный нрав. Он сразу же полез на бойницы, к караульщикам крепостного вала, желая тщательно обозреть бургундский лагерь и злосчастное вражеское кольцо вокруг города. Насупив брови и сжавши зубы, разглядывал он палатки, осадные орудия, поле, воинов. Как обсуждал он свой замысел с начальником башни восточных ворот и как расположил названного воителя в пользу своего дерзкого намеренья, этого я не знаю. То, что он его убедил, я приписываю скорее его tenue1 и его глазам, нежели его красноречию. Словом, сейчас вы услышите нечто чудесное и невероятное. [19]Уже на третий день кастелян велит заблаговременно вынуть из пазов бревенчатые засовы, опустить подъемный мост, распахнуть настежь ворота — и, один-одинешенек, вышел гость из ворот, — поистине, нам казалось, что рядом с ним смерть идет. Он щит со знаком рыбы в дорогу взял с собой да верный меч, сверкающий двуострой наготой. А к отпертым воротам ринулась уже толпа бургундских воинов из лагеря Роже. Они спешили в крепость, один их не страшил. Но вы сейчас услышите, как он врагов отбил. Беда! Не хочу сочинять я, и рифмам я вовсе не рад, а то и дело сбиваюсь на стихотворный лад. Грегориус, рыцарь Рыбы, проворен был и смел! Троих воителей герцога он тотчас же одолел. Он разрубил им шлемы мечом своим пополам. Двое свалились в канаву, третий — к его ногам. Ах, черт побери, господин стольник, пора, наконец, прекратить эту декламацию и попросту рассказать вам, как основательно он их посрамил! Ибо они думали, что все это забава, но синий пламень, которым горели его глаза на бледном лице, быстро их отрезвил. Так вот, вскоре они уже не могли сражаться с ним на мечах, и поэтому они забросали его столькими копьями, что лямки щита соскользнули с руки, и, так как держать эту тяжесть у рыцаря не было сил, он свой щит уронил.
130
Тогда они снова решились на рукопашный бой, но, словно от своры гончих яростный вепрь лесной, он от врагов отбивался и отразил набег. Он мощным ударом кольчугу кому-то из них рассек, и сполохами рдяными окрасили искры металл, и — это святая правда — бургундец убитым пал. Господин стольник, я постараюсь больше не декламировать! Мы видели своими глазами: он поднял с земли дротик, предназначавшийся ему самому, и метнул его в голову одному из бургундцев, — копье застряло в шлеме у воина, который, шатаясь, убрался с моста и вскоре, наверно, испустил дух. Клянусь вам, он другого разрезал поперек. А тот и не заметил: так тонок был клинок, И только наклонившись — он меч поднять хотел — двумя пластами наземь бургундец полетел. Словом, господин стольник, совершая такие подвиги, наш витязь шаг за шагом отступает к воротам, которые защищал он один, и створы их с грохотом захлопываются перед самым носом врагов, ибо смельчак оказался уже по сю сторону стены. Какую тут подняли наши веселую кутерьму! Его на руках носили, и я поспешил к нему. Он весь был обрызган кровью от головы до пят: в крови был и меч двуострый и ратный его наряд. «Скажите, любезный витязь, коль скоро вы столь красны, то, верно, вы вашими ранами жестоко изнурены?» — «Об этом не тревожьтесь! — гласил его ответ. — Вся кровь на мне чужая, а я не ранен, нет».
— Очень любопытно, — отозвался господин Фейрефиц. — При таких обстоятельствах мне вполне понятно, староста, ваше тяготение к поэтической речи.
— Если я не сумел его подавить в себе, — отвечал гостеприимец Грегора, — то, конечно же, причиной тому глаза, пылающие синеватым огнем на бледном его лице. Впрочем, не скрою, иногда я чересчур увлекался. Что он кого-то разрубил поперек, а тот поначалу ничего не заметил и лишь потом распался на половинки, это я присочинил; на самом деле этого не было.
— Все равно,—возразил стольник. — Предпринятая диверсия достаточно внушительна и без этой мелкой подробности. В рыцарстве вашего юноши и в том,
131
что он может быть нам полезен, нет никаких сомнений.
— Поведаю вам одну теорию, — продолжал мэр, — хоть как-то объясняющую тот беспримерный образец благородства, который показал нам мой гость. По-видимому, ему дана недюжинная собранность в бою и способность как бы сосредоточивать свой жизненный дух в решительный миг. Обычно я облекаю свои мысли в более ясную и общепонятную форму, но в данном случае я вынужден выразиться несколько туманно.
— Как бы то ни было, — отвечал стольник, — теперь я уже нисколько не опасаюсь обратить внимание государыни на вашего гостя и представить его, чтобы он предложил ей себя в вассалы. Подходящий случай выдается редко, но уже не за горами праздник нашей веры — Святое Зачатие. В этот день, как вы знаете, она показывается народу и верхом на коне, в сопровождении всего двора, следует из замка в собор, чтобы утешить себя обедней. Тут ваш витязь сможет ее увидеть, а уж я улучу момент, чтобы указать на него государыне.
Так и случилось. В тот день, когда пречистая дева, роза без шипов, во плоти, но одновременно осененная духом, безгрешно зачала (такова наша благоиспытанная вера), герцогиня на астурийском иноходце, которого вели под уздцы два пажа, со всей свитой спустилась из замка в последний свой город, к стенам оглашаемого колокольным звоном собора; здесь она спешилась среди обнажившей головы коленопреклоненной толпы, глядевшей на нее красными от слез глазами и хлынувшей за ней, когда она с кавалерами и дамами миновала широко распахнутый резной портал и, потупив очи, держа левую руку у ворота подбитой светлым беличьим мехом мантии, а правой немного подбирая ее, проследовала через божий храм к своему креслу и к подушечке с золотой оторочкой и кисточками, приготовленной для ее колен. Так увидел ее Григорс со своего места над проходом, рядом со старостой, увидел при звуках песнопений, в мерцающем свете свечей и в пряном дыму
132
ладана, поелику возможно видеть отдавшуюся молитве. Он видел в профиль ее лицо, окаймленное диадемой, полузакрытое тугою повязкой, тускло отсвечивавшее слоновой костью в многокрасочном сумраке, когда она поднимала его и горестно возводила очи горе, и всякий раз, как она его поднимала, в юном сердце глядевшего на нее рыцаря вздымалась волна восторга. «Это она, — говорил он себе, — моя госпожа, страдалица, та, кого я призван избавить от беды, которую навлек на нее волосатый фигляр». И, сжав кулаки, он дал клятву и возжелал, чтобы клятва сия стала всеобщим боевым кличам в жарком сраженье за государыню: «Никогда de la vie!»
Позади герцогини стоял на коленях ее стольник, одетый в узорчатый шелковый камзол, а потому на сей раз вид у него был в точности такой, каким описал его Григорсов гостеприимец. Когда богослужение окончилось, он склонил свою шелковистую бородку к уху государыни и что-то шепнул ей. Ну, как он мог выразиться? Сказал ли он: «Госпожа, поклонитесь вон тому мужу! Он сослужит вам добрую службу»? Вполне можно было опасаться, что он употребил не слово «муж», а слово «юноша», или, пожалуй, какое-нибудь другое, еще менее почтительное. Впрочем, нет, он, конечно же, употребил слово «муж», ибо хотел получше отрекомендовать чужестранца. Однако она даже не кивнула советчику головой и уж подавно не повернула ее в ту сторону, куда он указывал; после «Ite, missa est»1 она еще раз перекрестилась и направилась к выходу по главному нефу. Дамы шествовали впереди нее, а кавалеры сзади. Стольник взял Григорса за руку и повел его вслед за герцогиней в портик притвора. Тут он произнес выспренние слова:
— Это, государыня, господин Грегориус, укерский рыцарь. Он жаждет чести и прежде всего чести преклонить перед вами колено.
Именно это Григорс и сделал; с беретом в руке он припал на одно колено и опустил голову.
133
Герцогиня, которую полукругом обступила свита, взглянула на его темя.
— Встаньте же, сударь, — услышал он над собой ее голос, глубокого, зрелого, пленительного звучанья, ничуть не похожий на девичий воркот. — Лишь перед богом да перед царицей небесной пристало здесь падать ниц.
Но стоило ему встать перед ней, как случилось то, чего он страшился: на ее алых губах показалась улыбка, потому что она подивилась его молодости. То была снисходительно мягкая, почти соболезнующая улыбка при насмешливо поднятых бровях, впрочем, сразу исчезнувшая — и вовсе не потому, что он, покраснев, вскинул голову, этого она не заметила, ибо ее глаза пытливо скользнули вниз и с великим вниманием остановились на его одежде. В тот день Григорс облачился в прекрасный намет, сшитый из шелков своего приданого — из темного, с переливами, златотканого левантийского атласа, и этот брокат задержал на себе ее взор, настолько пристальный, что рот ее непроизвольно раскрылся, а брови сосредоточенно нахмурились. Она продолжала его рассматривать, но глаза ее уже подернулись поволокой страданья.
«О меч, ты снова жестоко пронзаешь мне сердце! Отняли, отняли его у меня, мое дитя, завещанное мне любимым, сладостный дар его плоти, швырнули его в бочонок, отдали на растерзанье дикому морю, — да простит им тот, кого я в глубине души моей не могу простить! Такими же шелками, точно такими, устлала я ложе бедненького моего мореплавателя. Поистине, эти нисколько не отличаются от тех — ни по добротности, ни по цвету. Тут я не ошибусь, они словно бы вытканы одной и той же рукой; возможно, что так оно и есть. Ужас и боль, и несметное множество греховно упоительных воспоминаний оживают во мне при взгляде на эти ткани, и одновременно я не могу не заключить, что лишь благородный дом, с ломящимися от добра ларями, способен был наделить этого мальчика такими брокатами».
134
Грудь ее учащенно вздымалась в корсаже платья, ниспадавшего от кушака широкими складками белоснежного бархата и окутанного пурпуром мантии, полу которой она подобрала у пояса своей прекрасной худощавой рукой. Ее темно-синие глаза, подведенные тенями ночных бдений, глядели ему в глаза. Ей пришлось по душе, ее чем-то привлекало к себе это строгое, юное, но уже мужественно-решительное лицо. А ему чудилось, будто он воочию видит земную ипостась царицы небесной.
Она кротко спросила его:
— Вы явились ко мне с просьбой?
— Да, с одной-единственной, — отвечал он с восторженным пылом.
— Я жажду быть вашим слугой, государыня! Возьмите меня в вассалы, прошу вас, и позвольте мне пожертвовать собой и всем своим достоянием, борясь против злодея Роже и сражаясь за вас, пока не погибну!
Она сказала:
— Я, рыцарь, слыхала о вас и о некоторых ваших достославных, но преждевременных и заслуживающих упрека деяниях. Говорят, вы смелее, чем следует быть. Вы знаете, на какую дерзкую диверсию я намекаю. Жива ли еще ваша мать?
— Я никогда ее не видел.
— В таком случае позвольте мне предостеречь вас вместо нее. Вы испытывали бога. Будь вы рассудительнее, вы не отважились бы на такой поступок.
— Государыня, подробности этой вылазки преувеличенно расписаны. Но зимний застой в любовной войне меня действительно злил. Я считал нужным вывести ее из затишья и, постращав обленившегося врага, показать ему, что в этом городе еще жив дух, который, если дело идет о вашей чести, не убоится и самых необыденных предприятий.
— Благодарю вас, хоть и не отказываюсь от своего предостережения. В смелости верных я, бедная женщина, увы, нуждаюсь. Но я не хочу, чтобы благородные юноши опрометчиво платились из-за меня своей жизнью. Обещайте мне больше так
135
не поступать и впредь не давать воли кичливому легкомыслию.
То, что она назвала себя бедной женщиной, поразило его в самое сердце, и он тотчас же снова упал на колено, устремив к ней пылающее лицо.
— Обещаю вам повиноваться, государыня, насколько это позволит мне мое страстное желанье служить вам.
Она взяла у одного из окружавших ее рыцарей обнаженный меч и коснулась им плеча юноши.
— Будьте моим вассалом! Не поступаясь благоразумием, стяжайте себе славу в борьбе за наш город, за нашу поруганную страну! Стольник, я поручаю этого рыцаря вашей опеке.
Когда он, осчастливленный, поднялся, она еще раз взглянула на его платье, еще раз — на его лицо и спешно удалилась, окруженная свитой. А Григорс стоял, не сходя с места, самозабвенно глядя ей вслед, покуда староста, его гостеприимный хозяин, не потянул его за рукав. Такой женщины он никогда не видел и никогда не слыхал такого сладостно полнозвучного голоса, каким она властно вступилась за его молодость. Как чужды были ее облик и нрав его неопытности, но сколь же близки его природе!
ПОЕДИНОК
С немым ужасом продолжая свой рассказ, я все-таки рад, что в вышеприведенной беседе с господином Пуатвином господин Фейрефиц пожелал удостовериться в истинности Грегорсова рыцарства, чем развязал старосте язык и заставил его подробнейше рассказать о дерзкой и одиночной вылазке своего гостя на крепостной мост. Иначе мы, наверно, так и не узнали бы об этом подвиге. Если даже сделать скидку на поэтические преувеличения, которые в пылу повествования допустил рассказчик и которые, в общем-то, можно легко простить человеку, не искушенному в правдивом изложении событий, — у нас все равно достаточно оснований признать, что рыцарские мечты
136
монастырского школяра из рыбачьей хижины не были пустопорожней блажью и что язык рыцарских подвигов, каковым он, по его утверждению, внутренне владел, действительно слышался в его речах и поступках, хотя ему необходимо было практически усовершенствоваться в этом языке, прежде чем отважиться на то, что после первого же разговора со старшиной Пуатвином, и особенно после встречи с самой государыней, стало его твердым намереньем.
Если кто в простоте душевной и по несообразительности спросит меня, что же это было за намеренье, то пусть прислушается к отрывистым фразам, которые наедине с собой иногда бормотал Григорс. Например:
— Будь он хоть трижды грозен, я драться буду с ним.
Или:
— Сам дьявол мне не страшен — сразиться я готов.
Кого он имел в виду, это, наверно, ясно и недогадливому. Слушая его бормотанье, я, право же, радуюсь, что господь привел его в этот город зимой, когда наступило затишье в любовной войне. Таким образом, у Григорса оставалось время, чтобы усердно поупражняться в практическом (а не только внутреннем) применении рыцарского языка, тем более что зимняя кампания чуть ли не каждый день предоставляла ему такую возможность. Ибо небольшие приключенья, рыцарская перестрелка, схватки, конные и пешие, наполовину всерьез, наполовину забавы ради, случались у городской стены почти ежедневно, и он всегда в них участвовал, так что вскоре прослыл среди ополченцев, рыцарей и сервиентов «главой в погоне, хвостом в бегах». Я воспроизвожу их выраженье дословно. Мне оно кажется неуклюжим, как и другое — «град для врагов». Это, на мой взгляд, тоже не очень-то удачная метафора, но что поделать, если такие образы внушала им его tenue.
Лучше всего он чувствовал себя верхом на коне, ибо слишком часто и тщательно сжимал шенкеля, затягивал повода и выделывал вольты в мечтах,
137
чтобы все это показалось ему незнакомым или невыполнимым в действительности. Это искусство было, как говорится, дано ему от природы, оно было заложено в нем, и он сразу же овладел им настолько, что никто не подумал бы, что доселе ему не случалось сидеть в седле. В конюшне господина Пуатвина стоял добрый конь, купленный на золото Григорса, жеребец с белой звездочкой на лбу, брабантской породы, с прекрасными, как у единорога, глазами, горячо преданный своему хозяину: когда тот к нему подходил, он тянулся к юноше лоснящейся шеей и звонко ржал от радости и ретивости, столь же пронзительно, как кричат петухи поутру. Звали его Ветерок. Мне самому нравится это ладное животное со светлым хвостом и такой же холкой и гривой; с похвалой упомяну еще об его крепких тонких бабках и маленьких копытах. Шелку подобна была его шерсть, тщательно вычищенная скребницей, а под нею, играя, так и ходили сильные мышцы. Как красила Ветерка кольчужная попона из тонких и частых стальных колечек, которую конюх покрывал ковертюрой зеленого арабского ахмарди. Ковертюра свисала сзади до самых копыт, а слева и справа на ней была вышита рыба. Так скакал Григорс на своем любимом коне — все это было уже хорошо знакомо ему по его мечтам и благодаря его природным задаткам — в отличных латах, защищавших голову, туловище и ноги, с мечом на бедре, надев на руку лямку щита, — так, повторяю, часто скакал он на своем Ветерке вместе с другими витязями герцогини к городской стене, сопровождаемый повозкой, груженной турнирными, без острия, копьями. Ибо, поверьте мне, шутливость и взаимная полуприязнь сторон, столь свойственные этой любовной войне зимой, зашли так далеко, что горожане и осаждающие мирно состязались друг с другом во владении оружием, и рыцари госпожи Сибиллы, как и бургундские рыцари, на глазах друг у друга дрались на тупых ратовищах, отчасти для собственного увеселения, отчасти же для того, чтобы постращать противника своим кавалерийским и фехтовальным искусством. В этим[20] боях Григорс снискал себе ту честь,
138
о которой он с детства мечтал, и бурные похвалы врагов.
Я должен радоваться, что ему представились время и случай поупражняться наяву, ибо не могу не желать, чтобы намеренье, упорно и глухо запавшее в его душу, увенчалось удачей, хотя как рассказчик я вижу все наперед и знаю, какую несказанную, немыслимую беду сулила ему именно эта удача. Если бы я в своем никому не доступном всевиденье не мог заглянуть еще дальше, в самый конец, я должен был бы пожелать, чтобы наш мальчик, как мне его ни жаль, себе же на благо погиб, осуществляя задуманное, — и даже вопреки моему всеведенью я почти готов этого пожелать, хотя, с другой стороны, понимаю, что такое желанье бессмысленно, коль скоро я знаю, что было дальше, и должен рассказать эту историю так, как к вящей славе своей направил ее господь. Мне хочется только смиренно указать на противоречивость чувств, разрывающих душу повествователю подобной истории.
Ведь тяжкий грех, грех его рожденья, и старания смыть с себя это пятно толкнули юношу на еще более ужасный грех! Он подолгу читал свою дощечку, читал со слезами, поистине, он жил точно так же, как когда-то на острове: образец храбрости и величайшей собранности в рыцарских играх, он был вместе с тем печален и озабочен. Tristan le preux, lequel fut ne en tristesse1, как, покачивая головой, говаривал господин Пуатвин, когда Григорс выходил из своей каморки с заплаканными глазами. Ибо юноша имел обыкновенье запираться там с заветной бережно хранимой дощечкой чтобы в сотый и тысячный раз прочитать о необыкновенных обстоятельствах своего рожденья: о том, что его мать приходится ему теткой, а его отец — дядей, что он является как бы их братом, которого они греховно, сроднив своего потомка с грехом и позором, произвели на свет. Его тело как будто и не отличалось от плоти других людей, оно было достаточно благообразно, и все же от головы до пят
139
оно было детищем греха и позора. Злополучье его рожденья, вновь и вновь напоминавшее о себе письменами, вызывало у Григорса горькие слезы и всячески укрепляло юношу в его тайном намеренье. Он хотел поставить на карту свое молодое, насквозь греховное тело, рискнуть им в отчаянной жеребьевке и либо умереть (что его вполне удовлетворило бы), либо же оправдать свое противоестественное существование, освободив несчастную страну от дракона. Но этим сказано еще не все.
Ибо в сердце своем, освящая это насквозь греховное сердце, он носил образ женщины, чей голос, показавшийся ему столь прекрасным и полнозвучным, так ласково побранил его за легкомыслие, так по-матерински замолвил перед ним слово за него же самого. Как повиноваться такому повелению, как отблагодарить такое заступничество?
Пожертвовав собой ради повелевшей или одержав ради нее победу и освободив ее от дракона! Этот дракон был мужчина, к которому она питала отвращенье, но мужчина, хотя и до смешного молодой, был также и он, Григорс. Сразиться с Роже один на один значило сразиться не только за нее, но и из-за нее, и в обоих случаях, сложив голову или победив, снискать ее благосклонность, причем столь же великую благосклонность, сколь велико ее отвращенье к тому, другому. Ну что ж, скажу все до конца и напишу, что Григорс рассуждал так: если победит тот, кого он ненавидел, ибо желал эту женщину, и если она достанется ненавистному сопернику, то в насильственных объятьях победителя она вспомнит и будет звать того, кто за нее и из-за нее сражался, и, стало быть, сама гибель здесь означает победу. В любом случае, рассуждал Григорс, ему выпадет счастливый жребий, и, кроме своего греховного тела, терять ему нечего. Но не следует думать, будто поэтому он готовился к поражению. Отнюдь нет, он готовился победить в поединке за герцогиню, и когда наступила весна, взвился первый жаворонок, вернулись из страны мавров дикие гуси и белые аисты и распространилась весть, что Роже Козлиная Борода снова возглавил
140
осаду полумертвого Брюжа, тогда гость поведал хозяину давнишний свой замысел — потягаться с волосатым захватчиком, чего бы это ни стоило, едва лишь тот повторит свой самоуверенный вызов.
— Не могу одобрить вашей затеи, — отвечал староста.— Поверьте мне, я душевно к вам расположен, как и все здешние жители, и вместе с вами дорожу вашей честью. Но, хоть вы и держали себя молодцом тогда, на мосту, и в бою показали себя, как говорится, градом для врагов, я боюсь, что здесь у вас дело не выгорит. Спору нет, вы обладаете мужеством, ловкостью, хваткой, и Ветерок под вами стоек и поворотлив. Но в общем-то у вас еще нет необходимой твердости и зрелости, и ваш боевой опыт не идет ни в какое сравнение с опытом этого петуха-полководца, столь же победоносного на турнирной площадке, как и в постелях женщин. Откажитесь от своего каприза! Мы не хотим в стыде и печали взирать с крепостной стены, как он, по праву победителя, уведет вас в плен, чтобы подчинить вашу дальнейшую жизнь своему произволу.
— Этому не бывать, — перебил старосту Григорс, — ибо я не стану просить у него пощады, я либо одолею его, либо умру. А все остальное, насчет турнирного поля и постелей, скорее укрепит меня в моем намеренье, чем заставит от него отказаться. В конце концов это становится ennuyant1 — сражаться за герцогиню в числе многих других бойцов. Я хочу выйти на поединок, и тут видно будет, не сильнее ли тот, кто стоит за ее свободу, чем тот, кто, сражаясь, уготовляет ей позор и неволю.
— Ах, друг мой, — вздохнул староста, — это ведь, в общем, еще не самый страшный позор — стать законной супругой короля Арелата и Верхней Бургундии, и не в одну душу закралось сомнение в том, что государыня, наотрез отказавшаяся дать стране герцога и потому обрекшая свой народ проклятью злосчастной любовной войны, защищает такое уж безупречно правое дело.
141
— Для моей души, — возразил Григорс и сразу похорошел, — ее дело свято!
Тут мэр поглядел на юношу, и если при этом взор господина Пуатвина задумчиво расплылся, то лишь потому, что в мыслях его поразительным образом сплылись воедино словечки «за» и «из-за».
— Желаю вам, господин чужеземец, — молвил он наконец, — чтобы Козлиная Борода изменил своей привычке и на этот раз не повторил вызова.
— Не желаю таких пожеланий! — воскликнул Григорс, все еще очень красивый.
И желание старосты не сбылось.
Ибо весьма скоро у крепостной стены появились два всадника, у одного из них в руке был походный рог, в который он громко трубил, у другого — штандарт с геральдическим львом Арелата и Бургундии. Этот второй прокричал, что если у герцогини еще найдется рыцарь, достаточно смелый, чтобы завтра под стенами города на потеху и в поученье горожанам один на один, в смертном бою, помериться силами с непобедимым повелителем бургундцев Роже, то пусть он выйдет на поединок: ему обеспечены беспрепятственный въезд в неприятельский лагерь и справедливые условия боя. К удивлению герольдов им ответили, что такой рыцарь явится и надеется с изволенья господня одолеть герцога.
На следующее утро, еще до рассвета, Григорс отстоял заутреню, а затем снарядился, как принято перед битвой: он надел латы, и господин Пуатвин, хоть и покачивая головой, сам помогал ему вооружиться поножами, кирасой, бармицей, шлемом и нагрудником, а равно мечом, щитом и длинным копьем, на флажке которого, как и на полукафтане Григорса, красовался знак рыбы. Пробуя, не скользит ли копье в ладони, юноша то и дело сжимал его древко десницей в железной перчатке.
Во время сборов Григорс сказал своему помощнику:
— Не падайте духом и не качайте головой! Так уж написано мне на роду — потягаться с этим злодеем. Я одолею его или погибну. Если я погибну — что за
142
беда? Моя жизнь — не ахти какая потеря. Этот сильный город будет и впредь сопротивляться Козлиной Бороде ничуть не хуже, чем до моего прибытия. Если же я одержу верх, страна будет освобождена от дракона и избавлена от любовной войны. Возьмите это в толк. Герцог находится в невыгодном положении, ибо он рискует большим, чем я, но с другой стороны, именно поэтому он находится и в более выгодном сравнительно со мной положении, ибо тот, кто рискует большим, дерется лучше. Но, опять-таки, он находится в менее выгодном положении потому, что дерется за умыкание государыни, тогда как я дерусь за ее честь. Если это как следует взвесить, то я все же нахожусь в выгоднейшем сравнительно с ним положении. Поэтому я надеюсь с божьей помощью одержать победу, но не хочу, поскольку сие от меня зависит, лишать его жизни. Жадные и грубые домогательства этого петуха, спору нет, отвратительны, и я тоже считаю его своим смертельным врагом; но, с другой стороны, усматривая в обладании государыней величайшее благо, стоящее такой многолетней войны, он встречает у меня полное понимание, и я не могу ненавидеть его смертельно.
— Ах, рыцарь, — сказал хозяин, — уж лучше бы вы ненавидели его в полную меру ярости, ибо вам нужна полная ее мера, чтобы тягаться с таким опытным бойцом!
— Я отлично вижу, что рядом с ним я — слабый юнец, — возразил Григорс, — и даже допускаю, что мне захочется отступить и спасти свою молодую жизнь, когда я с ужасом удостоверюсь в его превосходстве. Да, вполне может статься, что я слишком понадеялся на свое мужество, что под натиском врага я сразу сробею и по молодости лет пущусь наутек на своём Ветерке, чтобы на худой конец хоть проворством в бегстве заслужить одобрение зрителей.
— Это на вас не очень-то похоже, — заметил господин Пуатвин.
— Не знаю, похоже или нет, но по молодости можно со страху выкинуть штуку, совсем на тебя не похожую. Поэтому прошу вас, следите за воротами,
143
когда я выйду на бой, поставьте за ними стражу и будьте начеку, чтобы пропустить меня, едва лишь я к ним приближусь — то ли шагом как победитель, то ли вскачь как беглец!
— Об этом, — обещал добрый хозяин, — я уж побеспокоюсь.
Он не переставал качать головой, а меж тем во двор уже выводили оседланного коня, прекрасное животное, которое мне просто приятно снова увидеть в его боевом убранстве, отлично взнузданное, в кольчужной попоне и ковертюре, гордо вскидывающее голову шумно фыркающее. На прощанье господин Пуатвин с тревогою обнял своего гостя и молвил:
— Господь с вами, мой друг, рыцарской вам удачи, bonne chance! Как вы сказали, так и поступите:. Если увидите, что вам с ним не справиться, то лучше покиньте поле боя и покажите свое проворство в бегстве! Ворота мы подготовим, а что касается смеха зрителей, то добрая часть смеющихся будет на вашей; стороне.
— Ну что ж, прощайте, не поминайте меня лихом, если лягу на поле боя! — отвечал Григорс. — Но такой исход мало вероятен, коль скоро у меня есть две возможности вернуться целым и невредимым: либо побив противника, либо вовремя обратившись в бегство.
С этими словами он вскочил в седло, вскинув над крупом коня ногу в железе, подтянул щит к плечу, взял повода оснащенной рукой и на глазах бесчисленных горожан, мужчин и женщин, из любопытства усеявших стены и башни, выехал из города на рыхлую землю предполья и спокойно въехал в лагерь бургундцев, которые тоже сразу столпились, чтобы посмотреть, как их повелитель посрамит очередного ленника герцогини.
— Молокосос! — закричали они, узнавши в нем рыцаря Рыбы. — Ты совсем рехнулся, наглец! Захотел потягаться с непобедимым Роже! Какая наглость! Видно, тебе не терпится найти на себя управу? Лучше сдавайся сразу — дешевле выйдет!
Григорс все это молча слушал и невозмутимо следовал своим путем, прямо к палатке герцога, пока
144
не увидел, что тот, на вид — настоящий рыцарь, едет ему навстречу. На высоконогом вороном жеребце, защищенном по самые копыта латами, скакал сей упрямый жених Сибиллы, и панцирь его коня покрывала попона красного бархата. Привыкший к победам всадник тоже был весь в железе, и молниями сверкал его щит, украшенный драгоценными камнями вокруг пупыша из червонного, очищенного в пламени золота. Оно-то и метало молнии. Шлем целиком скрывал голову страшного воина и прятал его лицо заостренным забралом, тогда как у Григорса был открытый шлем с наплечником. Древком копья многострашному воину служило молодое деревце, прямо с корой — вот уж поистине ужасное зрелище.
Смельчак на Ветерке как будто и впрямь не выдержал этого зрелища, ибо при приближении противника повернул своего коня и помчался назад, чуть ли не к самым воротам, покрыв почти весь только что пройденный путь. Вслед за ним, размахивая деревцем-ратовищем, скакал бронеблещущий герцог, который кричал сквозь шлем, глушивший звук его голоса:
— Остановись, мальчишка! Остановись, маменькин сынок, трус и ублюдок! Уж если у тебя хватило наглости выйти на бой, то дерись и получай по заслугам!
Тут поднялся хохот среди бургундских рыцарей и простых воинов. Но Григорс опять повернулся лицом к противнику и воскликнул:
— Вы, наверно, смеетесь над вашим герцогом, который, видимо, не знает, что при поединке нужно позаботиться о длительной puneiz?1 Протрубите же сигнал, чтобы мы сразились, как он того хочет, и дрались до конца, пока один из нас не перестанет сопротивляться! Тут загремел походный рог, и поединок начался. Моему монашескому сердцу чуждо грубое безобразье рыцарских потасовок, я их терпеть не могу, и если бы не весьма удивительный, на первый взгляд счастливый, а по своим прямым последствиям ужасный исход этого боя, я не стал бы и повествовать
145
о таких вещах. И уж конечно я не собьюсь на декламацию и песенный лад, как это случилось с господином Пуатвином, когда он рассказывал об удальстве Григорса. Как служителя церкви побоища меня нисколько не опьяняют. К тому же каждый и без того знает, как это происходит и как себя при этом ведут. Они сжали копья под мышкой, подняли щиты и во весь опор, с великим грохотом, треском и бряцанием, ринулись друг на друга, чтобы достать противника копьем и вышибить его из седла. Это, однако, ни тому, ни другому не удалось. Копья расщепились от удара о латы и щит, куски их, в том числе и кора с дубинки Роже, взлетели высоко в воздух, и так никто ничего не добился. Если Григорс непоколебимо сидел на своем Ветерке, то герцог не мЪнее твердо сидел на своем одетом в броню вороном! Тогда, как сказал бы поэт, они «не позволили себе забыть о своих мечах». Да и как, в самом деле, могли они забыть о мечах, если лишились копий? Настал черед мечей. Они вытащили их из ножен и стали молотить ими друг друга, так что стук их ударов доносился через поле до ушей глазевших со стен горожан и только искры сыпались от столкновенья железа и стали. Право же, они были одинаково хороши в бою, и каждого неоднократно оглушал гулкий звон его собственного шлема, на который опускался меч противника. Кони, подпрыгивая, били копытами, а всадники фехтовали, стараясь половчее нанести удар; иногда они стояли в стременах боком друг к другу, лицом к лицу. Однако, как уповали бургундцы и опасались горожане, натиск герцога оказался, видимо, все же сильнее, чем натиск его молодого врага: под искуснейшими ударами Роже Григорс медленно отступал все ближе и ближе к воротам, и вдруг настало мгновенье, ужасное для тех, кто надеялся на победу отважного юноши, — Григорс был обезоружен. Да, тут сказалось зрелое превосходство герцога: внезапно он вышиб из рук противника меч, и тот, описавши дугу, взлетел в воздух, что вызвало у бургундцев великое ликование и торжествующий гомон, а у защитников Брюжа — вопли отчаянья. Но, покуда меч еще летел, случилось нечто
146
другое, молниеносное, что при всем отвращении к грубому рукоприкладству согревает душу и чего поначалу никто не мог уразуметь: правой, свободной от меча рукой в железной перчатке Григорс схватил за узду коня Козлиной Бороды и тем же цепким движением поймал его меч, еще не поднятый после победоносного удара. Теперь он цепко держал и меч и узду, и в то же мгновенье, во всю мочь своего короткого, славного, складного тела Ветерок стал пятиться назад, увлекая за собой высокого вороного вместе с герцогом, которому никак не удавалось выпростать свое столь цепко схваченное оружие — к мосту и к воротам.
Одному богу известно, было ли бесценное животное натаскано в этом приеме заранее, или же оно мгновенно поняло язык шенкелей своего господина,— так или иначе оно тащило за собой герцога, сколько тот ни бранился под сталью шлема и ни колол шпорами свою лошадь, отчего она только скакала вперед, так что и Ветерку приходилось скакать назад — отнюдь не к огорчению доброго животного. Что же касается Григорса, то я помню, что еще в состязании со своим достойным соперником — братом, он скорее позволил бы проломить себе череп, чем перестал упираться. Так и здесь, только здесь он показал еще большую цепкость, и если тогда, может быть, и потерпел бы, чтобы Флан прижал его лопатку к земле, то уж теперь ни за что не выпустил бы меча и узды. Меч прорезал внутренний панцирь перчатки и до крови разрезал ему ладонь, но он не выпускал его из руки и добрым своим щитом отражал удары, которые рассвирепевший Роже старался нанести ему своим в голову и в плечо. А Ветерок все пятился и пятился.
Всеобщее замешательство было недолгим. Вскоре люди герцога, злобно крича, бросились ему на помощь, но навстречу им через распахнувшиеся ворота, ринулись защитники города, так что на мосту завязался самый отчаянный рукопашный бой, который когда-либо случалось видеть. В шею Григорса, возле ключицы, проткнув нагрудник, вонзился дротик, так
147
что юноша, тяжело раненный, с трудом вытащил из своего тела его острие, да и Ветерок был весь в крови. Но они уже настолько приблизились к воротам, что можно было крикнуть герцогу: «Слезай, вояка! Простись со своим плененным мечом, которого я все равно не выпущу, и падай с коня на плечи своих заступников!» Но так поступить богатырь не хотел и не мог. Расстаться с мечом, разоружившим этого молодчика? Упасть с коня, как побежденный? Ни за что и никогда! К тому же из-за закрытого шлема он, по-видимому, не мог как следует оглядеться, и не вполне-понимал, что произошло. Он с грохотом колотил щитом по щиту своего окровавленного похитителя. Но вот уже послышался другой грохот. То были крепкокованные створы ворот, захлопнувшиеся за конем и всадником, за всадником и конем, и бревенчатые засовы, со скрежетом вогнанные в пазы.
К сожалению, немало городских ополченцев было отрезано и, надо думать, убито. Но ведь это же были фигуры второстепенные, а Роже Козлиная Борода попал в плен.
ПОЦЕЛУЙ В РУКУ
Ах, если б я мог без оговорок и в приятном неведенье разделить упоительный восторг и всеобщее ликованье счастливых горожан, радовавшихся, что благодаря цепкости Григорса страна освободилась от дракона и ее опустошитель, обезоруженный и связанный, томился в подземной темнице головной башни! Я бы, пожалуй, обнял юного победителя и, право же, расцеловал славного Ветерка, но, во-первых, от таких излиянии меня удерживает мысль об ужасных последствиях этой победы, а во-вторых, Григорса вовсе и нельзя было обнять, ибо он был весь изранен копьями и мечом, так что на сей раз по его платью текла его собственная кровь, и без чувств свалился с коня, когда народ с триумфом проводил его к его пристанищу — дому старосты. И воин, и конь нуждались в целебных бальзамах и в хорошем уходе, за которыми, впрочем, дело не стало. У горожан же в тот день было еще
148
много других забот, кроме как ликовать и хлопать себя по ляжкам, ибо ожесточенный враг не преминул учинить решительный приступ, чтобы вызволить своего повелителя герцога Роже, и до самого вечера продолжались эти яростные потуги. Враги ломились в ворота гремящими таранами, подкатывали к стенам по насыпям осадные башни с бойцами, приставляли к ним лестницы, забрасывали крепость камнями и железом. Еще многим бургундцам и ополченцам суждено было тут расстаться с жизнью. К вечеру, однако, натиск ослаб, и так как горожане уведомили осаждающих, что если те еще раз поднимут руку на город, то их повелитель и герцог тотчас же будет убит, натиск уже не возобновлялся.
Было заявлено, что между Фландрией-Артуа и Арелатом-Бургундией идут переговоры о клятвенном обещании не мстить за понесенное оскорбленье и об окончании любовной войны и что покамест бургундцам лучше вести себя тихо. Это известие полностью подтвердилось, ибо Роже Козлиная Борода был поставлен пред выбором: либо стать на голову короче, либо вывести войска из страны и захваченных городов, навсегда удалиться в свои пределы и сверх того в течение десяти лет выплачивать изрядную денежную пеню, чтобы возместить урон, нанесенный Фландрии его любовным упрямством. Он дал на это гордый ответ, хотя и после внутренней борьбы. Много лет, заявил герцог, он по-рыцарски добивался благосклонности дамы и употребил все силы, чтобы завладеть ее сердцем. Но если она так строптиво отвергает его предложение, серьезность коего он всячески доказывал, и вдобавок еще посылает против него какого-то зеленого мальчишку, которого, кстати сказать, он играючи победил, но который затем, вопреки всем правилам, затащил его в эту ловушку, то он, оскорбленный герцог, берет назад свое предложение и отказывается от ее руки, не оставляя никакой надежды, что когда-либо будет ее домогаться. Герцог готов дать необходимую клятву и вывести войска из страны, и он достаточно богат, чтобы без заметного для себя ущерба искупить деньгами свое сватовство. Что же
149
касается дамы; присовокупил он насмешливо, то пусть она взойдет на брачное ложе не с ним, благородным витязем, а с зеленым мальчишкой, которого она послала против него, дабы тот осквернил священный обычай единоборства гнусной уловкой.
Он не знал, сколь чудовищен этот совет и чем искушала небо или, лучше сказать, преисподнюю такая насмешка. Если б он это знал, он, быть может, и охладил бы свое сердце. Я лично думаю, что как христианин он даже убоялся бы давать подобные советы хотя бы только насмешки ради. Но на прикрасы, которыми он пытался примирить себя со своим поражением, не стоило обращать внимания. Важно было его поражение; и на соборной площади, в торжественной церемонии, под одобрительные возгласы народа, кричавшего: «Да, да, быть по сему», и с благословения духовенства, бургундские старейшины, приглашенные в город, клятвенно подтвердили мирный договор — в присутствии герцогини, а равно и в присутствии Григорса Освободителя, который, еще с повязкой на шее и с пластырем на руке, тогда вторично увидел ту женщину, чья прелестная зрелость и доброта оставили в его сердце неумирающий отклик. И она тоже вторично его увидела и порадовалась его славе, ибо нужно сказать, что и его юный образ все это время сладко ее преследовал, более того, что при виде его ран и его бледности ею овладела нежная озабоченность, какой она дотоле никогда еще не испытывала, и одновременно волнующая гордость — гордость тем, что он так стойко ее защищал. О да, она почти не следила за церемонией, ибо знала, что потом юношу приведут к ней наверх, в замок, чтобы она могла его поблагодарить, и этому, признаюсь, она радовалась.
Да, признаюсь: она стояла в полукруге обступивших ее фрейлин и глядела, как он, прекрасной походкой, стройными, обтянутыми мягкой тканью ногами, шагает к ней через огромный, увешанный коврами, с балками у потолка и гербами на пилястрах, парадный зал; и этой прекрасной его походкой она, признаюсь, тоже гордилась. Боже правый! Когда он так
150
подошел к ней, он был похож на нее, ибо был похож на Вилигиса, своего отца, и, стало быть, как же он мог не походить на нее? Но она воспринимала это сходство совсем не так, как мы, для нее оно было только чем-то приятным и привлекательным, и если она думала о каком-то сходстве, то лишь применительно к усопшему, а не к себе самой. Разве не мог молодой человек напомнить ей брата-возлюбленного и этим тронуть ее сердце, без того чтобы непременно вызвать у нее далеко идущие подозрения? Но то, что она гордилась им, и даже его походкой, это, по-моему, все-таки должно было заставить ее призадуматься.
Он стал на колени, и она молвила:
— Рыцарь, я велела вам подняться, когда вы упали передо мной на колени в святилище, потому что там подобало воздавать почести одной лишь пречистой. Сегодня здесь все почести причитаются вам, и поэтому я снова говорю — встаньте! Не будь я женщиной и не будь вы так молоды — не будь столь молода кровь, которую вы за нас пролили, — мне, право, пристало бы упасть на колени пред вами, ибо вы совершили чудо ради страны герцога Гримальда и его дочери. Где та рука, что намертво и не дрогнув сжимала узду и режущий меч, покамест злодей не был схвачен и связан? Дайте ее мне, чтобы ее поблагодарили мои губы.
И она взяла его правую руку, еще не зажившую, которую он прятал за поясом, и приложила ее к своим губам.
Это было уже совсем неуместно. Статс-дамы сочли сие чрезмерным, и тем резче мое осужденье. Ибо почему захотелось ей поцеловать ему руку? Потому ли, что он спас ее своею рукою, или же потому, что напомнил ей Вилигиса, чья рука греховно ее ласкала? Я бы сказал, что Сибилла не вполне проверила свои чувства и недостаточно четко отличила благодарность от нежности. Для первой у нее было справедливое основание — настолько справедливое, что она нашла излишним проверять, не стала ли благодарность только предлогом для нежности. Она была благочестивой
151
правительницей и не давала себе поблажек в ночных бдениях, однако духовная ее прозорливость оставляла желать лучшего. Спору нет, памятуя о мученических ранах Христа, поцеловать увечную руку похвально; но бдительно распознать, почему ты так поступил — из смирения ли и любви к болестям, или же просто для собственного удовольствия — это как раз и есть христианская душевная тонкость, а ее-то Сибилле и не хватило. Григорс, дотоле бледный от ран, залился румянцем.
— Государыня, что вы делаете! Это прикосновение будет гореть на моей руке и побуждать ее к благородным деяниям, клянусь вам, до конца моей жизни! Но чем заслужил я такую милость? Тело наше сотворено из греха. Оно только для того и годится, чтобы жертвовать им ради угнетенной невинности!
Она потупила глаза, глаза в прекрасных ресницах, и не подняла их к нему, когда вполголоса, произнося слова только краешком губ, сказала:
— Все мы дети греха. Но мне часто кажется, что поистине существует противоречие между греховностью и благородством, между убогостью тела и его гордостью. Если оно подло, то как оно может свободно и смело глядеть, как отваживается присвоить себе такую царственную походку, что даже тех, кто только на него смотрит, охватывает гордость? Дух знает о нашем ничтожестве, но, нимало сим знанием не смущаясь, природа себя уважает. Вы говорили, как подобает христианскому рыцарю. Но даже в таком определении есть, по-моему, какое-то внутреннее противоречие. Откуда, при всем смирении христианина, берется мужество, благородство и заносчивость рыцаря?
— Государыня, источник нашего мужества и смелых подвигов, которым мы себя посвящаем и в которые без остатка вкладываем все свои силы, — это сознание нашей вины, это горячее желание оправдать нашу жизнь и хоть сколько-нибудь очиститься перед богом от скверны греха.
— Стало быть, вы сражались во имя бога и вашего оправдания?
152
— Государыня, я сражался за вас и за вашу честь. Вы не правы, если отделяете одно от другого.
— Вы сражались чудесно. Будьте откровенны и признайтесь — мастерство ли герцога причиной тому, что вы уронили свой меч?
— Не только оно. Буду откровенен. Это должно было случиться благодаря его мастерству, чтобы дать мне возможность осуществить задуманное.
— В своей заносчивости вы, наверно, хотели показать, как выигрывают шахматную партию, пожертвовав королевой?
— Нет, государыня, я полагал, что пленник представляет для вас большую ценность, чем труп.
— Так молоды и уже так политичны! Вы, наверно, не испытывали к нему никакой ненависти?
— Я ненавидел его всей душой. Но руководила мною вовсе не ненависть. Не знаю, смог ли бы я убить этого злодея. Разве лишь в какое-нибудь напряженнейшее мгновенье, вроде того, когда я схватил меч и узду. Но на бой я пошел не из-за своей ненависти, а из-за вас.
— По-моему, вы не правы, если отделяете одно от другого. Человек, которого вы пощадили, уготавливал мне позор и неволю.
— Обладать вами, госпожа, — такова была цель этого человека. Он боролся из-за вас и потому вышел на поединок со мною, вашим вассалом, который и в поединке не смел забывать, что борется он только за вас.
— На сей раз вы мудро во всем разбираетесь и справедливо признаете за своим противником право на высшие цели. Сражаясь столь же рассудительно, сколь и храбро, вы сделали своим пленником дракона, сражавшегося из-за меня. Вас благодарит воспрянувшая духом страна, которой вы даровали новую жизнь, и целует вашу непоколебимо твердую руку. Я думаю, что ваша рука, как только она вполне заживет, снова захочет где-нибудь утвердиться. Насколько я могу судить, вы смотрите на это прекрасное приключение как на одно из многих. Наверно, вы отправитесь на новые рыцарские подвиги?
153
— Простит ли меня ваша благосклонность, государыня, если я скажу, что мне кажется, будто это место и есть предопределенная цель моих странствий? У меня такое чувство, будто я должен здесь остаться и служить вам всю свою жизнь.
— Могу ли я вам, рыцарь, в чем-либо отказать? Я приятно тронута вашим желанием. Конечно, останьтесь! И не живите более в мэрии. Ваше место — при моем дворе. Назначаю вас своим сенешалом, уверенная, что никто не осудит меня за то, что я, несмотря на вашу молодость, возложила на вас эту должность. Ваша заслуга придает вес вашей молодости и изничтожает какие бы то ни было возражения. Кем бы вас ни назначили, ваша заслуга это оправдывает. Не становитесь на колени, я этого не хочу! Теперь удалитесь! Я увижу вас снова среди своих приближенных.
И она прошла мимо своих дам, которые за нею последовали.
Этот разговор нужно представить себе очень быстрым, такова была его особенность. Он велся всего несколько минут, без пауз и размышлений. Он протекал при свидетелях и все же походил на торопливую и тайную сделку, при заключении которой глаза чаще избегали, чем искали встречи с глазами, и не было никаких задержек ни между репликами, ни внутри таковых: слова сыпались быстро, точно и тихо, покамест не было сказано: «Удалитесь. Я увижу вас снова».
МОЛИТВА СИБИЛЛЫ
Страна воспрянула духом, цепкая хватка Григорса даровала ей новую жизнь. В краях, именуемых Рулер и Тору, ближе к морю, на мирных нивах опять зеленел прибыльный лен, и опять, в мужичьей радости, плясали крестьяне в трактирах. Новые стада паслись на высотах тучнопашенной Артуа, вынашивая руно для отменных сукон. Свободны были города и замки, оправившиеся от разрухи, очищенные от скверны нашествия, и Сибилла, Гримальдова дочь,
154
вновь держала двор в Бельрайпейре, где провела свое детство и грешную юность. Туда, откуда некогда отправился в крестовый поход ее милый брат и откуда ей самой, с ее греховной ношей, пришлось уехать, чтобы укрыться в приморском замке господина Эйзенгрейна, — туда ее теперь так властно потянуло, ибо всех нас природа наделила желаньем вернуться в минувшее и его повторить, дабы оно, некогда бывши злосчастным, стало счастливым.
Григорс Освободитель был ее сенешалом. Его назначение не вызвало ропота, и никто не был недоволен тем, что он, равный по званию господину Фейрефицу, стольнику, провожал ее к трапезам, ибо жизнь герцогини, казалось, потекла оживленнее, не ограничиваясь суровым кругом бдений и молитв, не сторонясь так строго и робко, как прежде, увеселений двора, пения, игры на лютне или непринужденной беседы в зале и вертограде. Причиной такой перемены было, конечно, счастливое окончанье любовной войны и облегчение души после стольких страданий. Но, независимо от ее причин, эта перемена внушила стране и двору надежды, которые вследствие суровой замкнутости государыни давно уже не могли заявить о себе и стать предметом каких-либо обсуждений. Лучшие и мудрейшие люди государства могли наконец собраться и основательно обсудить то, чего они желали и на что вознадеялись: каждому было дано слово, и каждый настойчиво повторял сказанное предыдущим.
Так совещались они и решали в Аррасе, в высоком зале, — бургграфы, родовые дворяне и старейшины городов. Понеже, постановили они, страна после стольких мук наконец-то справилась со своею бедою и ныне мирно процветает, как прежде, люди заботливые тем паче озабочены горьким сомненьем: ведь не исключено, что все начнется сначала и что какой-нибудь наглый и жадный владыка снова захватит и осквернит дорогую им землю. Женщина, даже достойнейшая, не в силах оградить от преступных и дерзких посягательств столь обширное государство, и появись у него наконец-то герцог и господин, да, появись у государыни государь, чье. присутствие уже
155
предотвратило бы назревание по крайней мере любовной войны и который, насупившись, схватился бы за меч при малейшей угрозе миру, — о как бы тогда все изменилось! Разумеется, они знают и почтительно принимают в соображение, что государыня в угоду всевышнему поклялась никогда не выходить замуж. Однако при всем почтении к ее обету они, цвет страны, единодушно считают, что тут она не права и что воля всевышнего истолкована ею превратно. Она дурно распорядилась бы своей жизнью, если бы бросила такую богатую страну на произвол судьбы без наследников, и поступила бы справедливее, справедливее перед богом и перед миром, если бы избрала себе супруга и даровала бы долгожданного наследника государству. Законный брак и вообще-то есть наидостойнейшая жизнь, данная людям от бога, а уж при ее высоком положении и подавно. Сообщить это герцогине как волю и горячую просьбу всего народа и цвета страны и ходатайствовать об удовлетворении петиции было решено единогласно, без воздержавшихся, и еще присовокуплено, что государыне предоставляется полная, не связанная никакими условиями свобода в выборе супруга и герцога.
Таково было их решение, и, взвешивая его, особенно эту последнюю оговорку, дающую повод подумать, будто княгине положено не ждать предложения руки, а самочинно предлагать руку и, вопреки женскому целомудрию, указывать на того, кто ей приглянулся, я не могу не заподозрить, что мысль старейшин действовала в определенном направлении, что они хотели облегчить своей герцогине согласие и что от Сибиллы это вовсе не ускользнуло. По обычаю государства ее заранее ознакомили с содержанием того, о чем собирались доложить ей во всеуслышанье, дабы она могла отклонить эту петицию. Однако, пребывая в вышеупомянутом оживлении, она согласилась ее принять, хотя, разумеется, не сообщила, как на нее ответит. Но какую надежду должно было оживить уже одно это согласие!
Перед троном герцогини стояли старейшины, и один из них прочитал прошение, почти дословно мной
156
приведенное. Затем он опустил пергамент и потупил взор. Все потупили взор, в том числе и Сибилла, и мое тонкое ухо слышит, как билось в тишине ее сердце, — да, по-моему, и старейшины это слышали, они чуть подняли глаза, немного скосив их, и прислушивались к учащенному его стуку. Затем раздался голос, прелестно-зрелый в привычном своем полнозвучье. Она вполне оценила, сказала она, разумность и важность их ходатайства и тем более ту верноподданническую заботу о благополучии страны и о судьбе ее рода, которой это ходатайство вызвано. Их совет представляется ей настолько резонным и убедительным, что она считает его достойным размышления. Однако он слишком противоречит ее образу жизни и ее намерению посвятить себя целомудренному служению богу, и к тому же ей слишком трудно найти в христианском мире действительно равного себе по происхождению супруга, чтобы тотчас же дать им определенный ответ. Она вынуждена испросить у старейшин срок на размышление — она испросила бы семь недель, не будь это ходатайство столь настоятельно. Но она удовлетворится и семью днями. Пусть на восьмой день благороднейшие и достопочтеннейшие господа снова явятся к ней, чтобы выслушать ее решение, считая одинаково вероятным ее «нет» и ее «да». Ибо, соглашаясь поразмыслить, она и так уже выказывает большую уступчивость.
На том просители и покинули свою госпожу. А у нее после их ухода все еще колотилось сердце, трепетно и блаженно-испуганно. Она улыбнулась, испугалась своей улыбки, сурово подавила ее, на глазах у нее показались слезы, и, так как одна слезинка потекла по щеке, Сибилле пришлось опять улыбнуться. В такое смятение повергло ее это ходатайство. Она поспешила в свою часовню при замке, где ее никто не увидел бы и где она могла излить свою душу в молитве, — не к мужским ипостасям божества, но к матери, к великой царице небесной, устремились все ее упования, ибо с самим богом она была не в ладу,
157
сперва из-за совершенного ею греха, а затем из упрямства.
Перед скамеечкой, где она стояла на коленях, висела прекрасная, отличного письма, икона, изображавшая богородицу. Пречистая дева х кротким смиреньем принимала из уст крылатого вестника невероятную весть — она сидела в бревенчатом женском покое, с лучезарным венцом над гладко причесанной головкой, держа в приподнятых ручках книгу, которую она читала в своей невинности и от которой почти нехотя отвернулась, словно предпочла бы возобновить тихое свое занятие, чем слушать кудрявого ангела в голубой мантии поверх белого, с буфами, одеяния, каковой согбенно застыл у двери, указуя вверх перстом левой руки и протягивая правой свернутый в трубку листок — грамоту, где черным по белому было написано то, о чем вещал деве его маленький алый рот. А пречистая, опустив вежды и не глядя ни на него, ни на книгу, в святой стыдливости потупила взор, как будто хотела сказать: «Я? Как же так? Не может этого быть! Пусть у тебя и крылья, и грамота, и ты появился, не отворив двери, но я сидела здесь за книгой без всяких честолюбивых мыслей, и никак не ждала подобного посещения».
Взирая со своей скамеечки на это милое сердцу изображение, Сибилла молилась:
—
158
неизменно небесный хор, и небесный двор, и херувим, и серафим, и все ангелы бога, что от века витают пред ним. Пророки, апостолы и святые рады Марии, дивно родившей сына господня, который сам же господь сегодня, который — о чудо!—вошел в твое чрево, пречистая дева!
Кроткая
Пречистая
159
мной отчасти в долгу и должна за меня замолвить слово: ведь господь ради грешного рода людского в чистое чрево твое вошел и богоматерь в тебе нашел. Если бы людям грешить не случалось, тогда бы, конечно, не состоялось то, чем в счастливой своей судьбе ты вечную славу стяжала себе.
Прости ты меня, что, молясь и горюя, шучу и глупости говорю я! Мне больно видеть, что мальчик мой совсем еще молодой. А мне-то, пречистая, лет немало, я и любила, я и страдала, хоть я еще недурна собой и, как-никак, а правлю страной. Возможно, моя благосклонность и лестна. Ведь как я грешила, ему неизвестно. Но вот зажгу ли ему я кровь, внушу ли чувственную любовь? Откуда такое мое опасенье? Ведь знаю, сколь велико тяготенье плоти мужской, молодой и незрелой, к пышным богатствам женского тела. Хочу, чтоб манило его и влекло этой груди неусталой тепло, ибо постели моей достоин лишь он, благороднейший рыцарь и воин! Хочу ласкать его без печали, чтоб жалобно совушки не кричали, о богородица, я хочу прижаться губами к его плечу, не слыша, как, взор в потолок вперив, надрывно воет пес Ханегиф. За грешницу перед царем небесным и перед юношей доброчестным тебя молю я похлопотать: ты богу невеста, дитя и мать.
Вот какая молитва возносилась из уст Сибиллы к этой иконе. Под конец, как я полагаю, молящейся показалось, будто благочестиво потупленный взгляд пречистой осветился едва заметной улыбкой соизволения. Ибо когда по прошествии семи дней старейшины снова предстали перед ее троном, чтобы получить ответ на свое ходатайство, она сказала: она разделяет желанье и волю страны и признает, что последняя поистине нуждается в защитнике, правителе и герцоге. Посему она покорно решила отказаться от целомудренного служения богу и стать слугою супруга. Таков ее ответ. Остальное решится само собой и не зависит ни от ее усмотрения, ни от чьего-либо выбора. Ибо если стране необходим герцог, то речь может идти только о том,, кто своей несокрушимо цепкой рукой освободил ее от дракона и сра-
160
жался на поединке за честь герцогини. Это — господин Григорс, теперешний ее сенешал, чужестранный рыцарь, прибывший сюда по милости бога и богородицы. Ему-то она и протягивает руку, дабы он, поелику это ему угодно, с помощью ее руки поднялся к ней по ступеням трона и сел рядом с нею как ее господин и августейший супруг, сообразно пламенному желанью освобожденной страны.
Так заявила она просителям при всем своем дворе, и, взявши ее прекрасную руку, Григорс поднялся к ней под балдахин, и, бок о бок с нею, повернул к залу, повернул ко всему христианскому миру свое молодое и строгое лицо. Лучше бы он этого не делал, а остался на кроткое покаяние в монастыре, у своего приемного отца, у моего друга аббата. Ибо ему было суждено падение более глубокое, чем с высоты нескольких покрытых ковром ступенек. Но вот уже перед ним обнажились мечи, преклонились колени, и своды задрожали от клича:
— Да здравствует Грегор, победитель в любовной войне, защитник страны, наш герцог и повелитель!
СВАДЬБА
Дух повествования — это общительный дух. Он вводит читателей и слушателей куда угодно, даже в одиночестве своих сотканных из слов героев и в их молитвы. Но он умеет также молчать и застенчиво опускать то, что, по его мнению, вовсе не стоит воспроизводить, а лучше спрятать в тени безмолвия, хотя бы события и не оставляли никакого сомнения в наличии промежуточных слов, сцен и картин. Государственные акты вроде вышеописанного, закончившегося присягой на верность герцогу Грегору — не иэ тех церемоний, которые могут протекать иначе, чем это имеет место, то есть и так и этак: они, как учит нас житейская мудрость, не совершаются без подготовки и на авось, в таких случаях все оговорено и обеспечено наперед, и Сибилла не стала бы публично предлагать своему спасителю корону и руку, если бы рисковала
161
встретить с его стороны гордый отказ. Надо думать, что между ее молитвой богородице и ее волеизъявлением состоялся тайный диалог, который юность и зрелость вели друг с другом в коротких словах и под конец (помилуй, господи!) уже не только словесно, и в котором грамматический вопрос о «за» или «из-за» снова сыграл свою роль, причем дело, по-видимому, не обошлось без горячего признания, говорившего в пользу «из-за».
Кое-кто, наверно, посетует на меня за то, что я окутываю эту сцену мраком и не воспроизвожу ее здесь, ибо она, несомненно, была бы полна тревожной прелести и щемящей сердце занимательности. Но, во-первых, описания любовных сцен не приличествуют моему сану и облачению, во-вторых же, мне куда приятнее видеть глаза Григорса, чье лицо отличалось юношеской строгостью, зорко следящими за каждым движением противника, чем помутневшими в сладостно расслабляющей истоме любви, а в-третьих — все их речи, вздохи, признанья и ласки зиждились на таком ужасном, подстроенном самим дьяволом непонимании и смешении причин, по которым их тянуло друг к другу, что мне не хочется при этом присутствовать, да и вы сами способны разве лишь смутно, сквозь слезы стыда и страха, следить за тем, кай она сжимала его голову, в своих ладонях, а он, почти касаясь губами ее рта, прошептал ее имя в первом признании, как она влила в этот шепот звук его имени и в восторге твердила: «Значит, ты меня любишь, любимый мой чужеземец, милый, прекрасный, близкий мне с первого взгляда!» — и уста их сомкнулись, чтобы надолго умолкнуть в блаженном безумье.
Итак, все это я опускаю и обхожу; не мне вдаваться в такие вещи. То была их помолвка, и — ура! — свадьба не заставила себя ждать. Вот радость-то, вот веселье: трубачи разнесли по всей стране утешительную весть о том, что Фландрия-Артуа вновь обретет господина и герцога: разгул, пляски на улицах, потешные огни, обжорство,— всего этого было сколько угодно и в городах и в деревнях, и рекою лилось вино. А в замке Бельрапейре
162
со всею пышностью справили свадьбу: более пятисот гостей из далеких и ближних мест (иных пришлось разместить в шатрах у подножья высокого замка) весело пировали за пятьюдесятью столами, на которые оруженосцы и пажи то и дело ставили блюда с говядиной, с оленьим и жирным кабаньим мясом, а также с колбасами, гусями, пулярками, щуками, карпами, ч форелями, налимами и раками. Отяжелев от сладких вин, гости во главе с факельщиками провели молодых через все залы. И Григорс пришел к Сибилле, и трескучие головни осветили их опочивальню, и они стали мужем и женой.
А почему бы и нет? — спрашиваю я сокрушенно. Он был мужчиной, она была женщиной, и, следовательно, они могли стать мужем и женой, ведь природе до всего прочего нету дела. Мой дух не хочет примириться с природой, он ей противится. Она от дьявола, ибо ее безразличие не знает предела. Мне хочется призвать ее к ответу и спросить у нее, как это она отваживается, как это ей удается добиться, чтобы порядочный юноша вел себя при таких обстоятельствах как ни в чем не бывало, чтобы он, как дурак, радовался грудям, его вскормившим, и нашел в себе предостаточно сил вторгнуться в лоно, его родившее. На подобный упрек природа, которую многие называют матерью и богиней, могла бы, наверное, возразить, что силы были даны юноше неведеньем, а не ею. Но тут госпожа богиня лжет, ибо под защитой и под покровом неведенья действует все-таки не кто иной, как она, и будь у нее хоть крупица порядочности, как же бы она не взбунтовалась против такого неведенья и не помешала ему, вместо того чтобы стать его сообщницей и наделить злосчастного юношу должной силой? Она поступает так из безразличия, настолько беспредельного, что оно простирается не на одно его неведенье, но и на нее самое. Да, природа равнодушна к себе самой, ибо в противном случае как же бы она могла допустить, чтобы ее собственное устремление в даль времен до того извратилось и чтобы рожденный от женщины, совокупляясь и плодясь, шел во времени не вперед, а вспять, в материн-
163
ское чрево, и зачинал потомков, у которых лицо, так сказать, на затылке?
Позор природе и ее безразличию! Впрочем, нужно признать, что не будь она столь безразлична и воспротивься неведению, Григорс оказался бы в весьма щекотливом, отнюдь не подобающем рыцарю положении, чего я опять-таки не могу ему пожелать. Не знаю и знать не хочу, почему Сибилла в тихой своей молитве так пеклась о его чувственности. Во всяком случае, тут он был на высоте и наслаждался зрелостью своей подруги с такою же страстью, с какою та упивалась его молодостью. Словом, они были очень счастливы, — здесь невозможны никакие иные выраженья и определенья, — счастливы вполне, всей душой и всем телом, и в ту ночь и много других ночей и дней, блаженная герцогская чета, которую тоже можно было бы назвать «жойделакур», радость двора, как некогда прелестных детей Гримальда и Бадугенны; ибо их счастьем, скажу честно, было озарено все, что их окружало, на всех лицах сиял его улыбчивы^ отсвет. Оно, как солнце, согревало своими лучами страну, и даже о том, что обычно, в соответствии с верным порядком и направлением, называют потомством и прибылью в семье, даже об этом позаботилась природа, совершенно безразличная к своим действиям: госпожа Сибилла незамедлительно понесла, утроба ее, пустовавшая столько же лет, сколько было ее супругу, тяжелела и тяжелела, и ровно через девять месяцев после того, как огни факелов осветили опочивальню новобрачных, герцогиня, в умеренных и вполне естественных родовых муках, разрешилась девочкой, которую назвали Геррадой и которая удалась не в родителей: не отличаясь смугловатой латинской бледностью, она походила на свою бабку с материнской стороны, на благочестивую госпожу Бадугенну; как та бела и румяна, она была по-своему миловидна. Что у нее «лицо на затылке», никто не находил.
Конечно, все радовались бы еще больше, если бы стране был тотчас же подарен наследник мужеска пола, защитник и покровитель, надежда на будущее. Но зато ведь сам отец был еще так обнадеживающе
164
молод, что, можно сказать, сам заменял преемника, в котором покамест судьба отказала стране, и если превосходившая его годами Сибилла показала себя полноценной, жизнетворной женой, то в лице ее супруга у страны был герцог, о каком мог только мечтать весь христианский мир. Он часто чинил суд, когда требовалось разобраться в каком-нибудь спорном деле или в междоусобной распре, и так как он в монастыре изучал de legibus, до чего не снисходил еще ни один государь, то не было на свете лучшего судии, чем он, пламенный поборник права и к тому же добросердый государь, стремящийся мудро удовлетворить всех и каждого. Десницы его, победившей бесноватого соискателя, боялись повсюду; никто не шел войной на страну, которая находилась под защитой обладавшего столь твердой и цепкой рукой государя, а самочинно нарушить мир, поневоле хранимый соседями, герцогу Григорсу и в голову не приходило. Он мог бы, конечно, кичась присущей ему способностью непомерно сосредоточивать свои силы в бою, склониться к захватничеству и подчинить себе больше земель, нежели ему принадлежало. Однако, хвала создателю, он не стал на этот путь и, блюдя меру, не желал иметь больше того, что было его достояньем и собственностью.
Так миновало три года. На третий, в знак счастья, которым она наслаждалась с юным своим супругом, Сибилла опять понесла.
ИЕШУТА
Думается, я уже достаточно, хоть и с немым отчаяньем, прославил благоденствие и блаженство этой четы. Пора сказать всю правду и несколько ограничить славословия. Тень легла на их счастье, тень и с его, и с ее стороны, не видимая миру, замеченная и осознанная лишь ими самими, каждым в отдельности, ибо каждый думал, что тень падает только от него. Они разделяли тайну вины и греха, которую каждый считал своею тайной и которую они,
165
при всей их сладостной близости, друг от друга скрывали. Это-то и было омрачающей тенью.
Сибилла в немом страхе таила от любимого, что она некогда предавалась порочным утехам с прекрасным братом и родила усопшему бесприютное дитя. В каждом любовном объятье она отдавала ему, чистому, греховное тело, испытывая при этом блаженство и все-таки казнясь стыдом и муками совести. Блаженством была надежда греха целительно омыться в чистоте, его тоска по очищению чистотой. Мукою и стыдом была благочестивая боязнь бедного греха замарать чистоту, осквернить ее слиянием с нею. Сибилла не раз плакала в одиночестве от этого стыда перед чистотой, которую она втянула в свой грех, но тщательно хоронила свои слезы от людей, и особенно от возлюбленного, единственного, кого она могла любить после смерти ее прекрасного брата. И он не замечал ни следов ее слез, ни скорби, придававшей ее ласкам только еще большую страстность.
У него была своя собственная забота, та же, что у нее, и при всем его счастье в державных делах и в супружестве он оставался «Тристаном, живущим в заботе». Разве он пустился в странствия не для того, чтобы найти своих многогрешных родителей, пасть к их ногам и простить им свое бытиё, дабы и господь простил всех троих? Вместо этого он был герцогом в первой попавшейся стране, куда его занесло туманное море; впрочем, он завоевал женщину сладостной зрелости, необычайно близкую, как он сразу почувствовал, его природе, Сибиллу, точное подобие царицы небесной, и при этом созданную для земной радости, так что целомудренно-детская почтительность и мужской пыл странно соединялись в ее объятьях[21]. В ее объятьях, у нежной ее груди, вкушал он совершенное блаженство, укромную отрешенность грудного младенца и в то же время мужское могучее вожделение. Стало быть, совершенство может вырасти из чего-то страшного и ужасного, как я заключаю со свойственной иноку рассудительностью[22]. Право же,
166
в супружеские радости Григорса я, монах, вникаю лишь из духовной отваги и сокрушаясь о скорби, скорби, что вселилась и в него, и в нее, как червь в розу. Ибо, увы, он ведь обманывал ее, чистую и высокую, возвысившую его до себя, и скрывал от нее, что тот, кто ее завоевал и кому она целиком отдалась, — в сущности, благообразный выродок. Он был обманщиком, утаивая от нее, что он — найденыш, выброшенный волнами и воспитанный из христианского состраданья, сын греха, чье мнимо красивое тело ей вовсе не следовало бы ласкать, ибо на самом деле оно состояло сплошь из греха. Правда, он жертвовал им, этим греховным телом, в бою с драконом; но ведь он же знал наперед, что победит благодаря своему дару чрезвычайной собранности, и завоевал в поединке женщину, которая теперь рождала ему маленьких Геррад, не подозревая, что это — отпрыски греха с отцовской стороны, семена наследственного проклятья, внуки порока. Как осмелился он плодить своим телом маленьких Геррад и протаскивать их в княжеский дом, молодым хозяином которого он теперь стал, — бедных, незаконных детей чистоты и скверны? Этим он был озабочен до слез.
Он скрывал свои слезы от всех, особенно от жены, считавшей, что он счастливей ее, скрывал свое горе так же, как и дощечку, которую всегда держал при себе и не уставал перечитывать: недаром я уже заранее сказал, что ни одна дощечка не читалась так часто, как эта. Хранилась она в тайнике, в покое, где он любил уединяться, высоко в стене под деревянной обшивкой: став на цыпочки, он мог как раз дотянуться рукой до почти незаметной дверцы и, приоткрыв ее, извлечь из ниши печальное свое сокровище, приданое из памятного бочонка, нарядную вещицу, на которой были начертаны неприглядные его обстоятельства. Он садился или опускал колени на скамеечку, положив дощечку на столец и видел перед собой свою жизнь; он снова и снова читал о своем хоть и высоком, но мерзостном
167
рожденье, о том, что его отец приходится ему дядей, а мать, стало быть, теткой, бил себя в грудь и оплакивал жалкое происхождение плоти своей. Он молился за своих родителей, которых представлял себе трогательно и неповторимо прекрасными, коль скоро они впали друг с другом в подобный грех, и которых он не нашел, употребив все свои способности на то, чтобы освободить и завоевать эту страну и в придачу к ней — восхитительнейшую женщину, или, вернее, женщину и к ней в придачу страну. Он молился и за себя, сокрушенно поднимая глаза к небесам, молил бога простить ему его жизнь и то, что он, храня свою тайну, делит ложе с чистой и непорочной и разыгрывает из себя герцога — правда, очень хорошего, как все говорят, но хорошего лишь потому, что ему это было так нужно. Молился он и за маленькую Герраду, которую едва осмеливался целовать, потому что дал ей в наследство свою греховную кровь, и не менее сокрушенно за новое свое дитя в плодоносном лоне Сибиллы.
Почти каждое утро, спозаранку, покинув супругу и только будучи совершенно уверен, что никто не нарушит его одиночество, он предавался чтенью и покаянным молитвам в своем покое. Он входил туда твердыми шагами гордого и красивого юноши, каким он и был, а возвращался оттуда с видом грешника, только что вышедшего из бичевальни, и это не осталось незамеченным.
Итак, слушайте! Среди прочей челяди в замке жила одна служанка, Иешута по имени, годная лишь на то, чтобы стелить постели, выметать сор да посыпать дорожки песком, существо быстроглазое, дерзкое на язык и крайне любопытное, вернее, по самой своей природе только и знающее, что копаться в таких делах, о которых только и можешь сказать: «Ну и ну!» или: «Как же это так?» или: «Если тут хорошенько тайком поразведать, то, пожалуй, на свет божий выплывут такие занятные историйки, что просто душе потеха». В поисках подобных новостей она так и рыскала горящими глазками, и ее неугомонный язычок так и сновал без устали между ее губами.
168
Иногда ей случалось поболтать с госпожой, взбивая супружескую постель или разводя огонь, и Иешута плела герцогине какую-нибудь глупейшую и грубейшую историю из быта низов, вознаграждавшуюся смехом царственной слушательницы, или же доносила и ябедничала, подкараулив крамолу, причем не в расчете на особую благодарность хозяйки, а просто забавы ради и, пожалуй, еще из желания посвятить благородное неведение во всякие мерзости и тем самым его немного запачкать: она ликовала в душе, видя, как краснеет, качает головой и хмурится, едва удерживаясь от смеха, Сибилла, ибо коль скоро благородная дама не затыкает ей рта, то, значит, она только разыгрывает отвращенье, а в сущности-то отнюдь не прочь немножко запачкаться.
Жгучее любопытство Иешуты могло бы, пожалуй, найти причину приглядеться к самой госпоже и ее тайной жизни, к следам слез, к печали, в которой она подчас ее заставала. Но если на это негодница и обращала внимание, то лишь в связи с подобными же открытиями касательно прекрасного хозяина, молодого правителя Григорса: он совсем по-иному возбуждал ее любопытство, ее похотливую жадность до всего занятного и еще не разведанного. Она по-кошачьи ходила вокруг него на почтительном расстоянии, с метелкой в руке, и глядела на него искоса или таращила глаза исподлобья, причем ее язычок уже не сновал между губами, а оцепенело застывал в уголке рта. Ей только того и нужно было, чтобы она его видела, а он ее — нет. Ибо она отнюдь не желала и не питала надежды привлечь его взор к себе: она была замараха, скорее безобразна, чем смазлива, ее неприглядность скрашивалась разве что острым любопытством и неудержимой пытливостью, а он — прелестный рыцарь, проводящий ночи с красивейшей женщиной. И все же ее сердце согревалось каким-то подобием мечты о любви, когда она украдкой бросала на него взгляд, ибо она догадывалась, что не так уж все благополучно, чисто и ясно в душе этого прекрасного супруга с мужественно-юношеским лицом, что тут есть какая-то позорная и
169
скорбная тайна, приподняв и убрав покровы с которой можно потешить свою любовь к грязным происшествиям[23].
Зачем столько слов! Иешута узнала об его покаянных молитвах. Сгорая от любопытства, она углядела сначала случайно, а затем уже путем искусной слежки, что он по утрам направляется в свой покой походкою повелителя, а через час выходит оттуда с красными глазами и с видом человека, подвергшего себя бичеванию. И вот, беззвучно подскочив к двери, когда он снова туда ушел, она жадно приникла глазом к щели, которую давно обнаружила в дверной доске и потихоньку чуть-чуть расширила; хоть и мало, а все же кое-что можно было увидеть — например, как он вынул какой-то предмет из стены, и каялся, и бил себя в грудь, читая таинственные письмена таинственной грамоты в мнимом уединении.
До чего же сладостно было подсматривать! Она отскочила от двери, опрометью помчалась через залы и коридоры, затем пересилила себя, умерила шаг, чтобы не запыхаться, и вошла в опочивальню августейших супругов, где, заплетая косу и напевая при этом песню, сидела госпожа, не обратившая на служанку ни малейшего внимания. Иешута стала стелить постель и, усердно взбивая подушки, заговорила:
— Ах вы, мои подушечки, шелковые мои cuissins, княжеские, мягонькие! Вот я вас взбиваю и расправляю ваши вмятинки, а вы все молчите, хоть у вас и есть о чем рассказать Иешуте: о тайных слезах, которые вы в себя впитали, о вздохах из благородной груди, которые вы заглушаете по ночам, чтоб ничего не узнала любимая… Затем она скосила глазок на госпожу, посмотреть, слышит ли та. Но та не слышала и продолжала расчесывать и укладывать волосы, не замечая Иешуты. Девке пришлось начать все сначала, она опять запричитала вполголоса:
— Ну, конечно, вам бы только молчать! Ничего-то вы не хотите поведать служанке, господские
170
cuissins, расправляющей вас и взбивающей, не обмолвитесь ей о ваших секретах, о горючих слезах, выпитых вами, как мне сдается, в ночной тишине, о вздохах из глубины души, которые украдкой, когда любимая спала, доверили вам прекрасные юношеские уста, украдкой, с оглядкой…
Тут наконец Сибилла услышала и спросила:
— Что это за вздор мелешь ты, занимаясь делом?
Иешута сделала плечами такое движение, словно она содрогнулась от страха и, запинаясь, ответила:
— Ничего, ничего, милая госпожа! Бог свидетель, я ничего не хотела сказать. Я обращалась к подушечкам, к этим мягоньким княжеским подушечкам, что у меня в руках, а ни в коем случае не к вам, как это я осмелюсь? Я прямо в ужасе оттого, что вы меня услыхали, я вся дрожу. Вы случайно подслушали мою болтовню, а я-то думала, что я здесь одна-одинешенька. Никогда не надо подслушивать чужих секретов, от этого себе ничего, кроме горя, не наживешь. Но, конечно, коли бог нарочно так подстраивает и дает нам подслушать чужие секреты, то, видно, так уж ему угодно, чтобы мы нажили себе горе.
— О каком же это горе ты, дура, болтаешь?
— О тайном, госпожа, о скрытом от всего мира, и, право, поделом ему, подлому миру. Но скрывать и от вас? Это уже не годится, и богу это, право же, не угодно!
— Послушай, Иешута, я отлично знаю, что ты болтунья, но теперь мне кажется, что ты немного свихнулась.
— Вполне возможно, милая государыня. Я всего только бедная, слабая девушка, которой и свихнуться недолго, проведавши с божьего изволенья о таком горе.
— Чье же горе-то?
— Ах, боже мой, вот вы и спрашиваете меня, благочестивая повелительница, потому что вы ненароком обратили на меня внимание! Чего бы ни отдала жалкая прислужница за то, чтобы вы не обратили на
171
нее внимания! И все же из самого сердца у меня так и вырывается крик: обратите внимание!
— На что?
— На что? Спросили бы лучше на кого! Нет, нет, не спрашивайте!
— На кого же, дуреха?
— Вы и в самом деле спрашиваете: «На кого»? И я должна вам ответ держать! Нет, никогда не скажу, никогда! И все-таки это нужно сказать ради вашего счастья. На милого герцога, на вашего супруга.
— На герцога Грегора? Неужели я как жена недостаточно внимательна к нему, неужели, по-твоему, я недостаточно хорошо читаю в его глазах?
— О госпожа, вы смеетесь над глупой служанкой, и поделом ей! Смейтесь надо мной, надавайте мне оплеух, чтобы щеки мои горели, за то, что я осмелилась так подумать! Ну, конечно же, вы разделяете его тайну, вам известна беда, о которой он, каясь, горюет, когда его никто не видит, вы знаете все и только виду не подаете.
Губы Сибиллы чуть-чуть искривились, а лицо ее побледнело, когда она воскликнула:
— О какой это тайне ты болтаешь, несчастная, о какой беде, и что это я должна знать? Ты, кажется, заговариваешься!
— Увы, нет, дражайшая госпожа. Своими собственными глазами я только сейчас видела его в таком горе, что меня прямо за сердце схватило.
— Возможно ли это? — спросила Сибилла, и странная судорога свела ей щеку.
— Какая беда могла приключиться с герцогом, с тех пор как он меня покинул? Всего какой-нибудь час назад он ушел от меня герой героем!
— То-то оно и есть, сладчайшая повелительница. Уходит к себе героем, а возвращается как грешник, убитый раскаяньем.
— А теперь, Иешута, довольно, замолчи! Уж я-то вижу тебя насквозь. Ты любишь и всегда любила пачкать меня грязным своим языком и уже не раз злила меня, хоть я и смеялась. Никогда не прино-
172
сишь ты добрых вестей, а все норовишь, как ворониха, накаркать что-нибудь неприятное и страшное. Лучше бы ты молчала, чем рассказывать всякие небылицы, сулящие мне одно только горе. Итак, замолчи, я тебе приказываю.
— Да, благороднейшая госпожа, — молвила Иешута. — Так точно. Я помолчу.
Прошло несколько мгновений. Сибилла укладывала свои волосы, хотя они уже были причесаны, а служанка заканчивала уборку. Затем герцогиня сказала: —
Иешута, у тебя какая-то невежливая манера молчать. Я сказала тебе: «Замолчи!» — и ты повиновалась. Но твоя манера выполнять мои приказанья невежлива. Если уж ты начала говорить, так говори до конца! Что же ты увидела, что подслушала?
— Клянусь моей верностью, праведная повелительница, я давно уже знаю, что нашего господина печаль снедает. Помилуйте, госпожа, что же это за горе, если он скрывает его даже от вас, при вашей-то дружбе и близости? Золотая моя, в чем бы тут ни было дело, это беда не из малых. Не раз я уже за ним наблюдала и давно смекнула, что забота его куда как велика и что покамест он никому ее не доверял. Сегодня, по воле неба, я еще подметала полы и вытирала пыль в его комнате, когда он туда вошел, не замечая меня, как не замечают стула или шкапа. Это перст божий, молвила я себе и, скорчившись, сгорбившись, углядела все, что он делал. Он поставил перед собой какую-то вещицу и упал перед ней на колени: казалось, что по ней он читает свое страданье, непрестанно взглядывая на нее, бия себя в грудь, молясь и проливая горькие слезы. Никогда я не видела, чтобы человек так рыдал. Тут я в своем согбенье и убедилась, что сердце его тайно и тяжко страдает. Ибо, сказала я себе, если такой отважный рыцарь так горько плачет, то, видно, причиной тому должна быть великая тоска в его сердце.
— Горе! — дрожащими губами промолвила герцогиня.— Ты говоришь правду? Да, да, кажется, так
173
и есть. О горе, любимый мой господин! Что же может его печалить? Ибо, признаюсь тебе, Иешута, — я этого не знаю! Его страданье мне неизвестно и непонятно. Он молод, здоров, красив и богат, — так чего же ему не хватает? А если и в чем у него нехватка, я все ему отдам без остатка. — Бог мне свидетель!
И она заплакала.
— Я немного старше, чем он, — всхлипывала она, — немного стара для него. Однако он бурно меня любит, у меня есть тысячи тому доказательств, и я вторично ношу в себе его залог. И все же он живет, таясь от меня, и не подпускает меня к своему страданию. Горе, горе мне, бедной женщине! Никогда моя жизнь не была так хороша и никогда не будет так хороша, как стала благодаря его молодости и доблести. Поверь мне, на свете не было лучшего мужа! Но что же это случилось с его молодостью, что же это с нею стряслось, если он должен тайно каяться и рыдать, как ты говоришь? Дай мне совет, ибо у меня нет никого, кто мог бы мне посоветовать, как выведать его страданье и тайну, не опасаясь разрушить наше счастье!
— А что, если бы вы его спросили!
— Нет, нет! — воскликнула Сибилла в ужасе. — Только не спрашивать! Расспросы — предчувствую! — сулят опасность и смерть. Страданье его, насколько я вижу, невыразимо, ибо, если бы его можно было выразить словами, разве он не поделился бы им со мною уже давно? Оно, видно, таково, что с обоюдного ведома нам обоим нельзя о нем знать, и как я ни жажду разделить с ним его горе — он не должен знать, что я его разделяю. Мы обязаны вместе нести этот крест, но каждый в отдельности. Возможно, что моя умудренная знаньем любовь поможет ему и будет ему добрым ангелом в его великом горе!
— Это нетрудно устроить, — отвечала Иешута. — Я приметила тайник, откуда он вынул вещицу, по которой он читает свое горе и пред которой так сокрушается. Она лежала в стене, выше его головы. Туда
174
он и прячет ее после покаянных молитв. Я отлично приметила это место. Если хотите, я отведу вас туда, когда он ускачет в суд или на охоту, и покажу вам дверцу и нишу, чтобы вы все увидели собственными глазами и, ни о чем не расспрашивая, выведали все как есть без его ведома. Сибилла задумалась.
— Иешута, девка! — сказала она наконец. — Мне страшно, когда подумаю об этой вещице в стене,— никакими словами не передать, как мне страшно. И все-таки ты права: если я хочу разделить с ним его страданье без его ведома, чтобы, может быть, стать ему добрым ангелом, мне надо увидеть то, перед чем он скорбит и на чем, как сдается, написана вся его скорбь. На пятый день, считая от нынешнего, он назначил охоту с сокольниками в сыром лесу. Когда они ускачут и, наверно, задержатся где-нибудь на постоялом дворе, ты поведешь меня и покажешь мне эту нишу. Ты, верно, думаешь, меня снедает нетерпение? Да, снедает. Но ведь как устроено сердце человеческое! Я ото всей души благодарю господа за то, что до их отъезда осталось еще пять дней.
ПРОЩАНИЕ
Однако дни и ночи шли своей чредой, и настало утро, когда рыцари на конях, предвкушая радости охоты, выехали вместе с сокольниками из замка, чтобы возле садка в лесу и на окрестных болотах травить чапур и коростелей, куропаток, перепелок и драхв. Впереди, держа на руке, под колпачком, отличного, обученного самою Сибиллою, ястреба, скакал герцог Григорс. Он был удивлен тем, что его жена при прощании так испуганно к нему прижималась, упрашивая его отложить охоту или хотя бы поскорее, ах, поскорее вернуться, пока с ним или с ней не случилась беда. «Какая беда, любимая?» — спросил он, улыбнувшись, и обещал ей воротиться не поздней, чем на третий день. Этот срок показался ее любви слишком долгим.
175
Едва конный поезд спустился в долину, Иешута прокралась к госпоже и сказала:
— С вашего позволения, государыня, опасаться некого, и я вас могу отвести.
— Куда, ворониха?
—К тайничку в стене и к вещице, что в нем хранится.
— Тьфу, неужели ты все еще об этом думаешь и никак не выкинешь из головы этой дряни. Мы не успеем. С часу на час может вернуться герцог.
— О нет, раньше, чем послезавтра, он никак не вернется. Они дважды переночуют на постоялом дворе у лесной опушки. Вы в полной безопасности.
— В безопасности от моего супруга? Как это у тебя хватает дерзости, негодница! Неужели я буду обманывать его с тобой?
— Вы же сказали, что должны обо всем проведать без его ведома, чтобы стать ему добрым ангелом.
— Да, это я говорила, — сдалась Сибилла.— Ну что ж, коли так, шагай впереди — далеко впереди меня, чтобы не похоже было, что я иду за тобою следом.
Так пришли они в cabane1 и личный покой герцога, и Иешута пальцем указала госпоже на тайник.
— Там, — промолвила она, — наверху. Щель, где отворяется дверца в обшивке, почти незаметна. Вам не дотянуться. Прикажете мне встать на стул и вынуть эту штучку?
— Не смей! — прикрикнула на нее Сибилла. — Пододвинь-ка стул! Я достану сама.
И, поддерживаемая служанкой, она взобралась на стул, отворила дверцу, увидала тайник, извлекла из него вещицу, обернутую в шелковую ткань, которую она развернула и уронила на стул, и перед ней оказалась дощечка слоновой кости, в золотой оправе, украшенная драгоценными каменьями, исписанная на манер грамотки ее же рукой. Лишь слабый возглас вырвался из ее уст — он выражал всего только удивленье, умиленье, воспоми-
176
нанье о давней боли. Она с грустью глядела на дощечку. Но вдруг холод пронзил ей корни волос и метнулся оттуда вниз по спине. Губы ее, в которых теперь не было ни кровинки, тихо пробормотали: «Как же это так?» «Как же это так?» — повторили они громко, с угрозой, возмущенно-непонимающе. Потом она замолчала, взглянула на дощечку, прочла ее, отвела от нее глаза и застыла в оцепенении.
В голове ее вихрем проносились мысли. «Откуда она у него? Он здесь, и она с ним. Значит, дощечка не лежит на дне морском, а достигла суши. Бочка и челн достигли суши. Ребенок достиг суши! Он жив. Он стал большим и прекрасным, как Григорс. Он дал ему дощечку, из рук в руки. Почему? Наверно, Григорс получил ее не от ребенка, своего друга и однокашника, но от людей, которые подобрали ребенка, нашли его мертвым или убили и разграбили бочку. Ребенок, хотя и достигший суши вместе с дощечкой, мертв, а Григорс жив, такова разница между ними. Это — большая разница, и дощечка у Григорса, а не у ребенка. Но только он кается при виде дощечки и бьет себя в грудь, словно на ней написана его собственная греховная доля, — его, а не его сверстника, моего ребенка. Это страшно сокращает расстояние между обоими, между тем и другим. Вместе с дощечкой здесь оказались и шелка. Они тоже не лежат на дне морском. Я не помню, это было слишком давно, я не могу этого как следует вспомнить, но со всею решительностью я отрицаю, что Григорс на моих глазах носил платье из такого, из точно такого же шелка и до сих пор еще бережет его. Страшно, страшно до жгучего хохота и умопомрачения сокращается расстояние между Григорсом и ребенком. Где мой разум? Ребенка не звали Григорсом — то есть его вообще никак не звали. Может быть, теперь его зовут Григорс? Может быть, Григорс и есть ребенок? Может быть, грешное мое дитя —мой супруг? Безумие, до хохота жгучее, оглушающее! И мрак, мрак…»
Она без чувств свалилась со стула но, вовремя подхваченная Иешутой, не получила тяжелых уши-
177
бов. Служанка побежала, крича: «На помощь, на помощь. Госпожа упала замертво!» Пришли люди, отнесли ее в спальню. Дали понюхать острого зелья. Конный гонец помчался в лес, к герцогу. Она потребовала Григорса, как только открыла глаза, и узнала, что он находится на пути к ней. Она не расставалась с дощечкой, которую у нее не удалось отнять даже во время обморока.
Гонец прискакал на постоялый двор. Охотники и так уже пребывали в унынии. Пропал их лучший сокол: с перекорму, не почуяв добычи, он улетел в лес, где и потерялся. А тут еще эта дурная весть:
— Господин герцог, если вы хотите застать герцогиню в живых, то спешите, иначе прибудете слишком поздно. Госпожа при смерти.
— Малый, как это может быть? Она была здоровехонька, когда мы уезжали.
— Господин, к сожалению, я должен подтвердить то, что уже сказал.
Тут не стали мешкать. Они сели на коней и поскакали. Поверьте мне, они не передохнули, пока не примчались домой и герцогине не было сказано, что ее супруг здесь. Он вошел к ней в зеленом охотничьем платье — и что же он увидел! Едва державшуюся на ногах, изжелта-бледную, вконец обезумевшую женщину, с блуждающими от ужаса глазами, убитую горем.
— Григорс! — вскричала она и. упала ему на плечо, спрятала лицо на его груди и простонала опять: — Григорс! Так я называю тебя, кто бы ты ни был, ибо, клянусь богом, по имени можно назвать любого, тут нет ничего ужасного! Мой Григорс — ибо ты во всяком случае мой — скажи мне, с каких пор тебя так зовут? Кто дал тебе это имя? Григорс, любимый, — ибо я все равно люблю тебя! — кто ты, Григорс? Небо и ад ждут твоего слова: кем ты рожден?
Он склонился над ней.
— Бога ради, госпожа, что с вами сталось? Милая, чистая жена моя, что с тобою стряслось? Я догадываюсь, я знаю, в чем дело. Твой вопрос все выдает. Наверно, какой-нибудь враг-проныра сообщил вам,
178
что я низкорожденное дитя хижины? Так вот, какой бы подлец и мерзавец вам этого ни наговорил, заставив вас столь тяжко страдать, — он лжет. Пусть он хорошенько прячется от меня, ибо, если я узнаю его, он пропал. Говорю тебе: негодяй врет на свою же голову. Я не был обманщиком, когда взглянул на вас и дрался из-за вас. Я высокого рода, это письменно засвидетельствовано, я вполне равен по рождению тебе, любимая, можешь быть совершенно спокойна: я тоже герцогское дитя.
— Равен по рожденью? — повторила она, содрогнувшись, и уставилась на него своими безумными глазами. Затем она подняла дощечку.
— Кто тебе это дал? Он посмотрел на дощечку и побледнел так сильно, что стал похож на нее. Глаза его провалились в глазницы. Голова его низко опустилась.
— Ну что ж, — промолвил он наконец, — ты все знаешь. Дощечка, которую мне дали в приданое, бросив меня на произвол ветра и волн, попалась тебе в руки. Прощай, наше счастье. Оно зиждилось на лжи. Ибо я лживо утаил от вас, что я дитя греха и все мои члены сотворены из греха. И я лгал вам сейчас, говоря, что я не был обманщиком, когда взглянул на вас, на чистую и непорочную. Да, я обманывал вас. Я осквернил вас своей любовью, осквернил плод вашего тела моим телом. Я не раз молил бога, чтобы он отпустил мне мою вину. То была неправедная молитва. Он это доказал, и я ухожу. Вы должны были бы прогнать меня, не сделай я этого сам. Вы больше не увидите низкого подлеца. Я ухожу искать своих родителей.
— Григорс,— взмолилась она, —так я тебя во всяком случае могу назвать, а ты — ты меня никак не называй! — Григорс, любимый, скажи мне, что вас двое, что вы не одно лицо, человек, о котором говорится в грамоте, и ты! Не правда ли, тебе дал ее кто-то другой, она написана не для тебя! Пусть это будет ложью — скажи мне это! — Нет, женщина, довольно лжи! Это завещано мне. Благочестивый муж, меня воспитавший, хранил
179
для меня эту дощечку, пока я не вырос. Дитя, которому она была дарована, — это я.
— Григорс, значит мы пропали! Значит, наше место в преисподней. Григорс, если ты говоришь правду, вместо того чтобы милостиво мне солгать, значит между моим супругом и тем ребенком нет никакой разницы, кроме той, что ребенок теперь мужчина. Григорс, эта грамота написана мной.
Они глядели друг на друга глубоко ввалившимися глазами. Чтобы все это осмыслить, нужно было время. Затем они разошлись к противоположным стенам, прижались к ним лбами, и жаркие волны, одна за другой, залили их мертвенно-бледные лица, откатились к сердцам и, пылая, снова ударили в щеки. Долго в комнате раздавались одни только стоны. Затем они удалились от своих стен, юноша — первым. Он упал к ее ногам.
— Мать, — сказал он, — прости преступника!
Она хотела погладить его волосы, но отдернула от них руку, как от раскаленного железа.
— Сын мой и господин, — сказала она,— прости меня! Я видела твое платье из тех тканей.
Он спросил:
— Где мой отец?
— Он погиб в покаянном странствии, твой сладчайший отец, — отвечала она безжизненно. — В тебе я нашла его снова.
— Наверно, я похож на него?
Она кивнула. Тут они снова чуть было не разошлись к своим стенам, но опомнились и остановились.
Она сказала:
— Зачем я явилась на свет? Устами господними проклят был час моего рожденья. О небо, потому-то мне и приснилось, что я родила дракона, который улетел, но вернулся и пробился в разорванное материнское лоно! Григорс, это был ты! Горе поклялось меня преследовать и не нарушает своей клятвы, ибо за одну радость я плачусь тысячей мук. Я мечтала о спасенье в чистоте. И вот ад приводит ко мне дитя моего греха, чтобы я спала с ним, как с мужем. Он содрогнулся и воздел руки горе́.
180
— Мать, оскверненная мать, не говори так! Но нет, нет, говори! Я понимаю, зачем ты это делаешь. Мы должны говорить ясно и называть вещи их именами, самобичевания ради. Ибо говорить правду — это и есть самобичевание. Господи, слышишь ли ты, как мы бичуем себя, говоря без лживых обиняков? Вот, значит, то, чего я добивался, моля тебя доставить меня туда, где я на благо и на радость себе увижу свою любимую мать. Ты, щедрый и очень добрый бог, исполнил мою просьбу иначе. Дай мне силу, великую силу подавить поднимающийся во мне гнев на тебя! Ведь, право же, лучше бы мне никогда ее не видеть, чем в течение трех лет быть ее мужем, преемником собственного отца, и прижить с ней детей, для которых и подавно нет места на земле, если нет его для меня, и бытие которых не укладывается в нашем рассудке — никто не знает, что о них и подумать! Ведь это — гибель рассудка, гибель мира! Да, госпожа, вы вправе называть меня Григорсом, я же не смею называть вас ни по имени, ни матерью, то и другое было бы безумием, и до чего же мне жаль слова «мать», которого я лишился, потому что его осквернил. Приличнее и осторожнее было бы, вероятно, называть вас «милая тетушка», ибо любовная связь с таковою менее мерзостна. Но кем доводятся мне мои дети, Геррада и тот, который родится, этого я не знаю, еще не выяснил. Если я не поступлю, как Иуда, повесившийся из покаянного отвращения к своему злодеянию, то у меня еще будет время об этом подумать.
— Григорс, сын мой и господин, я раскаиваюсь в том, что подала вам пример самоистязания, назвав вещи их именами, ибо у вас все получается еще страшнее. Ужас мой возрастает, а вместе с ним и удивление, что пылающий гнев давно не обрушился на окаянную, что земля еще носит меня после всех прегрешений моего тела. Я, я — главная виновница, я это твердо знаю, и несказанный страх обуревает меня перед адским огнем, который мне грозит, который мне почти наверняка уготовлен за величайшее преступленье. Господин и любимый сын мой, не
181
могли бы вы мне сказать — ведь вы прочли много книг — мыслимо ли искупление столь усугубленного порока и святотатства? И если уж мне, бедной женщине, суждено попасть в ад, то нельзя ли сделать так, — нет, конечно, нельзя! — чтобы он был ко мне хоть чуточку менее суров, чем к другим обреченным на вечную муку?
Она — она не осмелилась дотронуться до его волос, он же — так как волосы ее были прикрыты платком и повязкой — ласково погладил голову, горестно припавшую к его плечу.
— Госпожа, — сказал он, — не говорите так и не предавайтесь отчаянию, это нарушение заповеди. Ибо смертному дозволено отчаиваться в себе самом, но не в боге и в его милосердии. Мы оба по горло погрязли в скверне греха, и если вы полагаете, что погрязли глубже, то, значит, вами овладела гордыня. Не присовокупляйте еще и этого греха ко всем остальным, иначе вы увязнете в болоте по уши. На то и простерта десница божья, чтобы предотвратить сие: это утешение почерпнуто мною в книгах. Недаром я прилежно изучал divinitatem в монастыре «Мука господня». Я узнал, что истинное раскаяние он принимает как искупление всех грехов. Как бы ни была недужна ваша душа, если глаза ваши хоть на час увлажнятся слезами искреннего раскаянья, то поверьте своему сыну, злосчастному своему супругу, — вы спасены.
— Я знаю, — продолжал он, — что́ должно произойти, и выношу решение. Ибо, поймите, дитя превратилось в мужчину, тогда как вы остались женщиной. Я мужчина и я ваш супруг, хотя и вопреки здравому смыслу, и поэтому выношу решение я. Большая часть кары — моя, не в угоду моей гордыне, а оттого, что я — мужчина. Но и вам достанется изрядная доля кары, когда я уйду. Когда я уйду, вы ни в коем случае не должны по-прежнему править страной как герцогиня. Созовите вашу знать и велите избрать нового герцога. Виттиха, вашего дядю, или Веримбальда, вашего двоюродного брата, — безразлично. Затем покиньте престол и живите в смирении, боль-
182
шем, чем то, какое вами владело, когда вы оплакивали вашего брата, моего дорогого отца. Так же, как трон, покиньте и замок. Пусть у его подножья на ваши вдовьи деньги построят у большой дороги приют для бездомных, для старых и дряхлых, для больных и калек. Там надлежит вам править и, надевши серый наряд, лечить хворых, омывать их раны, купать их, одевать, раздавать милостыню странникам-нищим и мыть им ноги. Я ничего не имею против того, чтобы вы привечали и прокаженных, и даже считаю это необходимым. Геррада, наше дитя, относительно которой я еще не выяснил, кем она нам доводится — вам, пожалуй, внучкой, так как я ваш сын, — Геррада пусть помогает вам пить воду смирения, когда подрастет. Она по ошибке крещена. Ребенка, которого ты, любимая, носишь, не следует крестить, таково, увы, мое решение. Назовите его каким-нибудь смиренным именем, например, Стультиция, или Гумилитас, или Маленький Мизерабилис, по своему усмотрению. Так и живите, пока вас не призовет господь!
Я же уйду и наложу на себя эпитимию, и притом чрезвычайную. Ибо людей, столь погрязших в грехе, как я, на земле не бывало, или, если они бывали, то очень редко, — я говорю это не из гордыни. Я пойду по стопам своего бедного отца. Я отправляюсь не в рыцарские странствия, как то казалось необходимым мне, дураку, когда я узнал о своем рожденье, а в покаянное паломничество, как нищий, подобный тем, чьи ноги вы будете мыть. Там я найду себе место, как нашел себе это место в густом тумане: место, вполне достойное этого. Таковы мои последние слова к вам здесь, на земле. Прошайте!
— Григорс, — сказала она, и глаза ее наполнились слезами, а губы попытались изобразить милую улыбку, превратившуюся, однако, в страшную гримасу отчаяния. — Григорс, любимое мое дитя, неужто нельзя оставить внешне все по-старому и, никогда больше не приближаясь друг к другу, хранить сообща нашу тайну? Моя любовь к тебе — это теперь чисто материнская любовь, все супружеское от нее отпало,
183
как отпало и от твоей любви. И все-таки наша кара окажется, может быть, еще тяжелее, если мы, памятуя о нашем грехе, останемся вместе, чем если мы будем далеко друг от друга. Приют я все равно могла бы построить и купать хворых.
— Вы говорите по-женски, — ответил он, — ибо женщиной вы остались, тогда как я стал мужчиной. Я стал им вам на позор. Но хочу им быть вам во спасенье. Как решил супруг, так и будет. Еще раз прощайте! Нет! Никаких поцелуев перед разлукой! И ни в лоб, и ни в руку. С руки-то все и началось. Храни вас бог!
И он ушел. Она простирала к нему руки в тоске.
— Вилигис! — вырвалось у нее из глубины души, но она тут же опомнилась. — Береги себя, дитя, — крикнула она ему вслед,— будь осторожен и не переусердствуй в покаянье!
Но он ее уже не слышал.
КАМЕНЬ
Он надел платье нищего, власяницу, опоясался вервием и не взял с собой ничего, кроме узловатого посоха, ни сумы для хлеба, ни даже чашки для подаяний. Но грамоту, написанную его матерью и матерью его детей, он захватил с собой и сокрыл ее на голом теле. Так спустился он в сумерках из замка своего злополучного счастья и пошел прочь, исполненный решимости не давать себе никакой пощады, разве только нести свой крест с готовностью и охотой. У него было одно желанье — чтобы господь направил его в такую пустыню, где он мог бы казнить себя покаянием до самой смерти.
Переночевал он под деревом, которое осыпало паломника первыми листьями, — так же, как уже однажды на острове, когда он узнал тайну своего рожденья и, не смея укрыться ни в монастыре, ни в хижине, искал крова только под небом. Он избегал людей и людских дорог, когда снова двинулся в путь с восходом солнца. Опираясь на посох, он шагал через
184
бурые луга, леса и глухие дебри, переходил вброд реки возле мостов и ступал босыми ногами но колючему жнивью. В первый день он ничего не ел, на второй угольщики в лесу дали ему свои объедки. На третий, к вечеру, он был уже далеко и не знал, где он находится: пелена проливного дождя заволокла небо, и в сумеречном свете виднелась только тропинка; кривая, заросшая травой, не шире, чем длина рыцарского дротика, она вела с холмов, по которым он шел, в долину близ большого озера. Странник направился по тропинке и увидел там внизу, неподалеку от прибрежных камышей, маленький уединенный домик, куда его несказанно потянуло, ибо душа его истосковалась по отдыху и пристанищу, и он подошел к нему.
Сети, разложенные для починки перед домом, указывали, что это жилище рыбака. Хозяин стоял у двери вместе со своей женой и недоверчиво глядел на скитальца, у которого щеки и подбородок давно заросли темной бородой, кожа огрубела, а волосы сбились в колтун. Грегориус учтиво произнес вечернее приветствие и, скрестив на груди руки, попросил, Христа ради, о ночлеге, хоть и надеялся в глубине души, что просьба не возымеет успеха и рыбак весьма грубо, а то и презрительно, ему откажет. Ибо этого Григорсу еще не случалось испытать, и сильнее, чем желание отдыха, была у него потребность в искупительном унижении.
Оно выпало ему на долю. Рыбак принялся браниться и бранился несколько минут, хотя стоявшая за его спиной жена все время что-то ему шептала, пытаясь его усовестить.
— Ах ты, бродяга, обманщик и тунеядец! — бранился он. — Ты посмел прийти к моему дому, бездельник, здоровенный болван и лодырь, праздношатающийся попрошайка, и хочешь поживиться за счет честных людей, которые тяжким трудом добывают себе кусок хлеба и еле-еле сводят концы с концами! Жена, не шипи, не старайся меня утихомирить, я человек честный и говорю правду! Ишь ты, какой верзила вымахал, ишь ты, ручищи какие, а чтоб потру-
185
диться на совесть, и пальцем шевельнуть не хочешь? Таким бы ручищам да добрую пашню, да бодец, чтоб волов погонять, а ты знай слоняешься по дворам. Эх, скверно устроен мир, если он терпит таких тунеядцев и никчемных людишек, — от них богу никакой чести, они только и знают, что попрошайничают! Жена, оставь свою дурацкую дребедень! Кто сказал тебе, что этот вот малый, если пустить его переночевать, не прирежет нас, когда мы уснем, и не улизнет с нашими пожитками? Стыдился бы, прохвост, своей силы, которой набираешься на чужих хлебах, чтобы пустить ее разве что на какое-нибудь злодейство! Проваливай отсюда сейчас же, а не то я тебя потороплю!
— Именно так, друг мой, — отвечал ему кротко Грегориус, — именно так вы и должны были говорить со мною, по моему желанию. Именно такие слова надлежит мне услышать, и именно такие слова внушил вам господь. Если б вдобавок вы дали мне пощечину, это еще больше послужило бы тому, чтобы немного уменьшить бремя моих грехов. Вы правы: я не смею просить приюта, кров мой — одно только небо. Прощайте!
И он ушел в дождь, который как раз припустил.
В горнице же, куда они спрятались от дождя, при свете коптилки, жена рыбака сказала:
— Муж мой, мне не по сердцу, мне совсем не нравится твое обращение с путником! Ты поносил его и бранил так, что можешь поплатиться за это своей душой. Разве так положено принимать просящего, будь он христианин, турок или язычник? То был, конечно же, добрый, хороший человек, я видела это по его глазам, а у тебя не нашлось для него ничего, кроме жестоких оскорблений да грубых насмешек. Смотри, не наказал бы тебя господь! Кто добывает свой хлеб каждодневным трудом, как ты, которому приходится наудачу рыбачить, тот должен помнить о боге и не очень-то заноситься перед ним, отказывая другим в сострадании, ибо ему-то ничего не стоит не послать тебе рыбы и тебе нечего будет отвезти на рынок, в деревню. Мы поступили бы лучше, если бы вернули несчастного.
186
— Вздор! — сказал рыбак. — Ты, видать, влюбилась в эти ладные члены под нищенским рубищем, в этого смазливого молодого бездельника и не прочь завести с ним шашни, блудодейка и потаскуха?
— Нет, муж мой, — отвечала жена. — Спору нет, меня поразил его вид, но думаю, что не от похоти увлажнились при этом мои глаза. Ты прав, — под его рубищем что-то такое таилось, и я никак не могу успокоиться, после того как мы его прогнали. Говорят, что в лице неимущего мы потчуем господа нашего Иисуса Христа, и еще сказано, что встречать его нужно с тем большим почтеньем, чем меньше мы знаем, кто перед нами и кого скрывает рубище — нам во испытание. Когда он заговорил о пощечине, я глядела на него уже совсем, совсем по-другому. Право же, позволь мне вернуть его!
— Ну, так побеги и приведи его, чтобы он у нас переночевал, — сказал муж, теперь тоже немного оробевший. — Ведь в душе я так же, как и ты, не хочу, чтобы его съели лесные волки. И она побежала, накинув куртку на голову, под дождь, догнала незнакомца, поклонилась ему и сказала:
— Нищий, мой муж, рыбак, образумился и раскаивается в своих неприветливых речах. Он согласен, что погода слишком плоха для вас, и говорит, что здесь водятся волки, и хочет, чтобы вы укрылись на эту ночь в нашем доме.
— Ну что ж, пусть будет так, — отвечал Грегориус. — Я последую за вами не для того, чтобы себя ублажить, а потому, что ваш муж, быть может, сумеет помочь мне советом.
Когда они возвратились в горницу, рыбак угрюмо повернулся к ним спиной, ибо впечатление от предостерегающих слов жены ослабло уже в его сердце. А женщина зажгла дрова в печи, чтобы промокший до нитки путник согрелся у огня, и сказала, что испечет лепешку, достаточно большую, чтобы хватило на всех троих, и которую они запьют молоком. Грегор отклонил ее предложение.
187
— Это тело,— сказал он, — едва ли заслуживает пищи. Я не стану питать его лепешками с противня: краюха овсяного хлеба да глоток воды из колодца — вот и вся моя трапеза.
На том и осталось, хотя женщина очень настаивала, чтобы он дал себе хоть маленькую поблажку. И когда они сидели и ели, жители глуши — свою лепешку, а незнакомец — ломоть черствого хлеба, запивая его водой, рыбак не на шутку рассердился, так что снова не смог удержаться от злобных речей и сказал:
— Тьфу, глаза бы мои не глядели, как ты выхваляешься перед нами своим воздержанием, нищий, а ведь все это чепуха одна. Нечего было мне поддаваться на всякие ахи да охи. Доселе ты не пробавлялся такой скверной пищей, клянусь чем угодно. Просто смешно: ни я, ни жена никогда не видали такого складного тела, цветущего да пригожего. Ты его нажил не хлебом и не водой. Стройные бедра, выпуклые ступни, я же сам видел, а пальцы на ногах ровнехонькие и гладенькие. У настоящего странника ступни плоские да закорузлые, а у тебя они только чуть-чуть замарались. Руки твои и ноги недавно еще не были голыми, можешь мне не рассказывать сказки, они были недурно защищены от ветра и непогоды, а кожа на них — я тебе скажу, что это за кожа: это кожа холеного дармоеда. Погляди, какая светлая полоска обегает вот этот пальчик! Тут было кольцо. У меня есть глаза, чтобы видеть, и я не просто подозреваю, а знаю, что где-нибудь, далеко отсюда, ты управляешься своими нежными ручками совсем не так, как хочешь нам внушить. Ты можешь найти себе прибежище получше, и я уверен, что уже завтра ты будешь потешаться над этой краюхой, над водой из колодца и над нами, бедными людьми.
— Пожалуй, — сказал Грегор женщине, — я поступлю лучше, если уйду в ночь. — Нет, — воскликнул рыбак, — ты поступил бы лучше, если бы дал ответ и сказал нам, твоим добросердечным хозяевам, что ты за человек.
188
— Я это сделаю, — отвечал Григорс, — и кстати замечу, что я испытываю наслажденье, что принимаю это как должное и радуюсь, когда вы в разговоре называете меня на «ты», а я вас на «вы». Я человек, который не просто грешен, как и весь мир, но вся плоть и кровь которого состоят сплошь из греха и к тому же еще погрязли в таком грехе, что тут — конец рассудку, конец миру. Цель моего странствия — найти себе суровейшее пристанище, где я мог бы мукой своего тела до самой смерти платиться за свой грех, чтобы снискать прощенье господа бога. Ныне — третий день, с тех пор как я отрешился от мира и отправился в покаянное паломничество. Кроме угольщиков и свинопасов, я видел в лесу и отшельников. Но по мне жизнь их слишком сладка. Так как путь мой привел меня к вам, то позвольте мне просить у вас милости и совета. Если вы знаете где-нибудь здесь поблизости место, которое бы мне подошло, пустынный камень или одинокую пещеру, но крайне неудобную, то молю вас от души, покажите мне такое место! Тем самым вы сотворите доброе дело!
Рыбак задумался и тут же усмехнулся про себя, ибо его осенила злорадная мысль. «Уж я ему покажу,— думал он. — Уж я прижму голубчика, так что он ужаснется моей затее и постарается выкрутиться. Тут-то обман и обнаружится». И он сказал:
— Если и впрямь таковы твои намеренья, то возрадуйся, друг! Тебе можно помочь, и помогу тебе я. Далеко, среди озера, есть риф, одинокий, пустой, отличное для тебя пристанище, достаточно крутой и шероховатый, сиди себе там и вволю оплакивай свое горе. Если хочешь, я свезу тебя туда и помогу тебе подняться наверх. Подняться туда еще кое-как можно, а вот спуститься оттуда — это ни-ни: такая уж это скала. Но мы с тобой сделаем дело на совесть, чтобы твое покаянное настроение не изменилось, если даже ты в нем и раскаешься. У меня уже несколько лет хранятся небольшие ножные кандалы, железные, крепенькие, с замочком. Мы их захватим с собой, и я на тебя их надену. Если потом тебе эта забава надоест и ты попытаешься спуститься
189
с камня, то тебе все-таки придется остаться там волей-неволей до конца дней твоих, сколько они ни продлятся. Как тебе нравится мое предложение?
— Прекрасное предложение, — отвечал Грегориус. — Оно внушено вам самим богом. Благодарю его и вас и прошу: помогите мне добраться до этого камня!
Тут рыбак оглушительно расхохотался и воскликнул:
— Что ж, нищий, это очень умно! Если ты не шутишь, то я сейчас лягу спать, ибо еще затемно я выйду на лов, и, коли хочешь со мною поехать, вставай пораньше! Только ради тебя, невзирая на потерю времени, я заверну к этому камешку, помогу тебе на него взобраться и надену на тебя вот эти колечки, которые сейчас достану из ящика. Сиди себе там, как сокол на круче, и старься, сколько протянешь, и тогда ты поистине не будешь в тягость никому на земле. Итак, до завтра!
— Где мне спать? — спросил Грегориус.
— Не здесь, — сказал рыбак. — Я тебе все-таки нимало не доверяю. Ложись не в доме, а в каморе. Сарайчик, правда, уже обветшал, но по сравнению с твоим камнем это — царский ночлег.
В полуразвалившемся сарае было холодно и грязно, и не окажись жена рыбака достаточно богобоязливой и заботливой, чтобы принести выдворенному из горницы путнику охапку камыша для постели, тому, кто некогда был герцогом Григорсом, пришлось бы спать на голой земле. Последнему челядинцу в его доме жилось лучше. Но Грегориус думал: «Это еще куда как хорошо, это еще царское ложе. Завтрашняя скала — вот где мое настоящее место». Он растянулся на камыше и положил рядом с собою дощечку. Он долго бодрствовал и молился. Но затем его молодость взяла свое, и он очень крепко уснул, и когда перед самым рассветом рыбак собрался на промысел, он еще лежал, объятый глубоким сном, и не слышал, как хозяин его окликнул: «Эй, нищий!» Окликнув его дважды, тот не стал этого делать в третий раз, сказав:
190
— Дурак я, что ли, чтоб раздирать себе глотку и звать этого мошенника! Уж я-то знал, что не надо принимать его слова за чистую монету и что он, как миленький, отвертится от моего предложенья. Ладно уж, у меня свои дела.
И он направился, как каждое утро, вниз, к озеру. Но, увидев это, жена его поспешила в сарай, где из добрых побуждений принялась тормошить и будить пришельца:
— Любезный, если ты впрямь хочешь поехать с ним, так не спи! Рыбак уже пошел на озеро.
Грегориус встрепенулся, непонимающе огляделся и с трудом опомнился: так крепок был его сон.
— Не хочется мне, о нежный юноша с трехдневной бородой, будить тебя, усталого, и не хочется мне посылать тебя на пустынный камень, — сказала она. — И все же внутренний голос твердит мне, что я должна это сделать, чтобы ты не лишился своего прибежища. Ибо мне показалось, что ты неподдельно о нем тоскуешь, и кто знает, вдруг ты святой.
При этих словах Грегориус содрогнулся. Вскочив на ноги, он воскликнул:
— Как мог я, несчастный, предаться сну! Боже мой, скорее за ним!
И опрометью бросился прочь из сарая.
— Не забудь свои кандалы! — воскликнула женщина и сунула их ему в руку. — Может быть, они нужны для твоего спасения, хотя рыбак и упомянул о них только по злобе. И захвати эту лестницу с крючьями, она вам понадобится, а муж не взял ее с собой. Неси ее, как господь свой крест! Прощай! — крикнула она ему вслед. — Я остаюсь, вся в мыслях о тебе.
Затем она отвернулась и заплакала. Грегориус же, нагруженный кандалами и лестницей, обливаясь потом, бежал за хозяином и кричал:
— Друг, рыбак, ангел мой, подожди, не покидай меня! Я иду, я иду!
Дощечку же свою он второпях забыл на камышовом ложе, о чем очень сокрушался.
191
Лишь внизу, на вязкой тропинке, почти у самой лодки, он догнал рыбака, который только пожал плечами. И когда челн принял обоих пловцов и их кладь, рыбак молча повел его по коротким волнам в озерную даль. Так продолжалось час или два. Наконец над водой показался пустынный камень, серо-бурый и конусообразный, забытый богом и настолько далекий, что берега оттуда уже не было видно; они причалили к нему, и рыбак, зацепив лестницу за выступ в скале, сказал:
— Полезай первым! Не хочу, чтоб ты был у меня за спиной.
Так, друг за дружкой, они карабкались вверх, сначала по лестнице, затем, с великим трудом, по голой скале, зацепляясь за выемки и трещины, и когда они очутились на крошечной площадке вверху конуса, рыбак, с мрачной усмешкой, сделал то, что обещал: он надел на ноги Грегора кандалы, запер замок и сказал:
— Ну, теперь ты будешь верен этому камню. Здесь тебе и состариться, ибо сам дьявол никакими своими кознями тебя отсюда не уведет, ты уже никогда в жизни не сойдешь вниз. Тут и сиди! Ты попался в ловушку своего же мошенничества. С этими словами он бросил далеко в озеро кандальный ключ, описавший при полете длинную дугу, и прибавил:
— Если я когда-нибудь достану его со дна и увижу его снова, то, так и быть, прощу тебя, святой отец! Желаю тебе хорошенько повыть и полязгать зубами.
Таково было его прощальное приветствие. Он спустился в лодку, снял лестницу и уехал прочь.
ПОКАЯНИЕ
Благочестивый читатель! Внимай мне и верь! Мне предстоит поведать тебе нечто великое и небывалое, такие вещи, для повествования о коих надобно мужество. Но если я найду в себе мужество, чтобы
192
о них вещать, то тебе стыдно будет не оказаться достаточно мужественным, чтобы им поверить. Впрочем, я не хочу преждевременно бранить тебя за сомнения! Напротив, я полагаюсь на твое доверие в такой же мере, как и на свою способность правдоподобно изложить то, что узнал от других. А на эту свою способность я полагаюсь твердо и, стало быть, не менее твердо — на твою веру в мои слова.
Правдивое же мое сообщение таково: на узкой площадке этого пустынного камня среди озера Грегориус, сын Вилигиса и Сибиллы и муж последней, провел в совершенном одиночестве и без всяких поблажек столько же лет, сколько было ему, когда он достойным порицания образом покинул свой глухой остров и монастырь «Мука господня» — он провел там полных семнадцать лет, не имея никаких удобств кроме неба над головой, не защищенный ни от изморози, ни от снега, ни от дождя, ни от ветра, ни от летнего зноя, прикрытый только — но долго ли продержалась эта одежда! — своей власяницей, при голых руках и ногах.
Вы мне не верите? Я сумею вас в этом убедить, отнюдь не прибегая к избитому доводу, что-де для бога нет невозможных и непосильных чудес. Такое доказательство было бы, конечно, неопровержимым, но слишком дешевым. Внешне ваши сомнения должны были бы умолкнуть, но тайно они, уж наверное, продолжали бы грызть и искушать ваши души. Этого я не хочу, и потому я не стану ссылаться на всемогущество господне. Без проповеднического неистовства, рассудительно и спокойно, хотя и в глубоком волнении от собственного рассказа, отвечу я на вопросы, которые вы, ломая руки и приговаривая: «О да, ради бога скажи!» и «Подумай, мнише, как же это так?» — можете мне задать, и первый из коих касается, конечно, того, чем же кормился грешник на голой скале хотя бы короткое время, а не то что семнадцать лет. Может быть, вран прилетал, чтобы подкрепить его силы? Или манна падала с неба ради него? Нет, все было совсем по-другому.
193
Первый день, после того как рыбак столь презрительно-жестокосердно его покинул и Грегор остался в полном одиночестве, он не сходил с места, сидел, охватив колени руками, или, сложив руки, стоял на коленях и молился богу за своих бедных, прекрасных родителей, за усопшего Вилигиса, за Сибиллу, жену свою, которая, верно, уже омывала параличных или во всяком случае готовилась к такому подвижничеству, и за себя самого, бестрепетно вверяя себя промыслу божью и его святой воле, каковым он и в самом деле был вверен.
По истечении, однако, всего лишь нескольких часов второго дня его стали одолевать голод и жажда, и он, почти бессознательно и непроизвольно, принялся на четвереньках — ибо из-за кандалов не мог сделать и шагу ногами — ползать по площадке в поисках пищи.
Почти в самой середине камня оказалась бороздка в виде маленького корытца, до краев заполненная какой-то беловато-мутною влагой, что осталась, как он разумел, от вчерашнего дождя, правда на редкость мутная и молочно-густая, но все же пригодная для жаждущего, как ни была грязна и отчего бы столь грязна ни была, — кому-кому, а ему не приходилось быть притязательным. Посему он склонился над впадинкой и стал всасывать ее содержимое губами и языком, вылакал все, что в ней было, каких-нибудь несколько ложек, и поистине осушил ее, вылизав самое дно. Жидкость эта отдавала чем-то сахаристо-клейким, вроде крахмала, и чем-то пряным, вроде укропа, к тому же у нее был металлический вкус железа. Грегориусу сразу показалось, что он утолил не только жажду, но и голод, притом на диво основательно. Он был сыт. Он слегка срыгнул, и часть выпитого вытекла у него изо рта, словно такой малой толики было уже предостаточно. Он почувствовал, что лицо его немного вспухло, а в щеки его ударил жаркий румянец, и, вернувшись ползком на исходное место у края камня, он положил свою голову на низкую ступеньку скалы и уснул, как младенец.
194
Через несколько часов он проснулся от слабой боли в животе,
которая, к его досаде, заставила его пошевелить скованными ногами и от которой
он готов был заплакать. Однако вскоре она прошла, а голода как не бывало. Лишь
из любопытства направился он перед вечером к впадине посередине площадки. Там
снова скопилось немного жидкости — на самом донышке. Но можно было прикинуть,
что если влага будет просачиваться с прежней равномерностью, то к утру впадинка
снова наполнится. Так оно и случилось, и на следующий день Грегор опять
подкрепился этой слизью и вылакал все до дна, покуда не почувствовал согревающей
сонливости, ибо если ночью он тяжко страдал от холода и не знал, куда натянуть
свою жалкую нищенскую рубаху и как ею укрыться, то каменный сок, стоило только
им насытиться, спасал от стужи на несколько часов, а потому, дабы меньше
мерзнуть, отшельник и вечером напился накопившейся к тому времени жижи. Я могу
пояснить, в чем тут было дело, ибо я читал древних, у коих земля по праву
снискала .себе имя великой матери и magna parens1
которая щедро растит все живое, как бы вздымая к богу плоды
своего материнского лона, в том числе и человека, каковой не случайно называется
h
195
точь-в-точь как и теперь у всех рожениц из груди изливается сладковатое молоко, поелику туда-то и устремляются все соки материнского тела или, вернее, питательная вытяжка из этих соков.
Маленький, несовершенный, незрелый, еще не способный к потреблению более высокой пищи, к выращиванию злаков, человек, учат они, был прикован к материнской груди и пробавлялся младенческим кормом. Сколь справедливы эти догадки, почерпнутые мною у древних, показывает история Грегора. В немногих точках земли, в каких-нибудь двух или трех, к тому же расположенных в местах потаенных, необитаемых, как бы по старой привычке сохранились такие, хотя и хиреющие, живительные источники первобытных времен, уходящие в глубь материнского организма, и один из них, где просачивающаяся кашица за сутки еще наполняла крохотную впадину, грешник и сумел отыскать на своей пустынной скале.
То была великая милость, и я не стану вдаваться в вопрос, имел ли здесь место счастливый случай, и материнский источник, стало быть, действовал и дотоле, или же милость простиралась так далеко, что только ради грешника Грегориуса господь возобновил его действие. Как бы то ни было, благодаря этой находке у несчастного, при всей его бесконечной заброшенности, впервые появилось обнадеживающее, более того, блаженное чувство, что господь бог не только принимает его покаянье, но, как знать, может быть, еще и одарит его милостью, когда он сполна искупит жестокими муками свой грех, а равно грехи его отца и матери.
Это утешительное чувство было ему, конечно, столь же необходимо, как и согревающий материнский напиток. В своей совокупности оба этих живительных источника помогали ему вынести то, что он на себя возложил и что, как и все трудное на свете, было особенно трудно вначале, пока природа, при всем своем упрямстве податливая, к сему не приноровилась. В самом деле, вообразите и наглядно представьте себе наступление зимы, с ее теменью, с ее
196
снегом, дождями и бурями, и человека на голом камне, в одной власянице, беззащитного перед неистовством этих стихий — если такое выражение уместно при наличии питательного сока земли и согревающего чувства божия милосердия. Но ведь оно поистине куда как уместно, особливо если взять в толк, что снег и дождь изрядно вредили живительной влаге, ибо разжижали ее. Однако и в таком, растворенном виде она оставалась достаточно сытной. Слегка срыгивая и выделяя слюну, съежившись и прижав к подбородку колени, он лежал на беснующемся ветру, и кожа его, защищаясь от стужи и покрываясь пупырышками, которые принято называть гусиной кожей, тоже постепенно съеживалась и преображалась. Когда пригревало солнце, он, курясь паром, просыхал вместе со своей власяницей, каковая, впрочем, вскоре истлела и почти совсем расползлась. Но и то, что от нее осталось, прикрывало большую, чем можно было бы предположить, часть его тела, ибо из-за постоянной защитной скрюченности оно заметно уменьшилось.
Впрочем, нужно или можно прибавить, что зима прошла для него на редкость[24] быстро и показалась ему чрезвычайно короткой по той простой причине, что он много спал и, так сказать, перепрыгивал пределы времени. Он снова приобщился к нему только о ту пору, как прибавилось свету, повеяло теплом, и весна, в общем-то, ничего не изменившая на его голой, без деревца, без травинки, скале и разве только приятно согревшая камень, перешла в лето с его долгими днями, когда солнце описывало в небе над озером свои высочайшие дуги и, если не было туч, во всю мочь заливало лучами отшельника и скалу, подчас накаляя ее столь яростно, что он не выдержал бы этого зноя, если бы его кожа, самосохранения ради, не стала уже до неузнаваемости чешуйчатой и зернистой. К тому же, для защиты от палящих лучей, голова и лицо его были окутаны толстым слоем свалявшихся волос и густой бородой[25], а посему он терпеливо мирился со своей участью, пока звездная
197
ночь с ущербным чахнущим месяцем или с изогнутым серпообразным или с играющим в волнах ярким и полным не приносила прохлады природе и человекоподобному сморчку, который все больше и больше сливался с ней воедино.
А потом дни снова стали короче, заклубились осенние туманы, и исполнился год с того дня, как он здесь высадился. — Один год! — скажете вы. — Но ведь ты говоришь, что он прожил на камне семнадцать лет! —Да, говорю. Но разница тут не так велика, как вы думаете, и стоит лишь миновать одному году, как другие минуют сами собой, не усматривая в этом ничего затруднительного ни для себя, ни для крохотного существа, бесприютно их коротавшего. Во-первых, от этого срока можно смело отнять добрую четверть, ибо зимы кающийся человечек проводил в бесконечной спячке, и даже не подползал к питательной жижице, так как его телесная жизнь пребывала в полном застое до тех пор, пока солнце, поднимаясь все выше и выше, не пробуждало тела для повторного обновления веществ. А во-вторых, время, если оно не имеет никакой другой цели, представляя собою лишь смену времен года и ликов погоды, если оно не связано с теми или иными событиями, каковые собственно-то и делают его временем, — тогда время мало что значит: оно теряет свою протяженность и сжимается, как это случилось на камне со скрюченным питомцем земли, который с течением времени превратился в такого же карлика, каким, по утверждениям древних, был первобытный человек, еще не вкушавший человеческой пищи.
Наконец, когда прошло около пятнадцати лет, он так усох, что стал немногим больше ежа, превратившись в этакое шерстисто-щетинистое, поросшее мохом созданье природы[26], которому уже не были страшны ни зной, ни морозы, в существо с едва различимыми атавистическими членами, ручками, ножками и с такими же чуть заметными глазками и отверстием рта. Времени оно не знало. Месяц менялся. Созвездия чередовались, исчезали с небес и возвращались опять. Ночи, лунные или темные и сырые, душные или с ле-
198
дяным ветром, сокращались и вновь становились длиннее. День брезжил раньше или позднее, пламенел, вспыхивал и опять растворялся в угасающем кармазине, отражавшемся в той стороне, откуда всходило солнце. Иссиня-черные с прожелтью тучи томительно медленно скапливались и с грохотом разряжались над гулкими водами, окропляя их градом и пронизывая молниями взбудораженные волны, что дробились о незыблемое подножие камня. Затем все утихало и покой, такой же величественный и непонятный, как эта отгремевшая ярость, наполнял мир, и в ласковом, пронизанном солнечными лучами дожде от безбрежности к безбрежности выгибалась прекрасная влажная, семицветная дуга.
А мшистое существо, когда оно не спало, по-прежнему ползком проделывало свой путь к материнской груди и, сытое, слегка отрыгивая, возвращалось к тому уголку, где однажды был высажен грешник, Если бы случайно к отдаленной скале приблизилось судно, корабельщикам не открылось бы ничего примечательного. Если бы жившему в этих глухих местах рыбаку вздумалось снова съездить туда и взглянуть на докучливого проходимца, которого он некогда там покинул, он только лишний раз укрепился бы в своей уверенности, что тот давно погиб, истлел и что останки его высохли, испарились и смыты дождями. Впрочем, рыбак мог предположить, что увидит там, наверху, хотя бы тусклое мерцание белых костей, и, стало быть, обмануться в своем предположении. Но он и вовсе туда не являлся.
ОТКРОВЕНИЕ
По истечении стольких лет в славном и богатом развалинами Риме умер, как я читал, тот, кто был там преемником первоапостола и викарием Иисуса Христа, носил тройной венец и пас своим пастырским жезлом народы земли. Его смерть и настоятельный вопрос о том, кто займет после его кончины святой престол и унаследует право вязать и разрешать»
199
положили начало великим и кровопролитным спорам, которые бог, казалось, не хотел унять. Ибо примиряющий дух его не осенял ни церковь, ни дворянство, ни горожан, так что в народе царил раскол, и две враждебных партии, каждая из коих объявляла своего соискателя вселенского престола единственно достойным и правомочным, жестоко ссорились между собой. Одна хотела избрать папой некоего пресвитера-аристократа по имени Симмах, другая — весьма дородного архидиакона Эвлалия, которого, как и Симмаха, прямо-таки снедала жажда почестей.
Ни к тому, ни к другому решению вопроса святой дух ни мало не был причастен, каждое исходило всего лишь от людей, и я со стыдом должен признать, что тут не гнушались даже подкупом и что обе стороны просто-напросто боролись за власть. Потому-то господь бог и отказал избирательным чинам в своем всеразрешающем волеизъявлении. Избиратели разошлись в пылу полемической ярости, партии вооружились, и в городе разгорелась неистовая усобица, которая велась на площадях и на улицах, а также, увы, и в храмах столицы, усобица, во время коей не только мостовые башни, но и величественные, великолепные памятники древних служили крепостями и бастионами. Да, то был великий позор! Из одного конклава стало два, и каждый избрал своего ставленника и нарек его епископом римским и папой. Симмах был рукоположен в Латеране, Эвлалий — в соборе Святого Петра, и вот они сидели — один в упомянутом дворце, другой — в круглой усыпальнице императора Адриана, служили мессы, издавали буллы и проклинали друг друга, меж тем как на улицах бряцало оружие. Кличек, которыми они клеймили один другого, было множество, но они неустанно изыскивали все новые и новые прозвища. «Разоритель церкви», «Корень зла», «Герольд дьявола», «Апостол Антихриста», «Стрела с лука сатаны», «Жезл Ассур», «Крушение целомудрия», «Грязь века», «Мерзкий и скрюченный червь» — так, с пеной у рта, величали они один другого. Эвлалий, отличавшийся, как я уже сказал, чрезвычайной тучностью и полнокровием, переусердствовал в поно-
200
шениях и умер от удара. Но и Симмаха постигла сходная судьба, ибо эвлалианцы, желая отомстить за своего папу, дали своим врагам большое сраженье, в ходе которого разбили их наголову и взяли приступом Латеранский дворец, так что Симмах вынужден был бежать через заднюю дверь. Спасаясь от погони, он прыгнул в Тибр и утонул.
Таким образом, вместо двух пап не оказалось ни единого, что весьма сильно отрезвило римлян. Они признали, что подошли к делу неверно и богопротивно. Горожане почувствовали в себе готовность к раскаянью. Собравшись, они единодушно решили предоставить отныне выбор одному только господу богу, объявили многонедельный пост и дни подаяний и назначили большие молебны во всех церквах, чтобы господь милостиво поведал, кому быть его наместником и мироправителем.
О ту пору в Риме жил некий благочестивый муж из старинного рода, ранее многих других принявшего христианство, — Секст Аниций Проб, человек уже пожилой, пятидесяти с лишним лет, равно богатый деньгами и общественными почестями. Вместе со своей супругой Фальтонией Пробой он проживал в окруженном садами дворце своих предков, которые все были консулами, префектами и сенаторами, в пятом квартале, на Виа Лата, в большом и внушительном дворце, раскинувшемся на множество миль и насчитывавшем триста шестьдесят комнат и зал; имелись там также ристалище и мраморные термы. В бани уже не подавалась вода, ипподромом тоже давно не пользовались, а из трехсот шестидесяти комнат большая часть пустовала и находилась в заброшенном состоянии, — не потому, что владельцу не хватало средств и рабочих рук для ухода за его собственностью, а потому что гибель, разорение, упадок всего великого под тяжестью собственного величия представлялись ему чем-то правомерным, необходимым и богоугодным. Правда, в тех немногих покоях, где он проживал со своей женой, не было недостатка в красивых и удобных вещах, ни в ложах, устланных драгоценными левантийскими тканями, ни в ювелирных изделиях, ни
201
в креслах античного образца, ни в бронзовых канделябрах, ни в шкапах, уставленных благородными вазами, золотыми кубками и розовыми раковинами для питья. Но эти комнаты были жилым островком среди полного запустения, среди дворов с обвалившимися колоннадами и колодцами, узорная лепка которых превратилась в груду черепков, и среди опустевших зал с мозаичными, но сплошь в щербинках, полами, где золотые обои лохмотьями свисали со стен, обнажая покоробившиеся серебряные листы обшивки. Проб и Проба привыкли к этому и считали, что так и должно быть.
Сады, в которых утопал их дворец, тоже были запущены и разрослись в дикие дебри, но от этого в них стало больше укромных уголков, куда можно было пробраться сквозь буйные кусты и полузадушенные вьющимися растениями деревья, и Аниций особенно любил одну, затерявшуюся среди лавровых ветвей мраморную скамью с головами Пана, откуда, за безголовой, свалившейся с пьедестала статуей прелестного, вооруженного стрелами и луком, Амура, виден был маленький, пестреющий сорняками, лужок[27]. Там, в апрельский, уже по-летнему теплый, день, и сидел однажды после трапезы этот достойный муж, как всегда озабоченный осиротелостью церкви и всеобщей беспомощностью. Утром, в соседней с его дворцом базилике апостолов Иакова и Филиппа, он усердно молился вместе со всеми. Сейчас он, наверно, задремал в пахучей духоте согревшегося лавра, ибо ему явилось видение, которое, однако, не увело его с прежнего места: не покидая скамьи, он видел и слышал вещи, всколыхнувшие всю его душу, так что скорее уж это был сон, чем виденье и откровенье.
Перед ним, в клевере луга, стоял агнец с кровоточащим боком. Он открыл свои умилительные уста и молвил дрожащим, но приятно-проникновенным голосом[28]:
— Пробе, Пробе, выслушай меня! Я поведаю тебе нечто великое.
При звуке этого голоса у Проба подступили слезы к глазам и сердце его преисполнилось любви.
202
— О агнец божий, — сказал он, — ну конечно же я тебя слушаю. Я слушаю тебя всей душой, но ты ведь исходишь кровью, она окрашивает твое мягкое руно и каплет на клевер. Нельзя ли мне чем-нибудь тебе пособить, промыть твои раны и исцелить их бальзамом? Мне так хочется оказать тебе эту помощь.
— Не нужно, — молвил ягненок. — Это крайне даже необходимо, чтобы я истекал кровью. Послушай лучше, что я тебе поведаю. Habetis papam. Папа вам избран.
— Милый агнец, — отвечал ему Проб во сне или в забытьи, — как же это так? И Симмах и Эвлалий мертвы, церковь никем не возглавлена, человечество лишено судии, и вселенский престол пустует. Как понять мне сладостные твои слова?
— Как они сказаны, — молвил агнец. — Ваши молитвы услышаны, и выбор сделан. Что же касается тебя, то ты избран, чтобы первым об этом узнать и принять надлежащие меры. Поверь мне! Избранник тоже должен поверить, как это ему ни трудно. Ибо и само избрание неудобопонятно и недоступно разуму.
— Я преклоняюсь перед ним, — молвил Проб и, растроганный этим сладостным голосом, рыдая, пал на колени перед скамьей. — Дай мне услышать имя его!
— Грегориус, — ответил агнец.
— Грегориус, — повторил потрясенный старик[29]. — Я слышу это, и мне уже кажется, что другого имени у него и не может быть, возлюбленный агнец. Не скажешь ли ты еще в доброте своей, где он сейчас?
— Далеко отсюда, — отвечал агнец. — И ты избран призвать его. Восстань, Пробе! Ищи его по всем христианским землям и не жалей ни о каких тяготах странствия, хотя бы твой путь проходил через глухие горные перевалы и быстрые реки. На пустынном камне, в полном одиночестве, избранник живет уже целых семнадцать лет. Разыщи и приведи его, ибо о нем тоскует престол святого Петра.
— Я буду искать его ревностно, — заверил ягненка Проб. — Но, достолюбезный агнец, христианский мир так велик и обширен. Должен ли я пройти его сплошь,
203
прежде чем набреду на облюбованный избранником камень? По слабости человеческой я робею перед этой миссией.
— Ищущий да обрящет, — сказал агнец особенно проникновенным голосом, и внезапно к пряному аромату лавра, овевавшему римлянина, примешалось благоухание роз, настолько сильное и душистое, что только оно и воспринималось теперь обонянием. Ибо каждая капля крови, сбегавшая на землю из раны агнца и с его курчавого руна, превращалась в красную розу, и вскорости стало их премного.
— Храбро переберись через Альпы, — продолжал, стоя среди роз, благословенный агнец. — Пройди Алеманию, не соблазняясь помешкать в знаменитом Санкт-Галлене, и направься дальше, в вечерние и полнощные края, к Северному морю. Если ты окажешься в прилегающей к нему стране, которая пять лет воевала и была избавлена от войны некоей цепкой рукой, то значит, путь твой был верен. Повернись к ее холмам и горам, к лесам и пустынным урочищам. Найди там дом рыбака, промышляющего ловом на некоем озере. У него ты получишь необходимые указания. Верь мне и покорствуй! И агнец исчез вместе с розами его крови, а Проб все еще стоял на коленях перед скамьей с головами Пана, сложив руки, и щеки его были мокры от слез, которые вызвали у него сладостный голос агнца и умилительные движения ягнячьей мордочки. Он ощущал еще остаток исходившего от роз благоухания, и ему казалось, что некоторое время след этого запаха по-прежнему держался в воздухе, хотя его заглушал, а вскоре и вовсе вытеснил, аромат лавра.
— Что это случилось со мною? — спрашивал он себя. — То было видение — первое в моей жизни, ибо вообще-то нрав мой совсем не таков. Фальтония часто называет меня сухарем, и она права: она гораздо тоньше меня и с большой философской отвагой изучает Оригена, хотя его теории и преданы анафеме. Но ничего подобного с ней никогда не бывало. Вот уже запах роз совсем улетучился, но мое сердце все еще пылает любовью к агнцу, и я не сомневаюсь, что
204
он поведал мне правду и что папа, которого я должен искать, действительно избран. Надо сейчас же рассказать обо всем Фальтонии, во-первых, для того чтобы она увидела, на какие необычайные переживания способна моя душа, а во-вторых, чтобы узнать ее мнение о практических следствиях, вытекающих для меня из услышанного.
И он встал с колен и с проворством двадцатилетнего юноши поспешил во дворец, где в одной из десяти или двенадцати жилых комнат застал свою супругу за высокомудрым занятием: она делала выписки из Оригена. Матрона подивилась его великой взволнованности и внимательно выслушала сбивчивый рассказ супруга, обильно уснащенный такими вставными словечками, как: «Подумай только!», «Представь себе!» и «Заметь-ка!»
— Секст, — сказала она наконец, — это, кажется, и в самом деле достойно внимания. Ты человек сухой, и если уж у тебя было такое видение, то, наверно, к нему нужно отнестись со всею серьезностью. Розовая кровь[30] поэтична, а почерпнуть поэзию в себе самом ты не можешь; ее источник должен быть где-то вне тебя. С другой стороны, я сочла бы опрометчивым, если бы ты недолго думая повиновался внушениям твоего одиночества и пустился в твои годы в рискованное путешествие к киммерийцам, вечно блуждающим в ночной темноте. Ты призван к вере, но было бы опрометчиво верить всему, и действия, основанные на совершенно одинокой и личной вере, граничат с глупостью. К тому же без согласия римлян ты не волен отправиться на поиски избранника и привести его, если бы тебе и удалось его найти. А что если твои сограждане сочтут все это досужим порождением послеобеденного сна, слишком несерьезным, чтобы возложить на тебя такую миссию? — Меня и самого одолевают сомненья, Фальтония. Но, признаюсь, я ждал от тебя чего-то большего, чем критический анализ происшедшего: я ждал совета.
— Проб, ты не вправе ждать его от меня. Речь идет о церковной негоции, и притом о наиважнейшей,
205
а ты знаешь, что в. церкви женщине подобает молчать. А что дела церкви обстояли бы лучше, если бы разумные женщины могли здесь сказать свое слово, это уже другой вопрос, и мы его не будем касаться.
— Меня огорчает, Фальтония, твоя язвительность. Но, как видно, твоя привычка ограничиваться теоретическим разбором проблем мешает тебе прийти к решенью, и поэтому ты прикрываешься законом, запрещающим женщинам вмешиваться в дела церкви.
— Весьма остроумно, милый мой Секст! Ты, кажется, сегодня весь день живешь не по средствам. И однако ты забываешь самую простую и естественную вещь, о которой я уже давно собираюсь тебе напомнить, соединяя при этом приличествующую женщине сдержанность с добрым советом. Поговори о случившемся со своим другом Либерием. Это сановный клирик, чей нрав и ум я очень ценю, хотя он и презирает учение Оригена, считая, что христианская философия не есть христианство. Он сумеет как нельзя лучше вникнуть в твое положение и сказать, как поступил бы сам на твоем месте.
Этот совет сразу же показался Пробу благим и правильным. Либерий, о котором говорила Фальтония, кардинал-пресвитер в церкви Санкта Анастасия суб Палацио, высокочтимый прелат и даже член синклита, управлявшего во время седисваканции церковью, был действительно связан с Пробом давнишней дружбой. Предложение открыться Либерию обрадовало и окрылило нечаянного ясновидца.
— Фальтония, — сказал он, — ты говорила прекрасно. Прости, что я, прерывая твои занятия, сначала обратился к тебе! Но я отнюдь не раскаиваюсь в этом, ибо, если ты и не дала мне совета по существу, ты все же указала мне наилучший способ его получить. Тотчас же велю отнести меня к Либерию.
Он ударил молоточком в бронзовую плошку и приказал явившимся слугам немедленно снарядить носилки. Усевшись в них в одном из дворов с ветхими колоннадами, он попросил носильщиков, чтобы они шагали быстрее. Плавно сгибая ноги в коленях, чтобы как можно меньше трясти паланкин, они несли Ани-
206
ция через славный Рим, переулки которого пролегали среди огромных, наполовину превратившихся в щебень, развалин иных времен и где повсюду валялись мраморные изувеченные статуи императоров, богов и знатных граждан, дожидаясь часа, когда их бросят в творило, чтобы пережечь на цемент. Впереди паланкина и четырех носильщиков бежали еще двое слуг, чьей обязанностью было кричать и махать руками, расчищая дорогу патрицию в уличной давке. Им, однако, было наказано, чтобы они действовали не грубо, а деликатными, смиренными уговорами.
Дом Либерия находился близ церкви Святой Анастасии под Палатинским холмом и представлял собою новое кирпичное строение, украшенное старинными консолями и фризами, а также сводчатыми окнами с маленькими пилястрами в простенках. Лестница в виде крыльца вела в атриум, несущие колонны которого были взяты из какого-то другого здания, а на площадке у подножия лестницы пресвитера ждали его собственные носилки. И в самом деле, когда Проб вылез из своего паланкина, он увидел, что его друг, второпях облачаясь в мантию, выходит из дома и спускается по ступенькам. Заметив Проба, Либерий в изумленье остановился на полпути — рослый, красивый, седеющий, с пухлой, истинно римской, верхней губой, темными задумчивыми глазами и ртом, которому один — только один — убегающий вниз уголок придавал своеобразное скорбно-благочестивое выражение. Муж Фальтонии был куда ниже ростом, чем его друг-клирик, к тому же немного тучен, как я сейчас припоминаю, у него были выпукло-круглые карие глаза и черные брови, резко оттенявшие белоснежность его густых волос.
— Ты здесь, Проб? — удивленно сказал прелат, шагая с протянутой рукой навстречу поднимавшемуся по лестнице Аницию.
— Так знай, что я как раз собрался к тебе, и притом по важной причине!
— Странное совпадение, мой Либерий! — отвечал Проб. — Но можешь не сомневаться, что причины, приведшие меня к тебе, по важности никак не уступают твоим!
207
— Едва ли это так, — возразил тот, и глаза его потемнели, а уголок рта еще тяжелее обвис. — Но пройдем в дом и присядем в моей zetas estivalis1, где прохлада и тишина будут благоприятствовать нашему разговору.
Этот просторный и приятный покой помещался в верхнем этаже, рядом со столовой, и, прежде чем они вошли туда, хозяин строго-настрого наказал слугам не мешать их беседе ни при каких обстоятельствах.
— Хоть мне и не терпится поскорее открыться тебе, мой Проб, — сказал он, когда они уселись друг подле друга на покрытом подушками каменном сундуке, который я должен, присмотревшись к нему, принять за гробницу прежних времен, — я все-таки отдам дань гостеприимству и попрошу тебя положить начало и сказать мне, что у тебя на душе.
— Благодарю, друг мой, — отвечал Проб, — но честность велит мне предупредить тебя, что после моего сообщения мы вообще не сумеем говорить ни о чем другом. Поэтому прошу тебя начать.
— Я по справедливости не могу этого сделать, ибо и я убежден, что после моего рассказа нам будет уже не до обсуждения твоей негоции.
— Нет, начинай ты, — настаивал оптимат, — чтобы мы побыстрее разобрали и разрешили твое дело!
— Ты ошибаешься относительно его важности, — сказал Либерий, — если говоришь о быстроте и о разрешении. Но так и быть, я уступаю твоим настояниям. Слушай же, мой старый и добрый друг, я сподобился некоего видения.
— Видения? — глухо воскликнул Проб, положив свою руку на руку собеседника. — Послушай, Либерий, я беру свои слова обратно и хочу прежде всего со своей стороны…
— Слишком поздно, — отвечал пресвитер. — Мою жажду тебе открыться теперь уже невозможно сдержать. Слишком уж мощно рвется наружу все то, чем
208
полно мое сердце и чем я неодолимо стремлюсь наполнить твое. Так вот: не далее, чем два часа назад, я был удостоен некоего откровения.
— Видение и откровение! — повторил Проб, сжимая руку своего друга. — Умоляю тебя, скажи, как это произошло?
— Следующим образом, — отвечал Либерий. — Тебе отлично известен маленький, примыкающий к моей столовой, балкон с обвитой плющом балюстрадой, откуда открывается восхитительный вид на холм, где основан был Рим, и на древнейшие наши святыни. Туда, после трапезы, я велел вынести кресло, в котором и покоился, озабоченно размышляя о судьбах церкви, отданной нами — в бессилии и смятении нашем — на волю бога. Ты скажешь, что с этими мыслями я задремал и потому-то мне все это привиделось. Но я предпочел бы назвать увиденное видением наяву, хотя и признаю, что состояние человека в минуты видений отличается от обычного бодрствования. Предо мною, у балюстрады, стоял трогательнейший агнец, у которого, к моему несказанному умилению, кровоточил бок. Агнец открыл уста и голосом, пробудившим во мне великую любовь, сказал…
— Habetis papam! — воскликнул Проб.
— Я восхищен, — отвечал Либерий, — вещей твоей проницательностью. Да, именно так он и молвил. «Папа вам избран, — сказал он. — Его зовут Грегориус, он уже семнадцать лет живет на пустынном камне, далеко отсюда, и престол принадлежит ему. Что же касается тебя, то ты избран, чтобы первым об этом узнать».
— Тебе он тоже это сказал? — спросил Аниций не без некоторого огорчения. — Признаюсь, я думал, что он сказал это только мне.
— Секст, ты говоришь так, словно…
— Да, мой Либерий, мне тоже явился умилительный агнец и сподобил меня великого откровения, по-видимому, в тот же самый час, что и тебя. Мало того, он поведал мне также, что я избран, каких бы это ни стоило трудов, разыскать святого мужа и привести его в Рим.
209
— Но ведь я как раз собирался тебе сказать,— воскликнул Либерий, — что священная миссия возложена им на меня — стало быть, также и на меня!
— Стало быть, также и на тебя, — сказал Проб. — Стало быть, на нас обоих, на каждого из нас, и притом одновременно. Какое чудо, друг! Агнец был у тебя на балконе, и он же был у меня в саду, и с каждым из нас он говорил так, словно говорил только с ним одним. «Храбро переберись через Альпы», — сказал он…
— «И направься в вечерние и полнощные края», — подхватил Либерий.
И они, перебивая друг друга, повторили все, что сказал им агнец и что более или менее точно указывало местопребывание избранника.
— Ах, агнец! — восклицали они снова и снова, порознь и слитно. Ибо никак не могли отделаться от общих воспоминаний о хватающем за сердце образе агнца, о его бесконечно кротких, с длинными ресницами, глазах, о трогательных движениях его рта, о дрожи в его сладостном голосе, о .крови, стекавшей с завитков его шерсти. Они встали перед саркофагом, бросились друг другу в объятья и расцеловались, невзирая на разницу в росте, с влажными от слез щеками. Проб припал головой к груди Либерия, орошая слезами его далматик, а Либерий, склонив голову набок, с благочестиво опущенным уголком рта, задумчиво глядел вдаль.
— Ах, еще и розы, — вспомнил, прижавшись к его груди, Проб, — розы, в которые превратилась ягнячья кровь, когда я оробел было перед своей миссией.
— Розы? — спросил Либерий, ослабляя объятия. — О них я ничего не знаю.
— У меня было множество роз, — заверил его Проб. — Их аромат совершенно вытеснил благоухание лавра.
— А я, — отвечал Либерий и освободился от объятий, — могу только повторить, что мне не дано было видеть никаких роз. Но не будем, друг мой, оскорблять столь дивное знаменье, завистливо взирая один на другого! Я полагаю, что агнец, обращаясь ко мне как
210
к сыну и князю церкви, не счел нужным подкреплять мою веру подобным чудом.
— Разумеется, дорогой мой[31], это вполне возможно, — согласился с ним Аниций, — хотя ты и не должен осуждать меня за то, что я восхищаюсь поэтичностью этого зрелища, выпавшего мне на долю, и призываю тебя разделить мое восхищенье. Но прежде всего нам следует восхищаться мудростью агнца, который поведал о состоявшемся избрании и поручил отправиться на поиски папы не кому-то одному из нас, будь то тебе или мне, а нам обоим. Насколько увереннее отправимся мы в дорогу вдвоем, чем если бы это указание было дано только одному! Трудно верить, не имея единоверца, и нельзя отрицать, что действия, вытекающие из совершенно личной и одинокой веры, недалеки от глупости. А наши сограждане? Согласись, друг, что, для того чтобы действовать, нам необходимо их доверие. Правда, мы оба такие люди, что наше слово равносильно для римлян клятве. Но разве мы порознь удивились бы, если бы это откровение было истолковано как ничего не значащая причуда послеобеденного сна? В том-то и состоит мудрость агнца, что он раздвоил видение и позаботился о двух свидетелях, согласные показания которых, совпадающие во всем, кроме такой подробности, как розы, должны победить любое сомнение. Хорошо ли я говорил?
— Ты говорил превосходно, мой друг, — отвечал Либерий. — Каждое твое слово доказывает, что титулами и должностями ты лишь отчасти обязан своему древнему имени. Да, рука об руку предстанем мы пред собранием, которое вскорости будет созвано, и с сердцами, полными воспоминаний об агнце, дружно засвидетельствуем чудо, которого мы сподобились.
ВТОРОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
Семнадцать лет рыбака и его жену никто не навещал в их озерной глуши, как, наверно, и прежде, в теченье такого же срока. Тем ярче, хотя они
211
никогда об этом не говорили, запечатлелся в их памяти тот, кого они однажды — муж со злостью и бранью, а жена — с благочестивыми предчувствиями — приютили у себя в доме. Добавлю, что муж избегал этих воспоминаний и всячески старался от них отделаться. Ибо ему всегда казалось, будто он, хоть и действуя в полном соответствии с желанием и волей незнакомца, совершил тогда какое-то преступление, точнее — убийство; а от подобных воспоминаний предпочитают отделаться. И это ему, в общем-то, удалось, если говорить о поверхностных областях его памяти, ибо он все-таки виделся с людьми, когда носил на рынок в ближайшую деревню, до которой было два часа ходу, своих чебаков, линей и плотву, и эти встречи его немного рассеивали. Зато жена его никого не видела, она жила и увядала в глуши и одиночестве, близ своего угрюмого мужа, и так как у нее, в отличие от него, не было причин отделываться от воспоминаний о столь давней истории, то она все эти годы молча хранила ее в душе и думала о прекрасном смиренном нищем, за которым побежала в дождь и которому принесла камыш для подстилки, думала часто, ежедневно, и в глазах ее стояли слезы. Не надо придавать особого значения тому, что от этих воспоминаний глаза ее увлажнялись, ибо ей вообще ничего не стоило поплакать; вернее, она даже не плакала, а просто, ничуть не меняясь в лице и без видимого, хотя бы ей самой известного, повода, тихо роняла слезинки, катившиеся по ее впалым щекам, почему ее муж, рыбак, всегда называл ее плаксой. От общения и соприкосновения с людьми он закалился, очерствел и огрубел, тогда как его жена, лишенная этой отдушины и снедаемая одиночеством, была нежна душой и чувствительна, как мимоза. И вот для них обоих настал день, который во многих отношениях был днем чудес, — и этот, и в придачу еще и следующий. Тот день начался очень удачно, ибо рано утром рыбак поймал неводом отменную рыбину, щуку, какие редко встречаются. Это была щука на диво, величиной чуть ли не с акулу, более семи футов в длину, прекрасного черного крапа, с жадной,
212
хищно ощерившейся пастью. Для мелких озерных рыбешек ее поимка, избавившая их от такого тирана, явилась, несомненно, благодеянием божьим. Рыбаку пришлось выдержать настоящую борьбу с этой дикой тварью, прежде чем он размозжил ей голову о борт челнока. То была счастливая добыча, какою редко баловала его судьба. Рыбак[32] хотел назавтра с утра отнести на рынок вкусное жарево и выгодно продать его.
Таково было его намеренье, и действительно ему суждено было выручить за это жарево хорошие деньги, и даже не назавтра, а в тот же день, и не в дальней деревне, а у себя дома. Ибо еще в тот же день к рыбаку и его жене снова наведались гости.
В предвечерний час, как это было когда-то и как часто бывало, супруги стояли перед своей хижиной и глядели вдаль: как свойственно тем, кто скорее ожесточенно, чем радостно, пользуется счастливым случаем, рыбак, борода которого уже совсем поседела, с мрачной гордостью думал о своей великолепной рыбе, а жена его тихо роняла слезы, склонив голову набок и не меняясь в лице. Они не говорили друг с другом, как это было когда-то и как бывало не раз. Наступала осень; стоял сентябрь, и холмы, сбегавшие к озеру, были в тот вечер тускло освещены. Над ними висели тучи, затемнившие при садящемся солнце часть неба и уже готовые излиться дождем.
Тут они увидали, что вдалеке по извилистой лесной тропке один за другим в долину спускаются всадники.
Они долго молчали. Потом рыбак хрипло промолвил одно только слово:
— Всадники.
— Боже правый! — сказала жена. Она сложила руки, и две прозрачных слезинки покатились по ее щекам.
Потом они снова умолкли и только недвижно и пристально следили, как приближаются незнакомцы.
— Три всадника и один мул без седока, — хрипло проговорил через несколько мгновений рыбак.
213
— И один без седока! — повторила жена и плотнее сложила руки. Она подняла их к лицу и прибавила: — Без седока — белый.
Так оно и было: двое, если только позволяла дорога, ехали рядышком впереди, оставляя третьего за собой. Это был слуга, его мул был навьючен тугими тюками. Он вел на поводу четвертого мула, ненавьюченного, белого, с белым седлом и белой уздечкой. Господа, ехавшие спереди, сидели тоже на добрых длинноногих мулах, отлично оседланных и взнузданных. То были пожилые люди, разного роста, один — маленький, другой — долговязый, укутанные в дорожные плащи с капюшонами. Они остановились почти рядом с остолбеневшими супругами, которые только глазели на них разинув рты и даже забыли поклониться. Низкорослый произнес вечернее приветствие и спросил, обращаясь к мужу:
— Друг мой, это глушь?
— Так точно, глушь, — оживился рыбак.
— Совершенная глушь? — спросил высокий и измерил рыбака испытующим взглядом, тяжело и смиренно опустив один уголок рта.
— Не смею отрицать, сударь. Эта хижина стоит здесь у озера в елико возможном уединении.
— Каково ваше занятие? — спросил низкорослый.
— Я рыбак, — гласил ответ.
Незнакомцы обменялись взглядом и кивнули головами. При этом у одного из них поднялись густые черные брови, а у другого еще благочестивее опустился уголок рта.
— Послушай, седобородый, — заговорил опять маленький, — скажи нам правду: нет ли здесь, в пределах твоей глуши, некоего камня, некоей пустынной, отрезанной от мира скалы, или как там назвать это местопребывание?
— Нет, сударь, такого не знаю, — ответил тот, кого спрашивали, и упорно закачал головой в подкрепление своих слов.
— Ничего такого в здешних окрестностях нет? Ты ведь рыбак и, наверно, рыбачишь на этом обширном озере, которое видно отсюда?
214
— Да, сударь, оно меня кормит,
— А в озере, наверно, имеются рифы, подводные скалы, если угодно, словом, необитаемые острова, один из которых можно во всяком случае определить как пустынный камень?
— Нет, сударь, клянусь своей душой, озеро мне надо бы знать, но я не ведаю ни о каких кремнистых островах в его водах.
— Почему плачет твоя жена? — внезапно спросил долговязый и указал пальцем, на который был надет выпуклый перстень, на жену рыбака.
— Она почти всегда плачет, — грубо ответил ее муж. — У нее глаза на мокром месте.
— Блаженны кроткие, — молвил незнакомец с перстнем.
Затем он, как и низкорослый, спешился, подошел к рыбаку, положил руку ему на плечо и сказал:
— Amice1, знай, мы намерены обременить вас на эту ночь своим присутствием, тебя и твою слезоточащую жену. Мы, знатные господа, проделали долгий путь за один только сегодняшний день, не говоря уже о далях, пройденных нами ранее: ибо в пути мы уже давно. Мы устали от путешествия и от сиденья в седле. Надвигается ночь, и грозит непогода, дождь уже и теперь накрапывает. Не приютишь ли ты нас в своей уединенной хижине до завтрашнего утра? Ты не останешься в накладе.
И с этими словами дюжий господин дружески подмигнул рыбаку, как человек, взывающий к общераспространенным чувствам — корыстолюбию и жажде наживы. Рыбаку и хотелось и не хотелось согласиться. Рассказы незнакомцев о камне были ему в глубине души неприятны и вызывали у него предубеждение против нежданных гостей. Но сулящее наживу подмигиванье заставило его мрачно и застенчиво усмехнуться в свою седую бороду. Он был теперь другим человеком, более уступчивым, чем в тот вечер, когда к его хижине пришел какой-то голый бродяга и попрошайка. Сдава-
215
лось, что один добрый улов дополнится сегодня другим, к тому же представлялась возможность выгодно соотнести второй с первым. С истинным ожесточением он воспользовался счастливой оказией.
— Конечно, я покорнейше прошу ваши благородия,— сказал он, — переночевать у меня, сколь ни мало приспособлена эта одинокая хижина к тому, чтобы принять гостей, особливо столь знатных. Мы люди бедные. Будь у нас хотя бы еще сарайчик, чулан, который здесь прежде стоял, мы сумели бы разместить там ваших мулов, и серых и этого белого. Но каморка уже давно развалилась. Придется вашему слуге, как он, я вижу, уже и делает, просто привязать животных и прикрыть их от дождя, ведь дождь, насколько я разбираюсь в погоде, припустит еще сильнее. Но вам нельзя мокнуть под дождем, да и вообще нельзя ехать ночью, ибо волки здесь тоже водятся. При таких обстоятельствах я еще никого, будь то барин или нищий, не прогонял от своего порога. Ах, если бы не наша великая бедность да не убожество этой горницы, которую вы озабоченно оглядываете! Мы еще больше озабочены и смущены, ибо не знаем, что вам и постелить и чем допреж угостить вас. С угощением дело еще куда ни шло, ибо сегодня я поймал рыбину — на рынке я выручил бы за нее хорошие деньги, — настоящую барскую рыбину, которой вы вкусно поужинаете, если велите моей жене сварить вам ее или зажарить. А вот что касается постелей, то тут был бы дорог добрый совет, — хотя и рыба тоже не дешева, — тут я просто ума не приложу.
— Хозяин, — сказал в ответ низкорослый, откинув капюшон и обнажив густые белоснежные волосы, которые очень шли к его черным как смоль бровям, — хозяин, не заботься о нас и о том, какие у нас будут постели, ибо это совершенно безразлично. Тебе только кажется, что это небезразлично, так и заметь! Мы действительно знатные господа, но находимся сейчас в таких обстоятельствах, что ко всему отнесемся спокойно и никакое противоречащее нашим привычкам предложение нас не обидит, ибо, каково бы оно ни
216
было, оно ничего не значит по сравнению с тем великим делом, из-за которого мы, собственно, и пустились в дорогу и предприняли, в нашем-то возрасте, такое путешествие. Если бы ты знал о дорожных тяготах, вот уже несколько месяцев выпадающих нам на долю и безропотно нами сносимых, ты бы не пекся о том, как нас уложить. Охапка соломы, брошенная прямо на пол и прикрытая простыней, покажется нам большой роскошью, если твоя жена сумеет уготовить нам такое ложе. На худой конец мы можем провести ночь и прикорнув у этого елового стола, ибо ничто, кроме одного-единственного, для нас не имеет значения.
Так говорил седоголовый. Но так как меж тем его спутник тоже снял плащ и хозяева увидали его сутану, а равно и фиолетовую ермолку, прикрывавшую тонзуру в его седых волосах, они сразу же, прося благословения, упали перед ним на колени.
— Благослови нас, святой отец! — с мокрыми от слез глазами промолвила женщина. Но долговязый испугался такого обращения и отмахнулся от него широким жестом.
— Воздержись от этого величания, женщина, — воскликнул он, —
и не называй меня именем, подобающим лишь тому, кто, по-видимому, находится
неподалеку отсюда! — In n
И он, двумя пальцами, перекрестил супружескую чету. Когда муж и жена, приняв благословение, поднялись, рыбак снова завел речь об уходе за гостями и вернулся к своей добыче, к лакомой рыбе, которую вызвался им продать и приготовить на ужин. Но незнакомец-мирянин ему возразил:
— Выкинь, друг мой, все эти вещи из головы и не беспокойся о нас! Мы везем с собою необходимые припасы. У нас есть хлеб и вино, и, наверно, наш слуга принесет нам холодной курятины или еще что-нибудь в этом роде, как только задаст мулам корму, равным образом предусмотрительно припасенного.
217
— Хорошо, хорошо, — сказал рыбак. — Но все-таки посмотрю, не потянет ли вас, господа, на щучку, когда я вам ее покажу.
И он принес эту рыбу в кадушке, весьма удивив незнакомцев, которые стали хвалить щуку за ее величину и красоту.
— На рынке, — сказал хозяин, — я бы свободно выручил за нее пять флоринов.
— Ты получишь вдвое больше, — пообещал седоголовый, — и еще вместе с женой присоединишься к нашему ужину, если она сумеет вкусно ее приготовить — зажарить, нашпиговать и как следует приправить каперсами. Возьмешься ли ты за это, женщина?
— Ах, барин, — сказала та, — о каперсах я и слыхом не слышала, а вот немного сала для шпигования у меня найдется, и подливку я вам приготовлю такую, что вы не останетесь недовольны.
Она пообещала больше, чем надеялась выполнить, но она боялась своего мужа, который горел желанием урвать лишнее и поколотил бы ее, если бы она выказала нерасторопность.
— Десять флоринов, — воскликнул корыстолюбец,— и сделка состоится! Зато ваши странствующие благородия поужинают по-царски, как вам едва ли еще удастся в дороге. Сейчас я только очищу и выпотрошу рыбу, чтобы стряпуха могла за нее взяться.
Рыбачка осталась с гостями, она стояла, скрестив на груди руки, а ее муж принялся хлопотать у очага в глубине хижины. Слуга подал обоим хлеб и вино, и они ели и пили, не преминув поднести и хозяйке дорожный кубок с красным вином. Она выпила его, извиняясь и отнекиваясь, и, как видно, огонь вина поощрил ее любопытство, ибо она сказала:
— Поистине великим и важным должно быть дело, заставившее столь почтенных господ, как вы, отправиться в путь и хладнокровно сносить непривычные лишения. Я отлично поняла, что вы прибыли издалека и изъездили добрую часть мира.
— Да, ты права, — подтвердил незнакомец с седой головой и черными бровями. — Мы прибыли из дале-
218
кой страны Италии, где находится Новый Иерусалим. Однако мы отправились в путь и ведем розыски в христианском мире не из озорства, каковое не приличествовало бы нашему возрасту, а по высшему указанию.
— Я слушаю вас благоговейно, — ответила женщина. — И благоговение, а не излишнее любопытство будет тому причиной, если я позволю себе спросить, чего же вы ищете в христианском мире.
— Ты это узнаешь, — сказал низкорослый, — ты узнаешь это вместе со всем миром, когда на нашем примере подтвердится завет: «Ищите, да обрящете». Подтверждение его не за горами, и, судя по имеющемуся у нас указанию, мы уже недалеки от своей цели. Миновав города и веси Италии, верхом на коне, в повозках и в носилках, мы приблизились к ужасным Альпам, где в ущельях кипит вода, стремительно падающая со страшных скал, и где нам пришлось сквозь туман облаков, по давно разведанным тропам карабкаться на такие пустынные высоты и кручи, что при виде их цепенеет душа. Там не растет ни деревца, ни кустика, стеклянный свет озаряет лишь груды окатышей, на которые сверху грозно глядят заснеженные отроги, и в чистоте тамошнего неба тоже есть что-то пустынное. Мы учащенно дышали, у нас спирало горло, и в каком-то опьянении, которое нами овладело, хотя было совсем неуместно в этих ужасных краях, мой спутник, сидящий вот здесь епископ, совершенно не в лад со своим нравом и обликом принялся шутливо болтать, за что я и пожурил его в виду близости бога.
— Ты не можешь, — воспротивился долговязый,— назвать мои речи несдержанными.
— Разве лишь имея в виду их бурное изобилие,— ответил другой, — и я упоминаю о них единственно для того, чтобы эта добрая женщина хоть как-то представила себе чудовищность сфер, в которые нас завело наше путешествие. Но потом мы спустились оттуда и, как и предполагали, оказались в трудолюбивой Алемании[33], где сильные люди корчуют леса под пашни и пастбища, где кудель и ткацкий челнок кор-
219
мят почтенные города, а в мирных монастырях процветает наука. Мы нигде не мешкали долее, чем требовалось для передышки. Даже знаменитый Санкт-Галлен нас не заманил. Наша миссия не терпела ни малейшего промедления. Мы двигались все дальше в вечерние и полуночные края, через многоразличные епископства, пфальцграфства и королевства, пока не оказались в этой стране, которая прилегает к морю и о которой известно, что она пять лет воевала и была избавлена от войны некоей цепкой рукой. Ты что-нибудь знаешь о цепкой руке?
— Нет, — отвечала женщина. — Мы ничего не знаем о таких делах. Наша хижина стоит слишком обособленно, чтобы до нас доходили войны и ратные клики.
— Но так оно и должно быть, — сказал седоголовый,— это соответствует полученным нами указаниям. Согласно им мы повернулись спиною к рокочущему морю и направились к холмам и пустынным урочищам вашей страны. Эти урочища вели от наполья к лесу, а оттуда, как подсказало нам сердце, мы ехали еще целых два дня. На третий день мы свернули на тропу, по которой еще никогда не ступало копыто, и кривая заросшая травою стезя привела нас к этому омываемому озером полуострову и к вашей хижине. И вот мы сидим здесь перед тобой. А теперь, женщина, пригуби еще раз вина из моего кубка! Выпей хорошенько за здоровье гостей! Хорошенько и не спеша — вот так. Ну, а сейчас скажи нам по чести: действительно ли вы не знаете ни о каком пустынном камне или уединенной скале в пределах вашей глуши?
Но женщина боялась своего мужа и потому ответила:
— Господа, вы же спрашивали об этом рыбака, и он дал вам ответ. Разве он осмелился бы скрыть от вас правду, если бы знал g таком месте?
— Но почему ты трясешься и плачешь? — спросил ее низким голосом долговязый, ибо рыбачка не могла сдержать слез и скрещенные руки дрожали у нее на груди.
220
— Отец мой, — сказала она, — это только оттого, что мне очень хочется тоже задать господам вопрос: едва вы приблизились к хижине и даже едва вы показались вдали, меня, бедную женщину, уже так и подмывало его задать.
— Спрашивай! — сказал священник.
— Для кого, ах, для кого же, — спросила женщина, — предназначен этот белый без седока мул, которого вы ведете с собой?
— Он, — отвечал незнакомец, еще более понизивши голос, — предназначен тому, кого мы ищем, покинувши Новый Иерусалим по высшему указанию. Он предназначен избраннику, которого мы разыскиваем по христианскому миру и местопребывание которого, судя по всем приметам, должно быть где-то недалеко отсюда.
— Ах ты господи, — промолвила женщина,— тогда я вам скажу…
Но в это же самое мгновение раздался хриплый возглас оттуда, где рыбак управлялся со своей рыбой, крик ужаса и великого изумления, заставивший гостей встрепенуться и взглянуть на кричавшего. Что же касается женщины, то она резко повернулась, протянула руку туда, откуда донесся выкрик, и, словно зная, что́ там открылось, воскликнула с каким-то торжеством:
— Вот, вот! Вот видите, вот видите!
Так она и осталась стоять с вытянутой рукой. Гости же устремились к очагу, где рыбак в ужасе голосил:
— Это он! Я вижу его снова собственными глазами, я держу его в руках, он подобран со дна, да поможет мне бог!
На мокрой доске, выскобленная и выпотрошенная, лежала рыба, а рыбак держал в грязной руке какой-то предмет, какой-то ключ, и, уставившись на него, причитал:
— Горе мне! Это он, он самый! Подобран в пучине! В желудке рыбы! Да, да, желудок, я сразу заметил в нем что-то необычное и тотчас его вспорол.
221
Это оказался он, он у меня в руке, помилуй мя, грешного, господи!
И рыбак, шатаясь, приблизился к столу, уперся в него локтями и зарыл в волосах грязные руки вместе со своей находкой. Гости подошли к нему, а его жена, словно в исступлении, все еще стояла на месте, протянув руку туда, откуда уже ушел ее муж.
— Друг мой, — низким и тихим голосом сказал Либерий, ибо это был он, он и Секст Аниций Проб — вот кто были эти чужестранцы, чтобы наконец назвать по именам наших старых знакомых, — друг мой, — сказал пресвитер, — объясни нам, в чем дело, и облегчи свое сердце, которое, кажется, узнало в странной находке какую-то давнишнюю утрату! Смотри на меня как на своего исповедателя! Что это за предмет, что это за ключ у тебя в руках?
И бледный как полотно рыбак поднялся и исповедался, меж тем как его жена, сложив руки, стояла рядом с ним на коленях. Он рассказал о бездомном страннике в нищенском рубище, который когда-то прибрел к их хижине и которого он встретил с великим глумленьем и злобой и вовсе не приютил бы, если бы не предстательство жены. Он осыпал его оскорбительными словами, считая его обманщиком, а странник принимал их смиренно, с кротостью богомольца, и наконец спросил, не укажут ли ему пустынного места, где он сможет наложить на себя тягчайшую кару за совершенный им грех. Он, рыбак, отвез поутру незнакомца к угрюмому камню посреди озера и высадил его там, хоть и по желанию странника, но со злобою в сердце, чтобы тот поплатился за лицемерие, и вдобавок надел на него запирающиеся кандалы, ключ от которых бросил в озеро, и всуе поклялся, что если когда-либо увидит этот ключ и достанет его со дна, то поверит в святость своего незваного гостя и попросит у него прощенья.
— Всуе, всуе поклялся, — стонал рыбак. — Бог меня наказал и побил меня чудом через столько лет. Вот он, перст божий, ключ, проглоченный рыбой и найденный в ее желудке, — во славу нищему и на погибель мне, который, глумясь над святым, обрек
222
себя суесловием на адский огонь, ибо теперь уже поздно просить прощения!
И он снова уперся локтями в стол и погрузил руки в копну волос.
Как были поражены римляне!
— Anima mea laudabit te1, — промолвил Либерий, воздевши очи горе, — et indicia tua me adjuvabunt!2 Рыбак, —обратился он затем к убитому горем хозяину хижины, — не печалься, ибо ключ послан тебе в знак того, что ты приютил человека, которому дана власть над ключами и право вязать и разрешать. Он разрешит тебя и простит за то, что ты его не признал и действовал хоть и по его воле, но в порыве ненависти. Время просить прощенья еще не упущено. Завтра, перед рассветом, ты отвезешь нас к скале, ad petram, чтобы мы сняли с нее того, кого нам велено отыскать, и твоя вторая поездка будет твоим разрешеньем от первой.
— Ах, дорогие и бедные господа! — вздохнул рыбак. — Что толку в поездке? Я, конечно, ее предприму, и возможно, что мне суждено повторять ее в вечности, в преисподней, вечно стремясь туда и обратно. Но неужели вы надеетесь найти там святого, если со дня моего злодеянья прошло уже двадцать лет?..
— Семнадцать, — поправил его Проб, — семнадцать лет, друг рыбак!
— Семнадцать или двадцать! — горестно воскликнул тот. — Не все ли равно? Не надейтесь, что он прожил там хотя бы один год или даже месяц! Я оставил его на голом камне, в премногих нуждах; любой из них было бы достаточно, чтобы убить всякую надежду. Если его вскорости не доконали ненастье и ветры, то это сделал голод, и сделал, пожалуй, еще быстрее, чем нагота. Правда, обломки его костей мы, наверно, найдем на вершине скалы, и вы, господа, сможете доставить эти реликвии в Новый Иерусалим. Но я не смогу добиться от них ни прощенья, ни раз-
223
решенья, и мне суждено, искупая свой грех, вечно странствовать между мостками и камнем.
Гости только обменялись улыбками, покачали головами и насмешливо пожали плечами.
— Человече, ты говоришь так по скудному своему разумению, — сказал церковник, а его друг-мирянин прибавил:
— О маловерный, взгляни на свою жену!
Она стояла на коленях, сложив руки под подбородком, и сердце ее было настолько полно веры и счастья, что вокруг ее головы стало явно немного светлее, чем во всей горнице, где горела коптилка.
ОТЫСКАНИЕ
Рыбу не стали жарить и к ней не притронулись; я рад, что все сочли неудобным шпиговать и пустить в пищу носительницу ключа и что гости довольствовались вином и хлебом. В бедной душе рыбака не осталось бы места досаде на понесенный убыток, душа его была полна страху, что ему придется вечно странствовать взад и вперед между скалой и мостками, потому что он не признал святого. Однако он получил свои деньги, ибо гости великодушно решили, что они так или иначе должны заплатить за заказанный ужин, и, следовательно, насчет этого побочного обстоятельства хозяин мог быть спокоен, какие бы другие заботы его ни осаждали.
Ореол веры вокруг головы жены он воспринял как плод ее богатого воображения, пребывая в прежней уверенности, что на камне либо вообще ничего не сохранилось от нищего, либо же сохранились одни останки, о коих он страшился и думать. Жестоко посрамленный и наказанный чудесной находкой, он боялся снова приблизиться к месту гнусного своего преступленья и к тому же боялся разочарования гостей, ожидавшего их после стольких усилий; ибо полагал, что не так-то легко будет поднять на скалу этих холеных и пожилых людей и что
224
они наконец убедятся в тщетности своего долгого путешествия.
Я по-своему разделяю заботы этого грубого человека. Ведь я знаю, а вместе со мною знаете и вы, кому я все это поведал, какое испытание предстояло римлянам, сподобившимся откровения и высокой миссии! Как хозяин повествования, предвидящий ход событий, я мог бы, правда, утешиться тем, что на поверку это испытание оказалось, так сказать, шуткой и все сошло хорошо. И все-таки я с тревогой думаю о великом смущении и замешательстве, которые поначалу[34] должны были прийти на смену уверенности.
Благочестивая женщина отнесла в кухню широкий матрац с супружеского ложа, и посланцы провели на нем несколько часов в нетерпеливой дремоте — то вдвоем, то порознь, так что во втором случае один из них лежал на матраце, а другой клевал носом, сидя на стуле. Но, едва забрезжил день, они поднялись, потребовали у рыбака воды для омовения, съели по нескольку ложек мучной похлебки, каковую подала им хозяйка, и тут же изъявили желанье отправиться в путь. Верхом на своих мулах проехали они короткое расстояние между хижиной и мостками, ведомые рыбарем, который мрачно нес лестницу, а также вервие и заступ. Что же касается слуги-римлянина, то он, заставляя рыбака недоверчиво качать головой, вел под уздцы белого мула, чтобы вместе с последним поджидать путников возле мостков. Он нес также кое-какие съестные припасы, хлеб и вино, а на спине белого мула лежала одежда, приличествовавшая тому, для кого она была предназначена. Подобно вину и закускам, ее поместили в лодке вместе с упомянутыми орудиями. Либерий, благочестиво опустивший уголок рта, хранил у себя ключ.
Сидя на веслах и временами тяжко вздыхая, рыбак вез их все дальше и дальше по глади озера — может быть, час, а может быть, целых два: они на это не обращали внимания. Они искали глазами
225
скалу, о которой возвестил им агнец и которая наконец показалась в пустынной дали, серо-бурый и голый конусообразный, довольно высокий, риф,— «kepha», как с благоговением пробормотал епископ, «petra», как прибавил он, сложив руки. Что же касается Проба, то он, когда они приблизились к цели, сказал:
— Покамест я ничего не вижу на этом камне.
Он сделал ударение на «покамест», и все же его друг наказал его строгим: «Не торопись!»
— Я не тороплюсь, — отвечал Аниций. — Однако покамест не видно ни хижины, ни какого-либо другого укрытия, ни тем более человеческой фигуры там наверху.
— Чем и из чего, — уныло усмехнулся рыбак в бороду, — мог он построить себе укрытие!
Либерий оставил его слова без вниманья.
— Сильней налегайте на весла! — приказал он. — Пристаньте к скале, и мы не мешкая на нее взберемся!
— Да, да, взберемся! — горячо подхватил его друг, хотя его как более тучного предстоявшее восхожденье немало тревожило. И поистине это было куда легче сказать, чем сделать людям, достигшим уже шестого десятка. Рыбаку удалось причалить и закрепить лодку; ему удалось также ценой многотрудных, сначала безуспешных, и лишь впоследствии увенчавшихся успехом, попыток зацепить крючья лесенки за два выступа, до которых она доставала, отвисая от чуть наклонной стены и являя собой хоть и шаткую, но сравнительно надежную опору. Известно, однако, что лесенка отнюдь не доходила до самой площадки, и задача, заключавшаяся в том, чтобы провести гостей не только по ее ступенькам, но и дальше, по голой скале, оказалась для рыбака, и без того уже павшего духом, на поверку не только не легче, но еще тяжелее, чем он опасался. Он связал всех троих своим вервием и, взобравшись на шаткую лестницу, распорядился, чтобы за ним следовал Либерий, а замыкал шествие Аниций. Грешнику, не подкрепленному верой, тяжело
226
было тянуть и сохранять равновесие уже на ступеньках, но еще тяжелее пришлось ему, когда они кончились и до самой вершины камня нужно было на каждом шагу искать опоры ноге. Иногда вожатый вырубал заступом все же хоть какое-нибудь жалкое подобие ступени для римлян. Они кряхтя цеплялись за эти выемки руками и ногами. Задыхаясь и в поту, несмотря на холод, они вскарабкались друг за дружкой наверх, доползли до площадки, выпрямились, заставили себя оглядеться, — рыбак озирался понуро и нехотя, чужестранцы — жадно тараща глаза.
Ничего не открылось их взору, кроме того, что можно было увидеть издали и снизу: пусто было на голом прямоугольнике, которого они достигли с таким трудом. Они смутились, почувствовав разочарование, унизительное и горестное. Неужели возвещенье и наставленье, обоими ими услышанное, обоих обмануло и сбило с толку? Неужели слова агнца, до сих пор подтверждавшиеся, могли под конец и у самой цели оказаться ложью? Проб и Либерий невольно протянули и пожали друг другу руки.
Это они сделали до того, как одновременно с рыбаком заметили, что от середины площадки к ее краю движется какой-то предмет, какое-то существо, какая-то живая тварь, чуть побольше ежа, движется то на четвереньках, то выпрямляясь, то вдруг вновь опуская передние конечности. Это передвижение походило на бегство, но в той стороне, куда направлялось диковинное созданье, не было никакого укрытия. Впрочем, у самой кромки лежал какой-то предмет, покрытый ржавчиной и наполовину истлевший, который не ускользнул от глаз рыбака.
— Кандалы! — воскликнул он. А у друзей вырвался сдавленный возглас:
— Живая тварь!
Руки, за которые они держались, дрожали. Каждый перекрестился свободной рукой.
— Знакомо ли вам по своему облику, — спросил рыбака Либерий, — это убегающее существо?
— Нет, сударь, — отвечал тот. — Я впервые вижу
227
подобное животное. Его не было на камне, когда я доставил сюда святого.
— А что значило, — пожелал узнать Проб, — твое восклицание, относившееся к этому вот орудию?
— Это кандалы, — признался рыбак, — изъеденные сыростью, которые я когда-то наложил на святого и ключ от коих с проклятьями бросил в озеро — его-то рыба и проглотила. Он, господа, у вас в руках, а это вот кольца, хоть и запертые, но уже никого не сковывающие. Святой их сбросил. Может быть, он вознесся на небо.
— Не таков смысл полученного нами наставления, — печально возразил пресвитер. — Вознесся господь, что воздвиг на камне церковь свою. Достаточно горько то, что, вопреки сладостному указанию, мы застали этот камень пустым. Не стоит заглушать свою боль недопустимыми догадками.
— Ты говоришь: пустым, — заметил Проб, — однако это слово не вполне соответствует истине. Совершенно пустой и лишенной всяких следов того, кого нам велено отыскать, мы эту скалу не застали. Вот кандалы, которые он носил. Его самого не видно. Но вправе ли мы, будучи христианами, отождествлять невидимость с небытием? Вправе ли мы колебаться в вере, и не должны ли мы, напротив, уверовать, что за этой пустотой, за этим мнимым «ничто» кроется подтверждение наших надежд? Спору нет, единственный житель скалы, указанной агнцем, — это божья тварь, бегущая к кандалам. Ее не было тут, когда здесь поселился избранник, а теперь она налицо. Давайте к ней приблизимся.
— Она зело колюча, — сказал с отвращением Либерий.
— Да, колюча, — подтвердил Проб. — Однако ее поведение свидетельствует скорее о страхе, чем о злонамеренности. Нам нечего ее опасаться, так почему же нам не ждать от нее какой-нибудь пользы? Подойдем к ней[35].
И Проб, который все еще держал своего друга за
228
руку, потянул упиравшегося Либерия к краю площадки, к заржавелым кандалам и сидевшему возле них существу. Но как удивились римляне и рыбак, как сперло у них дыхание и как они вдруг застыли на месте, когда это существо отмахнулось от них одной из своих коротких передних конечностей и человеческий голос, исходивший, несомненно, из его заросших щетиною губ, произнес:
— Прочь от меня! Прочь отсюда! Не мешайте покаянию величайшего грешника!
Пришельцы обескураженно взглянули друг на друга. Их руки еще плотнее сцепились. Прелат перекрестился ключом. Он сказал:
— Тварь божья, ты говоришь. Можно ли из этого заключить, что ты причастен к человечеству?
— Я вне его, — гласил ответ. — Покиньте место, которое указано мне затем, чтобы я ценой жесточайшего покаяния, может быть, все-таки еще обрел спасение.
— Милое созданье, — вмешался Проб, — мы вовсе не собираемся оспаривать у тебя твое место. Но знай, что в двойном видении оно указано также и нам и что нам велено найти здесь того, кого избрал господь бог.
— Здесь вы найдете только того, кого бог избрал презреннейшим, ужаснейшим грешником.
— Ну что ж, — возразил Аниций с учтивостью горожанина, — это тоже интересная встреча. Что же касается того, за кем мы посланы, то его господь избрал своим викарием, епископом над епископами, пастырем народов, папой римским. Знай, что мы римляне, сыны Нового Иерусалима, где пустует вселенский престол, ибо ум человеческий помутился при попытке его занять. Мы же, этот посвященный и я, в двойном видении узнали из уст умильного агнца, что господь сам выбрал того, кому дано право вязать и разрешать, и что избранника нужно искать в далекой стране, на камне, на этом камне, где тот, как сказал нам агнец божий, живет вот уже семнадцать лет. Мы его не нашли, мы нашли только эти кандалы, ключ от коих, через посредство некоей рыбы,
229
вернуло озеро, и вместо избранника мы нашли тебя. Умоляем тебя, скажи, известно ли тебе что-нибудь о нем?
— Молчи! — воскликнул Либерий с внезапным испугом, схватив говорившего за руку. Но тут они увидели, что из глаз странного существа по его заросшей, обезображенной мордочке катятся две слезинки.
— Ты плачешь, милое созданье, — сказал Проб, который при этом зрелище и сам не удержался от слез. — Твой плач еще убедительнее, чем дар речи, свидетельствует о том, что ты причастен человечеству. Ради крови агнца скажи, был ли ты человеком, прежде чем тебе выпал на долю твой нынешний облик?
— Я был человеком, хотя и вне человечества,— раздалось в ответ.
— А принял ли ты крещенье?
— Меня сподобил его некий благочестивый аббат и нарек меня своим именем.
— Каким же?!
— Не спрашивай! — воскликнул Либерий в величайшем испуге, пытаясь встать во весь свой высокий рост между другом и крохотным существом. Но оно ответило:
— Грегориус.
— О ужас! — крикнул слуга церкви и, закрыв лицо обеими руками, упал.на колени. Над ним склонился его спутник, который, хоть и будучи гораздо меньшего роста, теперь оказался выше.
— Соберемся с духом, amice! — сказал он. — Это великое чудо, пусть и способное поставить нас в тупик, но все же трогательнейшее чудо, перед которым меркнет наше человеческое суемудрие.
— Это сын сатаны и наваждение адово! — вырвалось из-под ладоней Либерия. — Fugamus!1 Над нами подшутил дьявол! Бог не мог избрать щетинистого зверя своим епископом, хотя бы тот сотни раз
230
присваивал себе имя избранника! Прочь отсюда, прочь от места адского морока!
Он вскочил на ноги и хотел убежать Проб вцепился в его одежду. А за спиною у них раздался смиренный голос:
— Некогда я изучал grammaticam, divinitatem и leges.
— Ты слышишь? — спросил Проб. — Мало того, что он говорит и плачет, он и по своим знаниям вполне подготовлен к тому, чтобы вязать и разрешать. Ты поступил бы правильно, если бы вручил ему ключ.
— Nurnquam!1 — воскликнул тот в неистовстве.
— Либерий, — принялся мягко убеждать пресвитера его спутник[36], — вспомни о той простой женщине, которая признала святого в личине нищего и вокруг головы которой мы видели ореол веры! Неужели мы позволим ей себя пристыдить, наотрез отказавшись признать избранника в облике низшего существа? Неужели мы превратно истолкуем точное повеление агнца?
— С самого начала, — возразил Либерий, — была какая-то несогласованность в наших видениях, ибо ты утверждал, будто кровь агнца на твоих глазах превращалась в розы, тогда как от меня укрылась эта подробность.
— Ты объяснял это тем, — отвечал Проб, — что тебе как сыну и князю церкви не нужны подобные подтверждения веры.
— Им я воистину и являюсь, — воскликнул Либерий, — слугой церкви, стражем ее священной чести Ты же мирянин и как таковой не способен разделять мои чувства. Тебе легко дать себе поблажку в вопросах веры, а я знаю толк в представительстве и потому сгораю со стыда. Мы с тобой посланы затем, чтобы доставить в Рим епископа над епископами, отца князей и королей, богоизбранного кормчего шара земного. Неужели я должен вернуться домой, неся на груди чудище величиною с ежа, увенчать это
231
чудище тиарой, посадить на sedia gestatoria1 и потребовать от града и мира, чтобы они почитали его как папу? Турки и язычники станут глумиться над церковью. Церковь…
Он осекся. За спиною у них послышалось:
— Не смущайтесь моим видом! Я стал таким маленьким, потому что кормился младенческой пищей и жил под открытым небом. Мой рост ко мне вернется.
— Ты слышишь? Ты слышишь? — торжествовал Проб. — Его внешность поправима. Ты же, мой друг, слишком односторонне выпячиваешь аристократизм церкви и забываешь об ее демократичности, разительный пример которой, как мне кажется, и приводит нам бог. При выборе главы церкви ничего не значат наши земные градации, ни племя, ни род, ни происхожденье, ни даже наличие духовного сана. Самый убогий и невзрачный, если только он по-христиански крещен и к тому же не еретик, не раскольник и не заподозрен в святокупстве, может, как тебе известно, стать папой. А ты, кающееся созданье, знаешь ли ты этого седобородого человека?
— Он привел меня сюда.
— И ты носил эти кандалы? — Я носил их, пока они не спали с меня, оттого что я сделался меньше. Не требовалось никаких кандалов, чтобы удержать меня в моем покаянии, я сам держался за него цепкой рукой. Мне, грешнику, была дарована необычайная собранность во всяком бою.
— По-видимому, ты готов повиноваться избранию?
— Мне не было места среди людей. Если непостижимая милость господня указует мне место превыше всех, то я займу его, исполненный благодарности за то, что мне дано право вязать и разрешать.
— Кардинал-пресвитер церкви Санкта Анастасия суб Палацио, — почтительно молвил Проб, вытягиваясь перед своим куда более рослым другом. — Отдай этому чаду господню ключ!
232
Тут Либерий уже не стал противиться.
— Et tibi dabo claves regni coelorum!1 — пробормотал он, опускаясь на колени и вручая богомольцу то, что вернула в хижину рыба. Скрюченными ручками Грегориус прижал ключ к своей волосатой груди.
— Возлюбленные родители, — сказал он, — я вас разрешу.
ПРЕВРАЩЕНИЕ
Они решили, что тот же, кто доставил сюда избранника, стало быть, рыбарь, отнесет его теперь на руках к лодке. Спуск оказался необычайно труден, пожалуй, еще труднее, чем подъем, но все четверо, сначала по голому камню, а затем по ступенькам лесенки, благополучно добрались до ладьи, где носитель ключа был осторожно опущен на бортовую скамью, после чего рыбак, довольный, что ему не придется вечно блуждать между скалой и мостками, изо всех сил налег на весла.
С мучительной тревогой взирал Либерий на грешника с камня, и я сомневаюсь в том, что озабоченность Проба при виде сидевшего перед ним на скамейке папы значительно уступала озабоченности его друга-прелата. Его душа была также полна тайного страха за представительство, тем более, что он взял на себя большую ответственность и, по-христиански себя испытывая, задавался теперь вопросом, не вызвано ли его смелое поведенье гордыней, то есть гордостью тем, что чудесные розы явились в видении только ему. Впрочем, я отлично вижу, что смущенье плывущих по озеру отражается и на лицах моих читателей. Один только я, рассказчик, знающий все наперед, совершенно невозмутим и спокоен, ибо мне-то известно, сколь простым и естественным образом, еще в пути, разрешилась эта дилемма, это противоречие между безобразной наружностью карлика и высоким саном, ему назначенным, так что не прошло и двух часов, как, к великому удовлетворению и
233
успокоению римлян, с ними в лодке сидело уже не взъерошенное, окостеневшее и косматое дитя природы, а привлекательный, хорошо сложенный человек лет сорока, и даже длинные черные волосы и густая черная борода не могли уже скрыть благообразия его лика.
Как произошла эта перемена? Поистине, ничего не могло быть проще и вместе с тем непонятнее. После семнадцатилетнего пребывания у старой материнской груди земли достаточно было одного лишь прикосновения высшей пищи к губам Грегориуса, чтобы вновь приобщить питомца скалы к возмужавшему человечеству. Весьма вероятно, что сама природа заморыша к тому стремилась. «Мне хочется есть и пить», — сказал он, как только перевозчик взмахнул веслами, и, к стыду своему сообразив, что они от смущенья забыли даже его накормить, римляне уделили ему из имевшихся в лодке запасов вина и пшеничного хлеба. Он вкусил хлеба, испил вина, и в этот же миг началось то тихое, постепенное, неторопливое, я бы сказал, неприметное превращенье, право же, вовсе не удивившее и не испугавшее его свидетелей, которое возвращает нам Григорса, воспитанника аббата «Agonia Dei» и победителя в бою с драконом, Григорса зрелой поры, так что нам остается лишь пожелать, чтобы бритва и ножницы поскорее убрали с его головы обильные космы и дали нам снова ясно увидеть знакомое лицо, строгое повторение пленительных черт Сибиллы и Вилигиса.
Так как он был гол, ему ласково подали привезенное платье, белую шерстяную ризу с короткой пелеринкой и священническую скуфейку. Итак, он был одет, когда они достигли берега и мостков, и он сел на мула с белой уздечкой, ожидавшего его вместе с мулами римлян под присмотром слуги. И он поехал по полуострову с людьми, которые его привезли, к хижине, где увядающая женщина упала перед ним на колени и, когда он спешился, оросила его ноги слезами.
— Вы были добры ко мне, женщина, — сказал он, склонившись над ней, — когда я посетил эту хижину
234
в прошлый раз. Я не забыл, как вы побежали за мною в дождь, а поутру разбудили меня, дабы я не опоздал отправиться к своему месту.
— Ах, святой отец, — разрыдалась она, —я не заслуживаю вашей похвалы, ибо богу известен мои грех. Когда я в тот день защитила вас от грубостей рыбака, он упрекнул меня в том, что я полюбила вас плотской, похотливой любовью, и я отвергла это обвинение, отвергла притворно, как теперь признаюсь. Ибо я и в самом деле заглядывалась на ваше тело в нищенском рубище и на ваше благородное лицо, и если я, презренная, сделала для вас доброе дело, то только из вожделения!
— Это пустяк, — отвечал Грегориус, — не стоит о нем и говорить. Редко бывает не прав тот, кто усматривает греховное начало в добром поступке, но бог милостив к добрым делам, если даже корень деяний сих — плоть.
Так он сказал. То был первый пример необычайной, столь утешительной для людей и ненавистной лишь ригористам снисходительности, которую он являл как папа.
Женщина была счастлива. Мне кажется, что, получив прощенье, она заключила, будто он разрешает ей любить его и теперь все еще несколько плотской любовью. А его одолевала только одна забота, покидавшая его за эти семнадцать лет на голой скале разве лишь во сне и более важная для него, чем все остальное, чем поездка в Рим, которую чужестранцы не хотели откладывать, чем стрижка бороды и волос, за которую готов был приняться их личный слуга. То было беспокойство за дощечку, в то утро, когда он поспешил вослед рыбаку, забытую на камышовой подстилке в сарае, где он ночевал, и он настойчиво о ней спрашивал. Кто мог бы тут его утешить?
— Ах, святой отец, — молвил рыбак, — выполняя свое подлое обещанье, я приютил вас в ту ночь. Чулан, который я указал вам в своем ослепленье, еле держался. Он простоял всего лишь три месяца после того, как вы уехали со мною, а потом его опрокинул ветер, и он развалился. Крышу и стены я разобрал
235
на дрова, и теперь там — взгляните сами — пустырь, где растут лишь крапива да сорняки. Можно ли через столько лет найти хоть какой-то обломок этой вещицы, что вы там когда-то забыли? Она давно истлела и смешалась с землей, не надейтесь ее отыскать!
— Вспомни, человече, — строго ответил ему Либерий,— что ты говорил совершенно то же самое, когда мы просили тебя отвезти нас к скале! Ты жалким образом утверждал, что мы там ничего и никого не найдем. И сколь же разительно уличил тебя господь в маловерии!
— Святой отец, — прибавил Проб, — потерял некую драгоценность. Дайте лопату и заступ! Мы сейчас будем копать землю ради него.
Однако Грегор этому воспротивился.
— Орудия дайте мне! — приказал он. — А сами ступайте в хижину! Я буду копать один, мне не нужны свидетели.
— Осмелюсь заметить вашему святейшеству, — вмешался Либерий, — что это уронило бы достоинство церкви, если бы вы > взялись за лопату и стали в поте лица своего копать землю. Даже нам, посланцам, такое занятие не подобает, это дело рыбака и нашего слуги.
— Dixi, я так сказал, — ответил Григорс, и воля его была исполнена. Засучив рукава ризы, он вонзал заступ в землю, на которой когда-то лежал, и, стоя на коленях, рылся в пыли собственными руками. Можно сказать, что никто на свете не искал более усердно свидетельства и удостоверения своей принадлежности к сословию грешников. Крапива жгла ему руки, но он не обращал на это внимания, и господь вознаградил его за труд, за пот и ожоги, ибо вдруг среди сора и гнили что-то сверкнуло, и он вытащил чистое и целехонькое, словно только что вышедшее из-под руки мастера, так что и чернила даже не потускнели, вено подкидыша, повинную его матери, хранившуюся в земле столько же времени, сколько дотоле у верного друга, аббата, — то есть ровно семнадцать лет.
236
И вот, держа ее в одной руке, а в другой руке ключ, он про себя произнес:
Мне
теперь мои печали
Просветленными
предстали,
И
дивлюсь я, сам не свой,
Той
алхимии святой,
Что
и плоть, и боль, и стыд
В
дух чистейший претворит,
И
наперсника порока
Вознесет
к тебе высоко.
Господи,
вся скорбь земная
Пусть войдет в ворота рая.
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПАПА
Звон, перезвон колоколов supra urbem, надо всем городом, в струящемся над ним воздухе, пересыщенном гудящими звуками! Кто звонит в колокола? Никто — токмо дух повествования, возвещающий вам, что уже за три дня до прибытия избранника все они сами собой стали звонить и не умолкали до тех пор, пока не окончился обряд посвящения перед собором Святого Петра. При всей его дивной красоте, это историческое событие было вовсе не так уж приятно для populatio urbis1. Три дня и три ночи не удавалось остановить колокола Рима, они звонили все разом, с величайшей силой и повсеместно, и выдержать этот непрерывный чудовищный шум и гам людям было не так то легко; это духу повествования совершенно ясно. То было некое священное испытание и бедствие, о прекращении коего слезно молили небо слабые души. Однако небо, как я полагаю, было настроено слишком торжественно, чтобы внимать столь ничтожным жалобам: ведь оно возводило на sedes Petri2 незаконного сына, мужа собственной матери, зятя собственного деда, свояка собственного отца, многогрешного брата собственных детей и было, как я понимаю, настолько взволнованно и удивлено непо-
237
стижимостью своего деяния, что сия взволнованность небес вылилась в самопроизвольно-могучее громыхание всей колокольной меди семи епархий. Но из такого великого неудобства, вызвавшего усиленный спрос на вату, а стало быть и повышение цен на означенный товар, намеренно придерживаемый торговцами, populatio могла заключить, что приближается папа необычайной святости.
Он ехал по христианским землям на белом муле, мужественно красивый, облагороженный бородой, и ежедневно росло число людей, его окружавших, ибо многие сановники церкви, графы и просто охваченные страстью к паломничеству миряне, возжелавшие присутствовать на церемонии венчанья святейшего, присоединялись к нему по пути. Молва о великом грешнике, прожившем семнадцать лет на голой скале и ныне удостоенном, с изволенья божья, престола престолов, опережала Грегориуса, и везде на дорогах лежали больные и немощные, в надежде выздороветь от его прикосновения или даже только от его слова и взгляда. История знает, что многие действительно избавились тогда от страданий — иные, вероятно, через блаженную смерть, если они, будучи уже слишком немощны, поднялись со своих постелей и улеглись на дороге. Иные, однако, дотронувшись до края его одежды или хотя бы издали принявши его благословение, бросали прочь костыли и повязки и с хвалой на устах заявляли, что никогда еще не чувствовали себя лучше.
Достославный Рим встретил избранника ликованием — в частности (и по-человечески это можно понять) потому, что теперь, когда он наконец прибыл, появилась надежда на скорое умиротворение неукротимых колоколов. Он приближался к городу, как мне известно, по Номентской дороге, на четырнадцатой миле которой находится епископская резиденция Номент. Туда, навстречу ему, уже отнесли кресты и хоругви римских базилик, и люди всех званий: и клир, и дворянство, и цехи горожан со своими знаменами, и отряды военных, и школьники, с пальмовыми и масличными ветвями в руках, выстроились там для
238
великого сретенья. С их торжественным пением сливался далекий металлический звон, которому, без человеческого вмешательства, вторил номентский колокол. Избраннику сообщили об этом чуде, и он от души порадовался такой чести. Уже смеркалось, а потому он переночевал во дворце епископа и лишь наутро вместе с бесконечно растянувшейся процессией под немолчные песнопения торжественно вступил в священный город. Как значится в летописи, он не прошел через Номентские ворота, а проследовал вдоль стен к Мульвиеву мосту, чтобы таким образом выйти к апостольскому собору. И из тысячи широко разинутых ртов устремился к небесам хвалебный тропарь:
Ликуйте, все края земли,
Рим, Иудея, Греция,
Фракийцы, скифы, персы, египтяне,
Единый царь над нами!
Это он, найденыш аббата, питомец камня, был поставлен царем
надо всей пестротою печалей земных, это его, когда он, на глазах несметной
толпы, запрудившей украшенную фонтаном площадь перед святилищем, поднимался по
широкой мраморной лестнице в атриум усыпальницы, встречали священники величальным
напевом: «Benedictus qui venit in n
239
набедренной тесьмой, в несколько хитонов, строченных золотыми и красными нитками, затем в три ризы, одна на другую, не считая сто́лы, манипула и кушака златотканого белого шелка. На ноги ему натянули папские чулки, настолько толстые и негибкие из-за золотого шитья, что они так же тяжелы, как башмаки, вкруг шеи ему повесили золотое вервие со сверкающим первосвященническим крестом, после чего папский перстень надели на шелковую перчатку и наконец поверх всех девяти облачений нарядили его в самое тяжеловесное, в длинную, со шлейфом, мантию цвета утренней зари и золотого заката, не сминавшуюся из-за драгоценной вышивки. Затем его посадили в золотой паланкин, и юноши в скарлатах понесли его вокруг всей базилики, пол которой, до последней языческой мраморной плитки, заполнили верующие: будь то под высоким потолком широкого и длинного среднего нефа, где слепятся глаза от сусального блеска апсиды, или же в двух боковых портиках, поровну распределивших между собой тяжести кровли.
Они отнесли его к главному алтарю над гробницей, и он отслужил здесь свою венчальную мессу — весьма умело, ибо еще в детстве перенял все необходимые приемы у своего названого отца в монастыре «Мука господня». Вокруг папы, сверкая, как звезды, сидели епископы и архиепископы; были здесь и другие важные лица, аббаты и judices1. Затем, под все еще не смолкавший колокольный звон, его понесли вокруг площади Святого Петра, а потом старинной дорогой, на холм, и с холма, через триумфальные арки императоров Феодосия, Валентиниана, Грациана, Тита и Веспасиана и через квартал Парионе, где у дворца префекта Хромация стояли и, качая головами, славили папу евреи, по Священной дороге, мимо Колизея, к его резиденции — Латерану.
Слушайте же, что было дальше. Едва он прибыл в свой дом и в благотворной тишине, наступившей теперь, когда колокола наконец угомонились снял
240
с себя
многочисленные наряды, как он уже начал править христианским миром, пасти стадо
народов и пресуществлять во благо всю пестроту печалей земных.
Григорий-столпник очень скоро показал себя величайшим папой, совершающим
подвиги, равные тем, которые, если судить по изображениям на подстолпиях некоторых
колонн, взятых для римских церквей из каких-то других зданий, приписывались
полубогу Гераклу. Я не знаю, за что его преимущественно хвалить: за то ли, что
он позаботился о необходимом усилении Аврелиевых стен, заново укрепил город
Радикофани и еще один, под названием Орте, построил множество церквей, мостов,
площадей, монастырей, больниц и приют для найденышей, выложил атриум собора
Святого Петра мраморными плитками и украсил фонтан перед ним часовней с
колоннами из порфира? Но то была ничтожная часть его деяний. Ибо цепкой своею
рукой он не только сохранял для Святого Престола земельные владения или
учреждал таковые даже в Сардинии, в Коттиевых Альпах, в Калабрии и Сицилии, но
также подчинял ему потентатов и строптивых баронов равнины, заставив их, кого
уговорами, а кого и более сильными средствами отказаться от своих замков и управлять
ими лишь на правах ленников церкви, так что независимые князья становились теперь
вассалами и h
241
честь и святость духовного сана от достоинств и недостатков его носителя и проклял ex cathedra1 чрезмерно строгих африканских донатистов, которые, подобно неистовому Тертуллиану, признавали право на званье священника только за теми, у кого незапятнанно чистые руки. Ибо он заявил, что достойных нет и что он сам, по вине плоти, наименее достоин своего сана, до коего возвысился только благодаря граничащему с произволом избранию. Хоть его заявление и пришлось на руку некоторым лукавым козлищам в господнем вертограде, для церкви оно оказалось весьма полезным и мудрым, так как заранее защищало его высокий сан от всяких поношений, на какие только не способна слабость человеческая.
Его терпимость и милосердие были равны непоколебимости, которую он при нужде проявлял; его, я бы сказал, дерзкая манера побуждать божество к милосердию, даже в тех случаях, когда таковое из собственных побуждений едва ли к нему склонялось, снискала уважение во всем христианском мире. Не кто иной, как он, например, вызволил из ада императора Траяна, лишь потому, что тот однажды без долгих размышлений удовлетворил законные притязанья некоей вдовицы, у которой убили единственного сына. Это вызвало кой у кого даже недовольство папой, и молва утверждала, будто господь уведомил его, чтобы он, хоть ему единожды и удалось причислить язычника к сонму блаженных, впредь уже не осмеливался обращаться к богу с подобными просьбами.
Как бы то ни было, в течение всей своей жизни Грегор больше стремился разрешать, чем вязать, и отсюда-то и вытекали выносимые им решения и приговоры, поначалу часто удивлявшие и тревожившие не только народ, но и самое церковь, однако в конце концов всегда вызывавшие восхищение. Так, например, он установил великие вольности в просвещении далеких и диких стран. Там, где еще сохранялись языческие храмы, велено было не разрушать их,
242
а лишь очищать от идолов и окроплять святою водою, .чтобы дикари молились там же, где прежде, но только в духе просвещения. Собор Святого Петра, объяснял Грегор, целиком построен, как всем известно, из кирпичей цирка мерзостного императора Калигулы и, стало быть, состоит сплошь из стыда, и срама, освящен же он токмо гробницей первоапостола и духом, коим проникнуты возносимые там молитвы. Все дело в духе. Если прежде, принося жертвы демонам, дикари учиняли закланья быков, то пусть они и теперь закалывают их и съедают, но только во славу единого бога.
Какие только вопросы перед ним не вставали! И на все он отвечал достопамятным образом. Его спрашивали, вправе ли больные, не откупаясь подаяниями, потреблять мясо во время поста. Вправе, гласил ответ: иногда необходимость бывает важнее закона… Его спрашивали, дозволено ли внебрачному сыну стать епископом. Да, отвечал он, дозволено. Хотя, как известно всякому, кто изучал legem, каноническое право и запрещает это, однако, если незаконнорожденный — человек праведный, благочестивый, и к тому же обладает цепкой рукой, и если обстоятельства этого требуют, а избиратели единодушны, то такое исключение пойдет лишь на пользу правилу… Некий монах в Женеве пристрастился к хирургии и резал направо и налево. Одной крестьянке он вырезал зоб и предписал ей лежать в постели. А она вместо этого пошла работать и умерла. Вправе ли он теперь нести свою службу священника? Да, отвечал Грегор. Конечно, церковник, подвизающийся в таком ремесле, не заслуживает полного одобрения, однако он действовал не из корысти, а из человеколюбия, из усердия к своему искусству и отвращения к зобу; к тому же он не виноват, что его указания, свидетельствующие о должной осмотрительности во врачебных делах, не были соблюдены, А посему пусть он по-прежнему отправляет богослужение, предварительно наложив на себя небольшую епитимью… Много шуму наделал случай с обращенными в христианскую веру мусульманами из страны
243
Ханаан; которые простодушно пришли к купели вместе со своими четырьмя женами, каждый с четырьмя, да еще с их детьми. Могли ли они, во имя бога, стать, христианами? Этот вопрос стоил папе, как утверждал его камердинер, бессонной ночи. Но в конце концов Грегориуса осенила мысль, что Авраам и другие патриархи жили на глазах у Иеговы совершенно так же, как эти турки. Он встал с постели и продиктовал писцу ответ: «Даже в евангелии, не говоря уж о книгах Ветхого завета, нет ни одного слова, категорически запрещающего многоженство. Так как язычникам, по законам их культа, положено иметь многих жен, то, значит, и приняв христианскую веру, они вольны брать пример с патриархов. Было бы неумно без нужды осложнять обращение неизбежными человеческими раздорами, обязавши мусульман взять с собою в новую жизнь лишь по одной из жен, а остальных, вместе с их невинными чадами, толкнуть назад, во мрак заблужденья, отчего церковь лишилась бы многих душ. Пусть веропроповедники христианства и впредь руководствуются сим указанием. Дано в Риме, поутру, в Латеране. Грегориус, Р. М. m. p.»1
Сколько это вызвало толков! Они дошли даже до финикийцев и скифов. Если бы не его строгость к симонианцам, еретикам и непокорным оспаривателям примата, его обвинили бы в нерадивости. Впрочем, он дал еще один повод к таким нападкам, установив, что крещение, принятое однажды во имя Христово, навсегда сохраняет свою силу и что, стало быть, возвращающиеся в лоно церкви еретики не нуждаются в повторном крещении. Это вызвало великое недовольство у многих африканских и азиатских епископов. Он не принял послов из Карфагена, явившихся в Рим, чтобы обвинить папу в злоупотреблении властью, и даже пригрозил отлучением особенно упорствовавшему в этом вопросе примасу Африки. Дело, наверно, дошло бы до раскола, если бы Грегор,
244
словно Моисей перед фараоном, именно тогда не сотворил великого чуда, неложно доказавшего, что бог на его стороне. Одним прикосновением десницы он сочленил воедино цепи Петра, иерусалимскую и римскую, так что образовалась одна цепь из тридцати восьми звеньев. Отсюда и происходит праздник поклонения Петровым веригам, каковой не мог же завестись ни с того ни с сего и, следовательно, подтверждает подлинность описанного чуда.
Этим Грегор пресек или предотвратил немало разговоров о его нерадивости. И все же нашлись люди, утверждавшие, будто папа прощает столь непростительные грехи, как супружеская измена и блудодейство. Но то была ложь. Таким лжецам он назначал уже довольно тяжкие епитимьи, однако не слишком тяжкие: слишком тяжких он не любил и всегда им противился. Он сам прошел через самую жестокую епитимью и был превращен богом в чешуйчатое шерстистое крошечное существо, в питомца земли, но он неизменно внушал всем исповедателям и судьям церковным, что муки грешника, познавшего сладость раскаянья, надлежит облегчать мягкостью наказания. Рука закона мозолиста и тяжела, а плоть человеческая требует крепкой, но мягкой руки. Кто слишком ревностно преследует грешника, рискует сотворить не добро, а зло. Ибо если на человека наложить слишком суровую кару, он может сломиться, ожесточиться и снова от господа отступиться, испорченный дьяволом, каковому, раскаявшись в своем покаянии, он тем ретивее станет служить. Поэтому самая мудрая политика состоит в том, чтобы милость была важнее закона, ибо она создает в церковной жизни ту верную меру вещей, благодаря коей согрешивший обретает спасение, а праведник остается праведником, дабы мощно возрастала слава господня и римской церкви.
Кого бы не обрадовало такое ученье? Оно радовало всех кроме некоторых ригористов, но и этих сковывал великий авторитет папы. К тому же папа был очень хорош собою, красавец, какими, неизвестно отчего, часто бывают дети греха.
245
«Кого любят, тех и слушаются», — гласит поговорка. А его любили, любили даже в Персии и Фракии, потому-то его и слушались. За его удивительные ответы его прозвали «Оракул апостольский»; а за мягкость его — «Doctor mellifluus», что значит «Медоточащий наставник».
ПЕНКГАРТ
У его матери, его тетки и жены было только одно тело, и оно теперь состарилось, ослабело, поблекло, ибо все это время она пребывала в трудах и раскаянье и неизменно пила воду смирения. То, что возложил на нее, покидая родную страну и отправляясь на богомолье, ее в блуде прижитый сын, она, не щадя ни плоти своей, ни денег, с упованием в сердце выполняла из года в год, более двадцати лет подряд, а ведь когда они расстались, ей было уже тридцать восемь лет.
В ту пору он был еще весьма юн, а окажись он тогда в более зрелом возрасте, он, наверно, обошелся бы с нею мягче, особенно если бы предвидел, что Веримбальд, ее дальний родственник, ставший после его ухода герцогом Фландрии-Артуа, грубо воспользуется одиночеством Сибиллы, ее отрешением от земных благ, ее желанием пить воду смирения и скаредно сократит выводное вдовы, так что приют, построенный ею на большой дороге, у подножья замка, был очень беден и представлял собою лачугу, где она не имела даже отдельной постели. Спала она среди калек и больных, подобранных ею на большой дороге или постучавшихся в ее дверь, каковых — серый ангел — она укладывала в постель и кормила кашицей и сливками.
Здесь, на соломенном тюфяке, она и разрешилась второй своей дочерью, каковую, подобно первой, Герраде, можно было также назвать ее внучкой. При родах ей помогала некая женщина, сама уже на сносях, греховно зачавшая от одного бродячего скомороха, с которым и застал ее муж, а через три дня,
246
когда самой повитухе, изгнанной из дому навозными вилами, тоже пришло время родить, Сибилла поднялась, чтобы, в свою очередь, ей помочь, и приняла у нее мальчика. Гудула — так звали эту грешницу — осталась при ней и помогала ей ублажать хворых, омывать их раны, купать их и одевать. Подросши, ей стали помогать и дочери, обе в таких же серых платьях: сначала Геррада, белая и румяная, которая теперь именовалась Отультиция, так как при крещении ее нарекли слишком гордым именем, да и вообще окрестили лишь по ошибке, а затем и вторая, названная без крещенья Гумилитас, по-южному смугло-бледная, с иссиня-черными глазами, очень похожая на своего дедушку-дядю Вилигиса, а стало быть, также на своего отца и брата, отчего Сибилла обращалась с нею значительно строже, чем со Стультицией, внешность которой не напоминала об этом родстве.
Что же касается сына Гудулы и скомороха, то он при крещении получил имя Пенкгарт и носил его с честью, ибо, с детства сметливый, работящий, в приюте работник он был настоящий, на все руки мастер — и столяр, и свечник, и сапожник, и печник, к тому же пчеловод, огородник и такой плотник, что пристроил к домику множество новых сараев и навесов, чтобы хозяйка могла принять больше страждущих, отделить прокаженных и спать с дочерями отдельно. Мало того, Пенкгарт-бастард умудрился чудеснейшим образом украсить внутренние стены странноприимных покоев. Ибо сызмальства приохотился, впрочем, не так, чтобы уж очень сильно, не больше, чем ко всяким иным поделкам, рисовать где попало углем, аспидом и графитом, а вскоре и красками. Он растирал их и разводил водою, белком и медом и изображал ими зверей и людей, а также высшие существа, апостолов, ангелов, с превеликим сходством и в самых натуральных цветах. В этом он весьма преуспел, и когда семнадцати лет пристроил к приюту новые помещенья, — рослый парень, чернявый, с узким лицом и длинными, свисающими с висков, как бакенбарды, волосами,— он покрыл все
247
стены известковым раствором и с помощью кисточки намалевал на них акварельными красками поразительнейшие вещи: епископа в лучезарном венце, истекающего кровью под бичами воинов; Давида, с невозмутимым лицом приносящего домой, держа ее за вихор, голову Голиафа; господа нашего Иисуса Христа, принимающего крещение в реке Иордани и искушаемого хвостатым сатаной, возжелавшим, чтобы спаситель спрыгнул с церковной крыши. Покончив с этим, он снова принялся выращивать капусту и сапожничать и не обращал никакого внимания на то, что кавалеры и дамы из замка, превозмогая свое отвращение к гною болящих, то и дело приходят в приют, чтобы поглядеть на его, Пенкгарта, искусство. Герцог Веримбальд, однако, не приходил, потому что прослышал, будто военачальнику, под чьим наблюдением истязают святого епископа, Пенкгарт придал неумолимое сходство с ним, герцогом Фландрии-Артуа.
Сибиллу этим любопытным тоже не удавалось увидеть, хотя они и искали ее глазами, и неспроста, ибо Гримальдова дочь, которая никого не считала ровней себе, кроме своего столь же благородного, как она брата, даже в преклонных летах, даже во вретище, отличалась поистине царственной, хотя и поблекшей уже, красотой. Поблекли, собственно, ее щеки, да еще обозначились две отвесных морщинки между бровями, но ни годы, ни тяготевшие над нею смертные грехи, ни то, что она непрестанно склонялась над постелями хворых и над купальной лоханью, — ничто ее не согнуло. Она была так же стройна и величественна, как в тот памятный день, когда Григорс впервые приблизился к ней в соборе многострадального Брюжа, и по-прежнему гордой оставалась ее походка, ибо благородство тела удивительным образом утверждает себя вопреки тяготам изнуренной христианским покаяньем души. Насколько посеребрились или побелели ее волосы, не было видно из-за головной повязки, скрывавшей ее лоб. Но горькие слезы, в раскаянье пролитые Сибиллой, страшившейся своего, усугубленного смерт-
248
ного греха, не смогли и за столько лет погубить необычайную красоту ее точеного смуглого лица, с бледноватой щербинкой у самой повязки, эту обаятельную прелесть, которую я и не тщусь вторично описывать, потому что я не Пенкгарт и рисовать не умею, но которая, увы, для них всех, для брата и сестры, для сына и матери, была столь единственным взаимным соблазном.
Теперь, на старости лет, этой красой, пусть поблекшей, обладала, как думали, только Сибилла, несчастная грешница: ибо Вилигис погиб, а Григорс последовал примеру отца и, наверно, тоже погиб, хотя ей, матери, и не доставили его трупа! Но если прекрасный Вилигис принял смерть и сошел в могилу из-за своей нежности, то Григорс, ее второй супруг, конечно, пал жертвой своей гордой и юной мужественности, ибо мальчик, несомненно, переусердствовал в раскаянье, не берег себя и дал изрубить свое дивное тело, делившее с ней брачные радости, кривым кинжалом в Святой земле. Спас ли он этим душу свою от адского пламени? А Вилигис свою? Кто мог бы дать ей ответ на такие вопросы? Или хотя бы на вопрос, как обстоит дело с ее собственной душой, покрытой смертными грехами, словно гноящимися ранами, и есть ли у нее, даже если она не устанет пить воду смирения, хоть малейшая надежда узреть всевышнего? В часы, когда она не омывала больных, она много плакала и, не вставая с колен, со страхом молилась за всех троих, сокрушаясь об ужасном союзе, их связавшем.
И вот, когда ей было шестьдесят лет, она услыхала, что в Риме появился величайший папа по имени Грегориус, утешитель грешников и благой врачеватель душевных ран, не имеющий себе равных среди всех, кто владел апостольским ключом, наместник Христа, гораздо более склонный разрешать, чем вязать. Да и как могла она не услышать о нем? О нем слышал весь мир, весь orbis terrarum christianus1, и мне всегда кажется, будто он как раз к тому и стре-
249
мился, чтобы вместе с orbis’ом услыхала о нем и она. Уж не
затем ли он и стал таким великим папой, чтобы его слава дошла до всех, а
значит, и до нее? Ведь и столь хорошим герцогом он был потому, что желал им
быть только ради нее, которую сам же обманывал. Нужно только пожелать чего-то
сильнее, чем остальные, чтобы снискать славу у человечества.
Так, стало быть, в ней и созрело решение отправиться на
закате дней своих в Рим, к святому
папе, и поведать ему, на чье участие можно было рассчитывать, всю эту историю
крайней и хитросплетенной греховности, сосредоточившейся вокруг нее, чтобы добиться
от него хотя бы совета и утешения. Она сказала об этом Гудуле, своей помощнице.
— Гудула, — сказала она, — меня осенило — а молитвы укрепили
меня в моем намеренье — пойти к этому великому папе и открыть ему все
неслыханные обстоятельства моей жизни. Он, наверно, никогда еще не встречал такого
избытка греховности, и ему надлежит об этом узнать. Один только он способен
сравнить сей избыток с избытком божьего милосердия и определить, перекрывается
ли оно моими грехами, или же, будучи столь же избыточным, сможет уравновесить
их страшную тяжесть. Ничего наперед не скажешь. Возможно, что папа, воздевши
длани горе, предаст меня анафеме и препоручит огню геенны. Ну что ж, тогда все
кончено, и я буду это знать. Возможно, однако, что я обрету покой благодаря
этой исповеди — покой на земле и пусть хоть ничтожную толику блаженства в
загробной жизни — и для себя, и для тех, кого я люблю и любила.
Гудула слушала ее, качая головой и спрятав руки в рукавах серого платья.
— Я возьму с собой также Стультицию и Гумилитас, — продолжала Сибилла, — и покажу ему злосчастно-невинные плоды моего смертного греха, и, может быть, он разрешит христианское крещенье бедной Гумилитас — вопреки мужественному запрету ее отца Григорса. Ведь говорят, что папа Григорий щедр на крещенье и сподобил его даже многоженцев-мусульман со всеми их женами и чадами. Тебя же, согласно
250
созревшей во мне воле, я оставляю на это время главою приюта, чтобы ты распоряжалась здесь по своему усмотрению, покуда я не вернусь, то ли с клеймом проклятья, то ли спасенная.
— Милая госпожа, — отвечала Гудула,— лучше бы вы взяли меня с собой, чтобы и я повинилась перед его святейшеством в прелюбодеянии со скоморохом и чтобы папа взвесил этот старинный грех на весах милосердия божья.
— Ах, Гудула, — отвечала ей Сибилла, — папа улыбнулся бы, услыхав твою исповедь, и посмеялся бы над причиной, приведшей тебя к престолу Петра! Ведь эта история со скоморохом — сущий пустяк, к тому же, по-моему, она давно искуплена и твой сынок Пенкгарт — чудесный мальчик. Пусть он будет моим письмоносцем, когда я напишу письмо в Рим, Я теперь не княгиня, и мне уже не подобает писать папе самолично. Но я была княгиней и знаю порядки. Я напишу номенкулатору его святейшества, это, да будет тебе известно, его conseiller1 в делах милосердия, заступник сирот и вдов и всех притесненных, к которому и обращаются, когда нужно о чем-нибудь попросить папу. Я напишу ему, что являюсь средоточием невообразимо греховной истории. Старица, напишу я, принадлежит к высокому роду, но уже давно живет в покаянии и молит о том, чтобы ей милостиво дозволили упасть к ногам отца христианства и лично поведать ему все ужасы своей жизни; выслушать их очень страшно и очень тяжело; нужно быть человеком недюжинной твердости, чтобы выдержать мою исповедь и поверить, что ее может выдержать господь. Вот как я напишу, чтобы вызвать любопытство номенкулатора и папы. На что бы мы, женщины, и годились, если бы не умели проявить должную хитрость и при такой оказии? Словом, у меня письмо уже готово, мне нужно только перенести его на пергамент, а Пенкгарт отвезет его в Рим. Твоего же дела я коснусь как бы невзначай, когда папа согласится меня принять. С ним-то он наверняка справится, ибо,
251
право же, по сравненью с моим грехом все это смехотворно…
— Где же Пенкгарт? — сказала она Гудуле через несколько месяцев. — Хотя из-за великого моего нетерпенья время тянется для меня медленней, чем оно течет в действительности, но все-таки, по моим расчетам, твоему сыну как раз пора бы вернуться. Будь то с благоприятным ответом или с отказом, но возвратиться он должен. Мое нетерпенье, Гудула, уже готово перерасти в тревогу, не за себя, впрочем, а за него и за тебя. Ибо как посмотрю я тебе в глаза, если с ним что-либо стряслось по дороге и мы больше никогда о нем не услышим, если он, не дай бог, убит разбойниками или свалился в пропасть? Это было бы для меня страшнее, чем если бы он принес мне отказ.
— Не печальтесь, госпожа, и наберитесь терпенья, — утешала ее Гудула, пряча руки в рукавах серого платья. — Мой Пенкгарт не пропадет.
И правда, все дело было лишь в том, что в Риме Пенкгарт завел знакомство с некоторыми молодыми людьми, которые тоже рисовали и писали красками. Он подружился с ними, и они повели его к своему учителю, у которого растирали краски и брали уроки живописи, и тот, посмотрев рисунки Пенкгарта, похвалил его и дал ему кое-какие советы, из-за чего юноша, при всей своей честности, замешкался в городе, хотя у него в кармане уже лежало полученное от номенкулатора согласие папы. Он неохотно расстался с Римом, с новыми приятелями и их учителем и потому очень обрадовался, что Сибилла, когда он, извиняясь за промедление, вручил ей благоприятный ответ, попросила его снова, на этот раз вместе с нею, Стультицией и Гумилитас, отправиться в Рим, дабы помочь им в пути своим опытом. Он выполнил это ее порученье с великой осмотрительностью, ловкостью и заботой, и благополучно, не дав им нигде споткнуться о камень, провел мать и ее дочерей через уже знакомые ему дали и печали, через дебри и мирные нивы, в столицу столиц, к номенкулатору, и тот предоставил им кров и стол в женском монастыре Сергия и Вакха, вблизи Латеранского дворца, и назвал испо-
252
веднице день и час,— а он пришелся как раз на следующее утро, — когда ее выслушает папа, наедине, в отдаленнейшем из своих покоев.
АУДИЕНЦИЯ
Их ласково встретили монахини, а на следующий день перед назначенным часом, вскоре после заутрени, кубикуларий, или, иначе, спальник папы отвел паломниц из монастыря во дворец; в первом же зале он передал их протоскриниарию, который перепоручил их вестиарию, а затем их принял вицедоминус, препроводивший их к примицерию дефенсоров — так и продвигались они от зала к залу. Они прошли через много рук и миновали десять каменных зал, предшествовавших отдаленнейшему покою и охраняемых палатинскими алебардирами, дворянами-гвардейцами, привратниками и качалочниками в красных одеждах. В самом большом зале, где стоял трон, посетительниц сопровождали два почетных постельничих, которые в дверях передали их двум тайным постельничим. Затем паломницы вошли в седьмой зал, в Тайные Сени, и Стультиция с Гумилитас остались здесь под охраною двух, тайных, капелланов. Сибилла же последовала дальше, ведомая неким старцем, куропалатом, ибо Тайные Сени отнюдь еще не примыкали к отдаленнейшему кабинету! За ними шел еще один зал, а за ним еще один, причем оба служили только для того, чтобы создать лишнее расстояние, а за вторым небольшая, опять-таки с троном, зальца, служившая тоже только для расстояния. В ней, однако, имелась дубовая дверь с мраморным папским гербом наверху, справа и слева от которой стояли одетые в пурпур стражи. Куропалат кивнул им, и они распахнули обе створки. Старец отступил назад, а Сибилла прошла через дверь и оказалась в отдаленнейшем кабинете.
Отец христианства, на вид сорокадвухлетний человек (кстати сказать, я верно определил его возраст, ибо он правил уже пять лет), сидел в красно-золотом кресле за большим, обитым красной кожей, столом,
253
заполненным свитками бумаги и письменными принадлежностями. Он сидел боком к вошедшей, которая уже у дверей сделала первый реверанс, и сразу же повернул к ней голову в бархатной, с горностаевой оторочкой, скуфье, прикрывавшей затылок и кончики ушей — великолепном головном уборе папы! И еще мне очень нравится плотная, той же выделки, мантия, накинутая на плечи поверх белой далматики и выглядывавшая из-под расшитого крестами паллиума. Строги были черты безбородого, окаймленного скуфьею, лица избранника: скулы его вырисовывались настолько ясно и сильно, что казалось, будто он сжал челюсти, чтобы их выпятить, и как-то особенно строго, чуть выдаваясь вперед, покоилась его верхняя губа на нижней. Однако, увидев покаянницу, темные глаза его блеснули слезами, хотя и не утратили твердости взгляда, а ведь это редкостное и прекрасное умение — твердо глядеть сквозь слезы.
Она этого не заметила, потому что глаза ее были благочестиво потуплены, когда она приближалась к нему с тремя реверансами и, приблизившись, упала к его ногам. Движением руки, едва ли не слишком поспешным для его сана, он велел ей подняться, не дал ей поцеловать свою сафьяновую, с изображением креста, туфлю и вместо этого протянул ей перстень для поцелуя. Затем он указал на молитвенную, обитую красным бархатом скамеечку рядом со своим креслом; для рук имелась особая подпорка с подушками. С этого места Сибилла подняла глаза на наместника божия и благоговейно взглянула ему в лицо« Старая женщина! Она забыла, что, когда смотрят, нужно моргать глазами, забыла, что нужно шевелить веками, она не стала, поймите меня правильно, мигать ресницами, а от этого взгляд не застывает, а, наоборот, очень скоро расплывается, скользит по предмету и, уже не воспринимая его, убегает в неопределенную даль. И поэтому Сибилла закрыла глаза, слегка провела кончиками пальцев по лбу и затем опустила взор на свои руки, смиренно сложенные.
— Дщерь наша, почтенная женщина! — сдерживая голос, заговорил исповедатель,— вы проделали
254
долгое путешествие к нам из вашей далекой страны, владычицей которой вы, как нам известно, некогда были. Велико, видимо, ваше желание открыть нам свою душу и облегчить ее в нашем присутствии. Этот час настал. Папа слушает.
— Да, святой отец, — отвечала Сибилла, — этот час настал благодаря вашему милосердию, о котором, однако, я знаю, что оно кратковременно и позволит вам всего только меня выслушать, ибо, как будет обстоять дело с милосердием, и вашим, и божьим, когда вы меня выслушаете, — мне страшно и думать.
— Папа слушает, — повторил он, чуть приближая полуприкрытое скуфьей ухо к ее устам.
— Да поможет мне бог приступить к рассказу,— прошептала она. — Святой отец, согласно некоему повелению, я содержу приют для человеческого отребья с большой дороги, и верной помощницей в этом деле служит мне одна женщина по имени Гудула, великая грешница. Двадцать лет назад она совсем потеряла голову из-за одного бродячего скомороха и была застигнута на месте преступления мужем, который, в справедливом гневе, прогнал ее со двора каким-то крестьянским орудием. Тогда она пришла ко мне и, соединив свое покаянье с моим, попросила меня исхлопотать ей у вас отпущенье греха, и если я на это отваживаюсь, то лишь потому, что мне кажется, будто господь склонен ее простить. Ибо он благословил ее сыном от скомороха, Пенкгартом, чудесным юношей, лучшим, надо думать, чем если б он был от законного мужа. Это мастер на все руки; он пишет красками, и до того отменно, что я хочу спросить вас, святой отец, нельзя ли его пристроить при вашем дворе, чтобы он расписывал ваши покои и часовни богу во славу и вам в благодарность за отпущенье греха его матери.
— Женщина, — сказал Грегор и отстранил от нее свое ухо, — неужели вы затем проделали свое путешествие, чтобы явиться к нам с подобной безделицей? Ибо, судя по тому, что вы написали нашему номенкулатору, все, что произошло между этой женщиной и
255
скоморохом, сущая безделица по сравнению с грехами, которые выпали на вашу долю.
— Увы, это верно, святой отец, — согласилась она. — И я втайне боялась, что вы по ошибке похвалите меня за то, что заботу о собственном душеспасенье я несвоекорыстно оттесняю заботой о душеспасении грешной сестры и не только прошу за нее, прежде чем за себя, но еще и ходатайствую об устройстве ее искусного в ремеслах незаконного сына. Такое толкование моего поведения тоже возможно, но вы по праву его отвергли. Не из бескорыстия заговорила я сперва о Гудуле, нет, я начала с ее истории только затем, чтобы выиграть время, потому что никак не решусь приступить к своей собственной и смутить ваш слух ужасающей исповедью.
— Это ухо и это сердце не дрогнут, — отвечал он. — Говорите не обинуясь! Папа слушает.
И она, то ломая на подушке прекрасные худые руки, то запинаясь, то всхлипывая, шепотом рассказала ему все-все, всю эту необычайную историю, как я вам ее рассказал, за исключением двух семнадцатилетий,— на норманском острове и на камне, — о которых она ничего не знала. Она говорила о своем милом брате, о том, как они только друг в друге видели себе ровню, о рыцарственной приверженности к ней герцога Гримальда и о том, как ночью, когда старый рыцарь лежал бездыханный, вокруг башни жалобно кричали совы и потолок оглашался воем верного пса Ханегифа, а они, как злодеи, в кровавом упоении своим двуединством, все-таки сотворили черное дело. Как они продолжали грешить и как сестра с омерзением поняла, что понесла от брата. О господине Эйзенгрейне и суровой доброте его предписаний. Об уходе и гибели нежного Вилигиса. Об ее родах в приморском замке под опекой госпожи Эйзенгрейн и о том, как у нее отняли прекрасного младенца и положили его в бочонок, так что она едва успела хоть как-то снарядить сыночка в морское плавание, снабдив его дощечкой, на которой запечатлела историю его рождения, двумя хлебами, наполненными золотом, да несколькими свитками левантийских тканей. Она
256
говорила о пяти мечах, терзавших ей сердце, и о своей размолвке с богом, перед лицом которого она не захотела быть женщиной, вообще никакой женщиной, а потому опозорила всех женихов и ввергла всю страну в затяжное бедствие. Рассказала она и о давнишнем своем сновиденье: как ей приснилось, будто она родила дракона, который вспорол ей чрево и затем улетел, но только затем, чтобы вернуться и снова пробиться в ее лоно. И так оно и случилось: ибо внезапно младенец стал мужчиной или во всяком случае юношей-рыцарем с величайшими задатками мужественности и, служа как вассал герцогине, усмирил бесноватого жениха своей невероятно цепкой рукой. Как она, — святой отец, — прошептала она, — взяла себе в мужья этого возлюбленного, единственного, кого она могла и должна была любить, и блаженно прожила с ним три года, и родила ему дочь, белую и румяную, похожую на него и на мать. Как, благодаря дощечке, — рыдала она, — ей открылось ужасное тождество младенца и мужа, и душа ее содрогнулась от страха, но содрогнулась лицемерно; ибо поверхностно было притворство души, лукаво обворожившей ее сатанинским обманом, а в сокровенных глубинах сердца, где прячется истина, она, Сибилла, отнюдь не обманывалась, и страшное тождество стало ей ясно с первого же взгляда, и она бессознательно и вместе сознательно вышла замуж за собственного ребенка, потому что снова увидела в нем единственную ровню себе. Вот и все; она ни о чем не умолчала, ибо была бы недостойна внимания папы, если б она не поведала ему без утайки всех бередящих ей душу тревог. Пусть он теперь, побагровев от гнева и сжав кулаки, возденет руки горе и навеки ее проклянет. Лучше обречь себя адскому пламени, чем лживо скрыть от бога и от папы, что втайне она все знала и что душа ее притворялась, когда обнаружилась истина. Она умолкла. Наступило молчанье. И она сказала:
— Вы долго слышали мой голос, папа Грегориус. А теперь я снова услышу ваш.
257
И она услышала его снова, хотя и не в полную силу, ибо папа говорил приглушенно, как священник в исповедальне:
— Велик и крайне тяжек ваш грех, женщина, и вы откровенно признались в нем папе. Этой крайней откровенностью вы покарали себя суровее, чем когда, по предписанию вашего греховного супруга, мыли ноги недужным и нищим. Вы ждете, чтобы я воздел руки горе и предал вас анафеме. Но не говорил ли вам кто-нибудь, кто изучал богословие, что искреннее раскаянье равнозначно для бога искуплению любых грехов и что, как бы ни болела душа человека, он будет спасен, если его глаза хоть на час увлажнятся слезами чистосердечного раскаянья?
— Да, я это уже слыхала, — отвечала она,— и я рада услышать это снова от самого папы. Но отдельно от него, от моего ребенка и мужа, я не хочу и не могу быть спасенной. Не взыщите! Как обстоит дело с ним?
— Прежде всего, — сказал папа, — я должен спросить это у вас. Не слыхали ли вы, что с ним сталось, жив ли он, или умер?
— Нет, господин мой, с тех самых пор я ничего о нем не слыхала. А что же касается того, жив ли он, или умер, то полагаю, что умер, ибо, как истый мужчина, он, несомненно, взял на себя столь тяжкое покаянье, что перенапряг свои силы. Ведь он считал, что его грех ужаснее всего, с чем я не могу согласиться. Ибо если всей своей плотью и кровью он и состоял из греха, — из греха его родителей, то все-таки грешен он лишь постольку, поскольку в неведенье разделял с матерью брачное ложе. А я родила себе супруга от собственного брата.
— Мера греховности, — возразил он, — богом не установлена, тем более, что в глубине души, где уже невозможны никакие уловки, твой сын тоже отлично знал, что полюбил не кого иного, как свою мать.
— Отец христианства, как тяжко вы его обвиняете!
— Не слишком тяжко. Папа не будет к этому повесе снисходительнее, чем вы к себе. Юноша, отпра-
258
вившийся на поиски своей матери и завербовавший женщину, которая, при всей своей красоте, годилась ему в матери, обязан считаться с возможностью, что его женой окажется его мать. Это я говорю об его разуме. Что же касается его крови, то она почуяла тождество матери и жены задолго до того, как он узнал правду и лицемерно изобразил ужас и удивление.
— Это говорит папа. И все-таки я не могу этому поверить.
— Женщина, он сказал это нам самим.
— Что, что? Значит, вы его видели перед его смертью?
— Он жив.
— Не понимаю! Где, где же он?
— Недалеко отсюда. Вы смогли бы его узнать, если бы господь показал вам его?
— С первого взгляда, ваше святейшество!
— Еще один вопрос: вам было бы очень мучительно увидеть его снова или все-таки радость взяла бы верх?
— Она не только взяла бы верх, она была бы моим единственным, блаженнейшим чувством. Смилуйтесь, господин мой! Дайте мне поглядеть на него!
— Поглядите сначала на это.
И он извлек из-под лежавших на столе бумаг и протянул ей дощечку слоновой кости, в оправе, исписанную на манер грамоты. Она держала ее в руках.
— Что со мной? — промолвила она. — Это тот самый предмет, о котором я вам сказала и который я положила младенцу в бочонок семнадцать и еще семнадцать и еще три года и еще пять лет назад. Господи, господи, он опять у меня в руках — в третий раз! Он был у меня в руках, когда я писала на нем о происхождении своего ребенка, а затем снова в тот страшный час, когда я по совету злонравной служанки достала эту дощечку из тайника в покое моего мужа. Какой мукой было для моей грешной души догадаться, откуда взялась у меня эта грамота. Ребенок и муж, — душа хотела отделить одного от другого, отказываясь понять их тождество. Ей долго
259
хотелось верить, что ребенок дал мужу эту дощечку. Вам дал ее мой муж, дражайший папа?
— Она всегда была моей. С нею приплыл я сначала на морской остров, а затем в страну ваших отцов и моих. Милая, я должен задать твоей душе новую, но благостную задачу: осмыслить триединство ребенка, супруга и папы.
— У меня кружится голова.
— Поймите это, Сибилла. Мы доводимся вам сыном.
Она, улыбаясь, склонилась над подушкой, и по ее истощенным годами и покаяньем щекам полились слезы. И, улыбаясь сквозь слезы, она промолвила:
— Я давно это знаю.
— Что? — сказал он. —Значит, вы узнали меня в папской скуфье и через столько лет?
— С первого взгляда, ваше святейшество. Я всегда вас узна́ю.
— И, стало быть, вы просто притворялись перед нами, дерзкая женщина?
— Потому что вы вздумали притворяться передо мной…
— Мы чаяли потешить этим всевышнего.
— А я охотно вам помогала. И все же это не было пустым притворством. Ибо если даже все трое — одно лицо, то все-таки папа очень далек от ребенка и мужа. Я искренне исповедовалась избраннику бога.
— Мать! — воскликнул он.
— Отец! — воскликнула она. — Отец моих детей, вечно любимое мое чадо!
И они бросились друг другу в объятья и зарыдали вместе.
— Григорс, несчастный! — сказала она, прижимая его голову к своей. — Как жестоко должен был ты себя казнить, чтобы господь возвысил тебя над нами, грешными.
— Ни слова больше об этом, — отвечал он.— Правда, место мое было самым убогим и голым, но созвездия неба, погода и ветер разнообразно менялись, и к тому же господь, унизил меня до подобия сурка, а в таком состоянии легче сносить лишения.
260
Но ты, возлюбленная мать, неужели ты вовсе не удивилась, когда узнала в папе своего сына?
— Ах, Григорс,— возразила она,— эта история настолько необычайна, что здесь и самому удивительному дивиться уже не приходится. Но как должны мы хвалить премудрость всевышнего, который, удовлетворившись твоим унижением, возвысил тебя до папы! Ибо теперь в твоей власти прекратить этот ужас, все еще не изживший себя, и расторгнуть наш брак. Подумай только, что мы поныне обвенчаны во Христе!
— Достопочтеннейшая! — сказал он.— Препоручим это богу и предоставим ему решить, оставит или не оставит он в силе такое сатанинское учиненье, как наш брак. Мне вовсе не к лицу расторгать этот союз, возвращая нас к отношениям сына и матери. Ибо, если все как следует взвесить, было бы лучше, если б я не был и вашим сыном.
— Но кем же, дитя мое, доводимся мы друг другу?
— Братом и сестрой, — отвечал он, — в любви и в страдании, в раскаянии и в благостыне.
Она задумалась.
— Братом и сестрой. А где же душа Вилигиса?
Душа моего отца? Женщина, разве вы не слыхали, что нам удалось вымолить из ада некоего языческого императора? Так не бойтесь же за моего дорогого дядю, с которым я был бы рад встретиться еще в жизни и которого мы некогда встретим в раю.
— Слава, дитя мое, твоей первосвященнической власти! Ты был так молод, когда ушел от меня и запретил крестить вторую нашу дочь. Разрешишь ли ты крестить ее, созревши до папы?
— Наши дочери! — воскликнул он.
— Где они?
— Меня немного обидело, — отвечала она, — то, что ты до сих пор не спросил о них. Они в Тайных Сенях.
— Так далеко отсюда? Пусть их сейчас же приведут к нам!
Их привели. Стультиция и Гумилитас вошли в отдаленнейший покой, и им тоже было позволено поцеловать не туфлю, а только перстень.
261
— Милые племянницы! — сказал Грегориус. — Мы называем вас так потому, что мать ваша нашла в папе побочного родственника. Мы от души рады познакомиться с вами и с вашей столь несходной красотой! А Сибилле он сказал:
— Теперь ты видишь, почтительно любимая, что, хвала богу, сатана не всесилен и не зашел в своих ухищрениях так далеко, чтобы я вступил в брачный союз еще и с этими двумя и, пожалуй, прижил бы от них детей, отчего наше родство стало бы сущей пропастью. Все имеет свои границы. Мир конечен.
Они еще о многом говорили между собой, и как когда-то, только на сей раз при гораздо более счастливых обстоятельствах, Грегориус отдал кое-какие распоряжения, потому что он был мужчина и сверх того папа. Поначалу Сибилле вместе с племянницами надлежало задержаться в монастыре Сергия и Вакха, но с тем, чтобы вскоре переселиться в собственный монастырь, который построит для нее папа и которым, пользуясь великими почестями, она будет управлять как княгиня и аббатиса. В точности так оно и случилось, и Стультиция осталась при матери на правах вице-аббатисы, а Гумилитас, приняв христианское крещение, сочеталась браком с Пенкгартом, известным нам рисовальщиком, ибо они оба давно уже питали друг к другу приязнь. Пенкгарт, весьма преуспевший в художестве, занял в Риме высокое положение и получил возможность расписывать многие стены, отчасти благодаря своему дарованию, отчасти же потому, что был женат на племяннице папы. Хоть это и называется непотизмом[37], но если непотизм оправдан теми или иными заслугами, то против него нечего и возражать. Так жили они все себе на радость, и со временем каждый умер своею смертью, по мере того как она, по очереди, к ним приходила. Сибилла умерла первой, восьмидесяти лет: старше она не стала, наверно, потому, что раннее горе и суровые годы раскаянья сократили ей жизнь. Ее брат и сын, папа, пережил ее почти на целый человеческий век. Он достиг девяноста лет и все еще возвышался и вырастал
262
как пастырь народов; до конца жизни он изумлял orbis, этот оракул апостольский и doctor mellifluus. Остальные еще немного помешкали на земле, долее всех — дети Пенкгарта и Гумилитас, веселые люди, которые были рождены правомернейшим образом, для будущего, и так и жили. Но сколько ни жили, увяли и они, увяли, как листья лета, и удобрили почву, чтобы на ней копошились, цвели и увядали новые смертные. Мир конечен, и только слава божья вечна.
* * *
Клементий, который теперь привел свою повесть к развязке, благодарит вас за ваше внимание и с радостью принимает вашу благодарность за его труд. Но только пусть те, кому пришлась по вкусу эта история, не истолкуют ее превратно и не подумают, что грех не так уж и страшен. Да остерегутся они сказать себе: «Бесчинствуй ничтоже сумняся! Если уж тем все сошло с рук, то ты и подавно не погубишь душу свою» Это нашептывает дьявол. Попробуйте-ка сначала прожить семнадцать лет на камне, превратившись в сурка, и купать больных более двадцати лет подряд, и тогда вы увидите, шуточное ли это дело! Но, конечно, мудр тот, кто предчувствует избранника в грешнике, и мудр сам грешник, если он так поступает. Ибо предчувствие собственной избранности может облагородить грешника и настолько оплодотворить его греховность, что она высоко его вознесет. В награду за это предостережение и совет я прошу вас оказать мне милость и помянуть меня в своей молитве, дабы все мы некогда свиделись в раю с теми, о которых я рассказал.
Эта повесть, в главных ее чертах, основана на стихотворном эпосе «Грегориус» средневерхненемецкого поэта Гартмана фон Ауэ, чья «История о добром грешнике» восходит к французскому источнику («Vie de Saint-Grégoire»)[39].
ПРИЗНАНИЯ АВАНТЮРИСТА ФЕЛИКСА
КРУЛЯ
Роман
[СОДЕРЖАНИЕ
КНИГА I
КНИГА II
КНИГА III
КНИГА ПЕРВАЯ
Сейчас, когда я взялся за перо, чтобы на досуге и в полном уединении (я, кстати сказать, еще здоров, хотя и чувствую себя усталым, очень усталым, так что писать придется понемногу, с передышками), итак, когда я собрался четким, красивым почерком, который мне дан от бога, поверить долготерпеливой бумаге свою исповедь, меня вдруг взяло сомнение — достаточно ли я просвещенный и образованный человек, чтобы справиться с этой задачей. Но поелику я собираюсь рассказывать о своей собственной жизни, своих собственных страстях и заблуждениях, то материал, разумеется, мне знаком досконально, и сомневаюсь я лишь в своем умении с должным изяществом и тактом излагать события; хотя тут, по-моему, законченное образование играет меньшую роль, нежели прирожденные способности и светское воспитание. А таковое я получил, ибо происхожу, из, что называется, «хорошей», хотя и непутевой, бюргерской семьи. Я и моя сестра Олимпия довольно долгое время находились под присмотром гувернантки из Зеве, которой впоследствии пришлось покинуть наш дом по причине чисто женского соперничества, возникшего между ней и моей матерью. Дело касалось моего отца. Мой крестный Шиммельпристер, с которым меня связывали самые дружеские отношения, был весьма уважаемым художником, и в нашем городишке его неизменно величали господином
267
профессором, хотя этот почетный титул вряд ли был официально ему присвоен. Отец же мой, несмотря на свою тучность, отличался удивительной легкостью движений и очень заботился об изысканной ясности своей речи! В его жилах текла унаследованная от бабки французская кровь; годы учения он провел во Франции и уверял, что знает Париж как свои пять пальцев. Ему нравилось вставлять в разговор словечки вроде: «c’est ça», «épatant» или «parfaitement»1, — произношение у него было великолепное; любил он и обороты вроде «О, я это гутирую» — и до конца своих дней оставался любимцем женщин. Но возвращаюсь к моим врожденным стилистическим способностям; на них я полагался всю свою жизнь и думаю, что могу положиться и сейчас, при этом первом своем выступлении на литературном поприще. Вообще же свои заметки я буду писать с полнейшим чистосердечием, не страшась упреков ни в тщеславии, ни даже в бесстыдстве, ибо что проку в воспоминаниях, ежели они не откровенны!
Я родился в Прирейнской области, в благословенном краю, где мягок не только климат, но и рельеф местности не знает резких переходов, в краю густонаселенном, обильном веселыми городами и деревушками и едва ли не самом очаровательном на земле. Здесь, в сиянье полуденного солнца, защищенные рейнскими горами от суровых ветров, цветут и зеленеют селенья, при одном имени которых радостно бьется сердце бражника: Рауэнталь, Иоганнисберг, Рюдесгейм; здесь же приютился и почтенный городок, где за несколько лет до славного основания Германской империи я впервые увидел свет. Расположенный чуть западнее колена, образуемого Рейном у города Майнца, и знаменитый своими шипучими винами, он насчитывает около четырех тысяч жителей и является главным местом стоянки пароходов, снующих вверх и вниз по течению.
268
До веселого Майнца оттуда рукой подать, так же как и до прославленных курортов Висбадена, Гомбурга, Лангеншвальбаха, а до Шлангенбада и вовсе не больше получаса езды по узкоколейке. В погожие дни мои родители, сестра и я часто совершали поездки в экипаже, на пароходе или по железной дороге в направлении всех стран света, ибо красоты природы привлекали нас не меньше, чем достопримечательности, созданные рукой человека. Как сейчас вижу отца: в клетчатом просторном костюме он сидит вместе с нами под навесом какой-нибудь харчевни, довольно далеко от стола — брюшко мешало ему придвинуться ближе — и с наслаждением уписывает крабов, запивая их золотистым вином. Крестный Шиммельпристер тоже частенько ездил с нами и сквозь круглые очки зорко вглядывался в местность и в людей, равно принимая великое и малое в свою артистическую душу.
Мой бедный отец был владельцем фирмы «Энгельберт Круль», выпускавшей шипучее вино марки «Лорелея экстра кюве», ныне уже позабытой. Погреба фирмы находились на берегу Рейна, неподалеку от причала. Мальчиком я нередко бродил под их сумрачными сводами, погруженный в задумчивость, прохаживался меж высоких стеллажей и рассматривал полчища бутылок, которые в наклонном положении громоздились одна над другой до самого верху. «Вот вы лежите, — думал я (хотя, конечно, в ту пору еще не облекал свои мысли в столь точные слова), — лежите, окутанные сумраком подземелья, а в вашей утробе потихоньку зреет колючий золотистый сок, который со временем участит биение многих сердец, заставит просветлеть не одну пару глаз. Сейчас вы нагие, невзрачные, но придет день — и, великолепно разубранные, вы покинете подземный мир, чтобы на празднике, на свадьбе, в отдельном кабинете задорно выстрелить пробкой в потолок и вселить в захмелевших людей радостное безрассудство». Мальчиком я и вправду говорил что-то в этом роде и не без основания: фирма «Энгельберт Круль» придавала огромнейшее значение внешнему виду своих бутылок, то
269
есть тому, что на языке виноделов называется «прической». Пробки, окрученные серебряной проволокой и позолоченными веревочками, были залиты красным лаком; мало того, сбоку на золотом шнуре болталась торжественная круглая печать, как на папских буллах или старинных имперских грамотах; горлышко щедро обертывалось станиолем, а ниже красовалась золотообрезанная этикетка, эскиз которой, по заказу фирмы, сделал крестный Шиммельпристер. На ней, кроме многочисленных гербов и звезд, вензеля моего отца и вытисненного золотыми буквами названия «Лорелея экстра кюве», была еще изображена женщина, всю одежду которой составляли браслеты и ожерелья. Закинув ногу на ногу, она сидела на утесе, держа гребень в высоко поднятой руке, и чесала свои золотые волосы. Надо сказать, что качество вина не вполне соответствовало этому блистательном оформлению.
— Круль, — говаривал отцу крестный Шиммельпристер, — я не хочу вас огорчать, но полиции следовало бы запретить ваше вино: неделю назад я соблазнился, раскупорил полбутылки, и вот мой организм еще и по сей час не оправился от этой авантюры. Скажите на милость, какую дрянь вы туда добавляете — керосин или сивуху? Короче говоря, вы отравитель. Бойтесь правосудия!
Мой бедный отец конфузился: он был слабый человек и пасовал перед резкой критикой.
— Вам легко насмешничать, Шиммельпристер, — отвечал он, по привычке поглаживая свое брюшко кончиками пальцев, — а мне надо выпускать дешевый товар. Очень уж у нас сильно предубеждение против отечественной продукции. Одним словом, я потчую людей тем, чего они от меня ждут. Вдобавок меня еще и конкуренция душит, я уж и так едва держусь. — Вот что обычно отвечал мой отец.
Мы жили в одной из тех очаровательных вилл, что во множестве лепятся по отлогим берегам Рейна и так красят прирейнский ландшафт. Сад наш, спускавшийся к реке, был щедро изукрашен гномами, грибами и прочими искусно сделанными из фаянса
270
фигурками; среди них на постаменте покоился большой блестящий шар, уморительно искажавший лица. Кроме того, в саду имелись эолова арфа, несколько гротов и фонтан, струи которого мудрено сплетались в воздухе и ниспадали в бассейн, где резвились серебристые рыбки.
Внутри наш дом, в согласии со вкусом отца, был убран изящно и весело. Уютные ниши и эркеры так и манили к отдыху; в одном из них даже стояла настоящая прялка. На бесчисленных этажерках и плюшевых столиках каких только не было безделушек: стаканчики, раковины, полированные шкатулки, флакончики с ароматическими веществами; по диванам и кушеткам были разбросаны подушечки, пестро расшитые шелками, — отец любил понежиться; карнизы на окнах имели форму алебард; в дверных проемах висели легкие занавеси из тростника и разноцветных бисерных нитей — те, что на первый взгляд кажутся сплошной стеной, но при первом прикосновении расступаются с чуть слышным стуком и шелестом, чтобы тотчас вновь сомкнуться за вошедшим. В прихожей над входными дверями у нас имелось хитроумное устройство: покуда дверь, сдерживаемая особым пневматическим приспособлением, медленно закрывалась, оно тоненько выводило начало песни «Жизни возрадуйтесь!»
В этом доме в дождливый и теплый майский день — кстати сказать, в воскресенье — я появился на свет. Отныне я постараюсь не забегать вперед, а неукоснительно придерживаться хронологии. Рождение мое, если верить рассказам домашних, протекало медленно и даже не без искусственного вмешательства, к которому прибег тогдашний наш врач, доктор Мекум, главным образом потому, что я — если только я вправе так обозначать то далекое и вовсе чужое мне существо — вел себя очень бездеятельно и безучастно, почти не разделяя усилий матери и не выказывая ни малейшей охоты явиться в тот мир, который
271
впоследствии мне суждено было столь страстно полюбить. Тем не менее я оказался здоровым, крепким ребенком, которому безусловно шло на пользу молоко заботливо выбранной кормилицы. Раздумывая над странной своей вялостью и явной неохотой сменить мрак материнского лона на дневной свет, я пришел к выводу, что все это стоит в прямой связи с моей удивительной сонливостью, я бы даже сказал — с даром сна, проявившимся у меня еще в младенчестве. Говорят, что ребенком я не был ни крикуном, ни непоседой, а, напротив, к вящему удовольствию моих нянек, очень любил поспать или, на худой конец, подремать.
И хотя впоследствии меня так влекло в мир, к людям, что я являлся им даже под различными именами, ночь и сон всегда были как бы второй моей жизнью; я легко засыпал, даже не будучи усталым, впадал в глубокое темное забытье и когда просыпался после десяти — двенадцати, даже четырнадцатичасового сна, то чувствовал себя куда более бодрым и счастливым, чем после дневных впечатлений и радостей.
Это необычное упоенье сном, казалось, стоит в прямом противоречии с тем неутомимым влечением к жизни и любви, которое владело мной и о котором я еще буду говорить в свое время. Как сказано, я не раз возвращался мыслью к этому странному явлению и временами даже ясно осознавал, что эти две мои особенности не только не противоречат одна другой, но, напротив, неразрывно между собою связаны. Теперь, когда я — всего только сорокалетний человек, но состарившийся, утомленный и утративший жадное любопытство к людям — живу в полном уединении, «дар сна» начинает изменять мне: Сон мой стал кратким, неглубоким, чутким, тогда как в свое время в тюрьме; где для сна была пропасть времени, я спал даже крепче, чем на мягких постелях Палас-отеля. Но я опять согрешил и забежал вперед. Мои домочадцы часто твердили мне, что ребенок, родившийся в воскресенье, — счастливец. И хотя я рос в семье, чуждой всякого суеверия, но этому об-
272.
стоятельству, в сопоставлении с именем Феликс (меня нарекли так в честь крестного Шиммельпристера) и моей располагающей внешности[40], я почему-то приписывал особое таинственное значение. Да, вера в свое счастье, в то, что я любимец богов, постоянно жила во мне и, несмотря ни на что, меня не обманула. Странная особенность моей жизни — все страдания и муки, выпавшие мне на долю, я воспринимал как нечто случайное, мне не предопределенное, и сквозь них для меня неизменно мерцало солнечным светом мое истинное предназначение… Я отклонился в сторону, но сейчас уже перейду к воссозданию (хотя бы в общих чертах) картины моего детства.
Отъявленный фантазер, я постоянно веселил своих домашних всевозможными выдумками и затеями. Мне помнится, правда, может быть, по рассказам взрослых, что совсем еще малышом, в платьице, я любил воображать себя кайзером и часами с необыкновенным упорством играл в эту игру. Сидя в колясочке, которую моя няня возила по саду или по обширной прихожей нашего дома, я, почему — неизвестно, силился как можно больше опустить нижнюю губу, отчего верхняя растягивалась чуть ли не до ушей, и так часто моргал глазами, что слезы набегали на них, впрочем, не только от быстрого движения век, но и от внутренней моей растроганности. Притихший, потрясенный сознанием своего старческого величия, я сидел в колясочке, а нянька рассказывала всем встречным и поперечным о том, кого она катает, так как пренебрежение моей ребячьей выдумкой меня бы страшно огорчило. «Вот везу гулять кайзера», — объявляла нянька и прикладывала ладонь к виску, — так по ее представлению отдавали честь, — в ответ на что прохожие отвешивали мне поклоны. Крестный Шиммельпристер любил мне подыгрывать, чем еще больше укреплял меня в сознании моего величия. «Смотрите-ка, вот едет наш седовласый герой», — восклицал он при встрече и склонялся передо мной чуть ли не до земли. Затем он становился на моем пути следования, изображая народ, кричал «виват», подбрасывал в воздух
273
шляпу, трость, даже очки и смеялся до колик в животе, видя, как от избытка растроганности слезы скатываются у меня по растянутой верхней губе.
Этой игрой я увлекался и в более поздние годы, когда уже не мог рассчитывать на поддержку взрослых. Впрочем, я в ней и не нуждался, а скорее даже радовался самовольной независимости моей фантазии. Так, например, я просыпался утром с твердым намерением весь день быть восемнадцатилетним принцем по имени Карл и твердо держался этого решения не только до вечера, но много дней подряд.
Неоценимое преимущество этой игры состояло в том, что ее можно было ни на мгновение не прерывать, даже во время невыносимо скучного сиденья в классе. Я рядился в снисходительное величие, вел остроумные и любезные разговоры с гувернером или адъютантом, которых выдумывал себе в помощь, и был неописуемо счастлив и горд тайной своего возвышенного августейшего существования. Какой дивный дар фантазии, какие наслаждения она нам доставляет! Глупыми и жалкими казались мне другие мальчишки, явно лишенные этого дара, а следовательно, и скрытых радостей, которые я без каких бы то ни было внешних приготовлений, одним только сосредоточением воли извлекал из него! Впрочем, обыкновенным мальчишкам, со щетинистой шевелюрой и красными руками, было бы уж очень не к лицу воображать себя принцами. У меня же были редко встречающиеся у мужчин белокурые шелковистые волосы, которые в сочетании с серо-голубыми глазами так странно контрастировали с золотистой смуглостью моей кожи, что на первый взгляд никто не мог даже определить — блондин я или брюнет, и меня с одинаковым успехом принимали то за того, то за другого. Я очень рано начал следить за своими руками, не слишком узкими, но приятной формы, которые, кстати сказать, не потели, оставаясь всегда умеренно теплыми и сухими; ногти мои тоже радовали глаз своим изяществом. В голосе у меня, еще до того, как он установился, было что-то ласкавшее
274
слух, и наедине с собою, во время долгих и занимательных разговоров с невидимым гувернером на изобретенном мною тарабарском наречии, я с удовольствием прислушивался к его звуку. Подобные внешние преимущества — вещь довольно невесомая; определению здесь поддается разве что эффект, ими производимый, — говорить же об этом трудно, даже человеку, свободно владеющему словом. Так или иначе, но мне было очевидно, что я создан из более благородного материала, чем мои сверстники. Говоря это, я не страшусь упрека в самовлюбленности. Меня такой упрек задеть не может, я был бы лицемером или дураком, если бы оценивал себя как дюжинный товар. Поставив себе за правило неукоснительно держаться истины, я повторяю, что был создан из благороднейшего материала.
Подрастая в одиночестве (сестра Олимпия была на несколько лет старше меня), я питал склонность к необычным, мудреным занятиям, примеры которых сейчас приведу. Во-первых, мне вздумалось на самом себе изучать и наблюдать силу человеческой воли, таинственную силу, способную к проявлениям почти сверхъестественным. Всем известно, что зрачок наш сужается и расширяется в зависимости от силы света, попадающего в него. И вот я вбил себе в голову подчинить это непроизвольное движение своенравных мускулов моей воле. Я становился перед зеркалом и, стараясь выключить любую другую мысль, сосредоточивал всю свою душевную силу на приказе зрачкам — сузиться или расшириться по моему усмотрению. И смею заверить, что мои настойчивые упражнения увенчались полным успехом. Поначалу, несмотря на внутреннее напряжение — такое, что пот выступал у меня на лбу и кровь отливала от лица, — зрачки мои только неравномерно мерцали; но со временем я действительно научился приказывать им суживаться до крохотных точек или расширяться до больших блестящих черных кругов. Удовлетворение, которое я испытывал от такого успеха, уже граничило со страхом; я содрогался, думая о тайнах человеческой природы.
275
Другая фантазия, очень меня занимавшая и поныне еще не утратившая для меня известного смысла и обаяния, состояла в следующем. «Что желательнее, — спрашивал я себя, — видеть мир малым или великим?»
Мысль моя шла так: для великих людей — полководцев, крупных государственных умов, прирожденных завоевателей и властелинов, мощно возвышающихся над толпой, мир, должно быть, выглядит малым, как шахматная доска, иначе у них недостало бы жестокости и спокойствия духа на то, чтобы дерзко и беззаботно подчинять своим планам счастье и горе отдельных людей. Но, с другой стороны, подобная ограниченность кругозора, несомненно, может сделать человека никчемным, ибо тому, кто рано научается пренебрежению и ни во что не ставит мир и человечество, грозит опасность увязнуть в безразличии, вялости и воздействию на людские души хмуро предпочесть собственный покой. Я уж не говорю о том, что бесчувственность такого человека, его безучастность и неподвижность, на каждом шагу оскорбляя людское самолюбие, отрежут ему путь даже к случайному жизненному успеху. «Не разумнее ли, не лучше ли, — спрашивал я себя, — видеть в мире и в человеке нечто прекрасное, важное, достойное любых усилий, самого трудного служения, чтобы, в свою очередь, добиться известного почета и доброй славы? Но против такого уважительного виденья мира говорит то, что оно с легкостью может привести к недооценке себя, к преувеличенной застенчивости, и тогда жизнь с насмешливой улыбкой пронесется мимо робкого и почтительного юнца в компании более мужественных любовников. Но, с другой стороны, благоговейная вера в жизнь дает человеку значительные преимущества. Ибо тот, кто все и всех принимает всерьез, не только будет приятен людям и, таким образом, добьется известного успеха в жизни, но самые его мысли и поступки неизбежно станут серьезными, страстными, ответственными, что, конечно, возвысит его в глазах людей, внушит им уважение и будет способствовать его значи-
276
тельному продвижению на жизненном поприще». Так я размышлял, взвешивая все «за» и «против». Сам я непроизвольно, просто в соответствии со своей натурой, пользовался только второй возможностью; для меня мир, великий и бесконечно привлекательный, всегда был дарителем несказанно сладостных блаженств, достойным любых усилий, заслуживающим самых страстных домогательств.
Такие философские эксперименты внутренне отобщали меня от моих сверстников и школьных товарищей, которые предавались развлечениям, более принятым в нашем городишке; с другой стороны, всех этих мальчиков, сыновей помещиков-виноделов и чиновников, родители предостерегали против меня и, как вскоре выяснилось, даже запрещали им со мной водиться. Один из них, которого я попробовал пригласить к себе, сказал мне прямо в лицо, что дружить со мной и бывать у меня ему запрещено, так как наш дом недостаточно благоприличен. Меня это больно задело, и дружба с ним, в общем ничем не привлекательная, стала казаться мне весьма и весьма заманчивой. Но, по правде говоря, мнение, сложившееся в городке о нашем доме, было небезосновательно.
Я уже в самом начале упомянул о расстройстве, внесенном в нашу семейную жизнь гувернанткой из Веве. Отец действительно приволокнулся за нею и достиг вожделенной цели, отчего между моими родителями возникла размолвка, в результате которой отец на несколько месяцев уехал в Майнц — это случалось уже не впервые — передохнуть и пожить холостяцкой жизнью. Вообще же моя мать, женщина мало интересная и не особенно умная, была неправа, столь сурово обходясь с отцом, ибо сама, так же как и моя сестра Олимпия (толстая и весьма плотоядная особа, впоследствии не без успеха подвизавшаяся на опереточной сцене), в нравственном отношении стояла 277
ничуть не выше его; только легкомыслию отца было присуще известное обаяние, тогда как в их упорной жажде наслаждений оно начисто отсутствовало.
Мать и дочь связывала на редкость интимная дружба; однажды, например, мне довелось видеть, как старшая сантиметром измеряла объем бедер младшей, сравнивая их со своими; я потом несколько часов кряду ломал себе голову над тем, что бы это могло значить. В другой раз, когда я уже смутно разбирался во всех таких делах, хотя ничего еще не мог определить словами, я стал тайным свидетелем того, как они обе донимали игривыми приставаниями работавшего у нас маляра — темноглазого паренька в белой блузе — и наконец до того его разгорячили, что он, не смыв зеленых усов, которые эти дамы ему намалевали масляной краской, как одержимый гнался за ними до самого амбара, где они укрылись с отчаянным визгом.
Так как мои родители смертельно скучали друг с другом, то к ним часто наезжали гости из Майнца и Висбадена, и тогда в доме становилось шумно и парадно. Общество у нас собиралось самое разношерстное: несколько молодых фабрикантов, актеры и актрисы, один армейский лейтенант болезненного вида, позднее сватавшийся к моей сестре Олимпии, еврей-банкир с супругой, которая удручающим образом выпирала из своего расшитого стеклярусом платья, журналист в бархатной жилетке и с прядью, упадающей на лоб, всякий раз приводивший с собой новую подругу жизни, и множество других. Обычно гости съезжались к обеду, подававшемуся в семь часов; тогда шум, звуки рояля, шарканье танцующих, смех и взвизгивания уже не смолкали всю ночь напролет. Но высшей своей точки буря веселья достигала на масленицу и во время сбора винограда. В такие дни мой отец, очень искусный и сведущий в пиротехнике, собственноручно пускал великолепные фейерверки; фаянсовые гномы, залитые магическим светом, выступали из-за кустов, а прихотливые маски, в которые рядились собравшиеся, способствовали еще большей распущенности. Я в то время был учеником реаль-
278
ного училища, и когда утром, часов в семь или в половине восьмого, только что умывшись холодной водой, я шел в столовую завтракать, гости, расслабленные, помятые, щурясь от дневного света, еще сидели за кофе и ликерами; меня приветствовали громкими криками и усаживали за стол.
Подростком я уже присутствовал на обедах и увеселениях, которые за ними следовали, наравне с моей сестрой Олимпией. У нас в доме вообще был хороший стол, и отец за обедом всегда пил шампанское пополам с содовой водой. Но при гостях подавалось бесконечное множество яств, великолепно приготовленных первоклассным поваром из Висбадена с помощью нашей кухарки; пикантные, возбуждающие аппетит кушанья умело чередовались с освежающими, «Лорелея экстра кюве» лилось рекой, но кроме него пили и хорошие вина, например «Бернкаслер доктор», букет которого был мне особенно приятен. В более зрелые годы я отведал еще немало превосходных вин и научился с небрежным видом заказывать «Гран вэн Шато Марго» и «Гран крю Шато Мутон Ротшильд».
Я люблю вспоминать, как отец со своей седой остроконечной бородкой, в неизменном белом жилете, плотно облегавшем его брюшко, председательствовал за столом. У него был слабый голос и привычка со сконфуженным выражением опускать глаза, но довольство явно читалось на его красном лоснящемся лице. «C’est ça, — говорил он, — épatant, parfaitement», — и изящными движениями пальцев с чуть загнутыми кверху кончиками орудовал бокалами, салфеткой, ножами и вилками. Мать и сестра в это время предавались бессмысленному кокетству и хикали, прячась за своими веерами.
После обеда, когда сигарный дым уже плавал вокруг газовой люстры, начинались танцы и игра в фанты. Поздним вечером меня отсылали в постель, но так как музыка и шум все равно не давали мне уснуть, то я обычно вставал, набрасывал на себя красное шерстяное одеяло и, живописно в него драпируясь, к великому удовольствию женщин, возвращался в столовую. Всевозможные вина, закуски,
279
жженка, лимонады, селедочные паштеты и винные желе сменяли друг друга до самого утреннего кофе. Танцы становились непристойными, фанты служили предлогом для поцелуев и других интимных прикосновений. Женщины в низко вырезанных платьях со смехом перегибались через спинки стульев, волнуя кавалеров выставленными напоказ прелестями, но высшей точки все это достигало, когда кто-нибудь внезапно гасил свет: тут уж кутерьма поднималась невообразимая.
Эти-то веселые сборища, или, вернее, связанные с ними расходы, и вызывали в городке подозрительное отношение к нашему дому; поговаривали (увы, с полным на то основанием), что дела моего бедного отца из рук вон плохи и что дорогостоящие фейерверки и обеды, безусловно, вконец разорят его. Такое недоверие общества, которое я при моей чуткости довольно рано обнаружил, в соединении с некоторыми странностями моего характера, обрекавшими меня на одиночество, причиняло мне немало горя. Тем больше радости доставило мне одно приключение, которое я и сейчас с удовольствием припоминаю во всех его подробностях.
Мне было восемь лет, когда вся наша семья выехала на лето в близлежащий знаменитый курорт Лангеншвальбах. Отец лечился там грязевыми ваннами от приступов подагры, время от времени ему досаждавших, а мать и сестра обращали на себя внимание публики преувеличенно модными шляпами.
Там, как, впрочем, и везде, компания, группировавшаяся вокруг нас, приносила нам мало чести. Жители ближних мест нас избегали; аристократические иностранцы скупились на завязывание знакомства и держались особняком, как и положено аристократам. Те же, что разделяли с нами свой досуг, никак не могли считаться сливками общества. И все-таки мне было хорошо в Лангеншвальбахе; я всегда любил пребывание на курортах и впоследствии неоднократно избирал их ареной своей деятельности. Спокойствие, беззаботная и размеренная жизнь, встречи с холеными аристократами на спортивных площадках и
280
в парках — все это мне по душе. Но в то лето ничто не привлекало меня больше, чем ежедневные концерты отличного курортного оркестра. Я всю жизнь был фанатическим поклонником музыки — этого обворожительного искусства, хотя сам и не выучился играть ни на одном инструменте. Уже тогда, совсем еще ребенок, я не в силах был уйти из павильона, где одетые в изящную форму оркестранты под управлением маленького капельмейстера с цыганским лицом исполняли всевозможные попурри и отрывки из опер. Часами сидел я на ступеньках этого изящного храма музыки, завороженный прелестным хороводом упорядоченных звуков, и в то же время следил горящими глазами за движениями исполнителей, так по-разному обходившихся со своими инструментами. Больше всего меня поражали скрипачи. И дома, вернее — в гостинице, я развлекал своих тем, что при помощи двух палок — подлиннее и покороче — старался как можно более похоже воспроизвести повадки первой скрипки: зыбкие движения левой руки, заставляющей инструмент издавать прочувствованные звуки, мягкий переход, стремительная беглость пальцев при виртуозных пассажах и каденциях, точный и ловкий прогиб правого запястья при ведении смычка, самоуглубленное, напряженно вдумчивое выражение лица, щекой прижимающегося к деке, — все это я проделывал с таким совершенством, что мои домашние, и в первую очередь отец, покатывались со смеху. И вот однажды, будучи в отличнейшем расположении духа, вызванном благотворным действием вина, отец вдруг отзывает в сторонку длинноволосого и почти безгласного капельмейстера и уговаривается с ним разыграть маленькую комедию. По дешевке приобретается небольшая скрипка, смычок тщательно смазывается вазелином. В обычное время на мой внешний вид никто особого внимания не обращал, но теперь мне купили матросский костюм, шелковые чулки и блестящие, как зеркало, лакированные туфли. Однажды в воскресенье, в часы гулянья, излюбленные курортной публикой, я стоял во всех своих обновках рядом с маленьким капельмейстером у рампы нашего
281
храма музыки, участвуя в исполнении венгерского танца. Это участие выражалось в том, что я своей скрипкой и навазелиненным смычком проделывал в точности то же самое, что и двумя палками. Успех я имел неслыханный. Публика — избранная и та, что попроще, — валом валила со всех сторон и толпилась у павильона. Все глазели на вундеркинда. Бледность и самозабвенное выражение моего лица, кудрявая прядь, то и дело спадавшая мне на глаза, детские руки, выглядывавшие из синих рукавов, широких у плеча и сужающихся к запястью, — одним словом, вся моя трогательная и необычная фигурка умиляла сердца. Когда я кончил, широким и энергичным жестом коснувшись всех струн зараз, бурная овация, мешающаяся с криками «браво», потрясла здание. Меня стаскивают на землю — маленький капельмейстер уже успел припрятать мою скрипку и смычок. На меня сыплются дождем похвалы, ласки, нежные прозвища. Аристократические дамы и господа гладят мне волосы, щеки, руки, называют меня чертенком и ангельчиком. Русская княгиня, старуха с толстыми седыми буклями, затянутая в бледно-лиловые шелка, протягивает унизанные кольцами руки, сжимает мою голову и целует меня в покрытый испариной лоб. Затем она судорожно отстегивает сверкающую бриллиантами брошь в форме лиры и, не переставая что-то бормотать по-французски, прикалывает ее к моей курточке. Подходят мои родители; отец называет свое имя и спешит оправдать несовершенство моей игры моим еще совсем детским возрастом. Меня тащат в кондитерскую. За тремя столиками наперебой потчуют шоколадом, закармливают пирожными. Маленькие аристократы, красивые дети богача графа Зибенклингена, на которых я частенько посматривал с тоской, получая в ответ лишь удивленные, холодные взгляды, учтиво просят меня сыграть с ними партию в крокет, и, покуда наши родители вместе пьют кофе, я, разгоряченный, опьяненный счастьем, с бриллиантовой булавкой на груди, иду с ними на крокетную площадку.
То был один из лучших дней моей жизни, если не
282
самый лучший. Многие считали, что я должен выступить еще раз, даже дирекция курорта обратилась к отцу с этой просьбой. Но отец ответил, что дал свое согласие только однажды, вообще же публичные выступления не соответствуют моему положению в обществе. К тому же и наше пребывание в Лангеншвальбахе идет к концу…
Теперь я хочу рассказать о своем крестном Шиммельпристере, человеке безусловно незаурядном. Начну с внешности. Фигура у него была приземистая; волосы, рано поседевшие и жидкие, разделенные пробором над самым ухом, он зачесывал на одну сторону. Его бритое лицо с поджатыми губами и крючковатым носом, на котором сидели громадные круглые очки в целлулоидной оправе, привлекавшее к себе внимание удивительной величиной безбрового лба, свидетельствовало об уме остром и озлобленном; крестный, например, давал следующее ипохондрическое толкование своему имени.
— Природа, — говорил он, — это гниенье и плесень, и я
предназначен быть ее пастырем, отсюда и мое имя Шиммельпристер. А вот почему я
зовусь Феликсом, это уж одному богу известно.
Родом из Кельна, он был принят там в лучших домах и даже
играл видную роль в обществе, являясь неизменным распорядителем карнавалов. В
силу обстоятельств или какого-то происшествия, нам это оставалось неясным, ему
пришлось убраться оттуда; он перекочевал в наш городишко и вскоре, еще задолго
до моего рождения, сделался другом нашего дома. Постоянный посетитель всех
наших вечеров, крестный пользовался большим уважением собиравшегося у нас
общества. Дамы взвизгивали и закрывали лицо руками, когда он, поджав губы,
внимательно и в то же время
безразлично, словно штудируя какой-то неодушевленный предмет, вглядывался в них
сквозь свои совиные очки.
283
— Ох уж этот художник! — кричали они. — Как смотрит! Верно,
видит насквозь, до самого сердца. Смилуйтесь, профессор, не пугайте нас!
И хотя все его уважали, сам он не слишком высоко ставил свое
призвание и часто высказывал довольно сомнительные суждения о природе
художника.
— Фидий, — говорил он, — был человеком недюжинного таланта,
о чем свидетельствует хотя бы то, что его обвинили в воровстве и бросили в
афинскую тюрьму; он присвоил золото и слоновую кость, отпущенные ему для статуи
Афины. Перикл, его почитатель, устроил ему побег из тюрьмы (чем этот прославленный
ценитель и доказал, что разбирается не только в художестве, но, что гораздо
важнее, и в художниках), и Фидий отправился в Олимпию. Там ему было поручено
создать из золота и слоновой кости великого Зевса. Что же он сделал? Опять
проворовался. И умер в олимпийской тюрьме. Характерный случай. Но таковы люди.
Они с восторгом принимают талант, который уже сам по себе странность, но странностей,
с ним связанных, и может быть — неразрывно, принять не только не хотят, но
наотрез отказываются даже понимать их.
Так говорил мой крестный. Я дословно воспроизвел его
рассказ, ибо он часто повторял его и всегда в тех же самых выражениях.
Мы, как сказано, жили с ним душа в душу. Он очень благоволил
ко мне, и я с годами все чаще служил ему натурщиком; мне это доставляло большое
удовольствие, тем более что он всякий раз рядил меня в другие костюмы и уборы,
которых у него была целая коллекция. Мастерская крестного с одним большим окном
напоминала ветошную лавку. Она помещалась под крышей небольшого домика у самого
Рейна, единственными жильцами которого были он и его старая домоправительница.
Там я часами, по его выражению, «сидел» для него на деревянном грубо сколоченном
помосте, а он орудовал у мольберта кистями и шпателем. Надо заметить, что я
позировал и обнаженный для большой картины на сю-
284
жет из греческой мифологии, которая
должна была украсить столовую некоего майнцского
виноторговца. За это время я наслушался немало похвал от художника, ибо кожа у
меня была золотистая, рост такой, как положено греческому богу, фигура
стройная, крепкая, без излишне развитой мускулатуры и безупречная по своим
пропорциям. Сеансы эти занимают совсем особое место в моих воспоминаниях. Но
еще интереснее были переодевания, происходившие вне мастерской крестного.
Случалось, что, собираясь к нам вечером, он заранее присылал целый тюк
всевозможных костюмов, париков, оружия и после ужина обряжал меня, чтобы затем
набросать на куске картона в том виде, который ему на сей раз приходился по
вкусу.
— Этот мальчик рожден для маскарада, — говорил он, радуясь,
что любой костюм мне к лицу, любое платье сидит на мне естественно и привычно.
И правда, кем бы я ни наряжался: римским флейтистом в
коротеньких одеждах и венке из роз на черных кудрях; английским дворянином в
жестком атласе, с кружевным воротником и в шляпе с перьями; испанским
тореадором в усыпанном блестками ярком болеро и широкополой фетровой шляпе;
юным аббатом эпохи пудреных париков, в скуфейке, в чинном белом галстуке, плаще
и туфлях с пряжками; австрийским офицером в белом мундире при шпаге и шарфе или
крестьянином из горных немецких деревень в подбитых гвоздями башмаках и с хвостом
серны на зеленой шляпе, — всякий раз людям казалось, что я рожден именно для
этого костюма, да я и сам, смотрясь в зеркало, невольно приходил к тому же
выводу. Более того, крестный уверял, что мое лицо, разумеется, при
соответствующем костюме и парике, становится характерным не только для определенного
сословия и национальности, но даже для определенной эпохи; а сам он поучал нас,
что время неизбежно накладывает на своих детей особую физиогномическую печать.
Итак, если верить крестному, то я и в облике средневекового флорентийского
щеголя, и в пышном парике, который в позднейшее
285
столетие являлся непременным украшением знатного юноши, казался сошедшим с портрета тех времен. Ах, что за чудные это были минуты! Но они быстро пролетали, и когда я вновь облачался в тусклое будничное платье, мной овладевали печаль и жгучая тоска, ощущенье бесконечной, неописуемой скуки, так что остаток вечера я проводил ни слова не говоря, в подавленности и унынии. На этом кончаю о Шиммельпристере. Позднее, в конце моего изнурительного пути, этот превосходный человек снова решительнейшим образом спасительно вмешается в мою жизнь…
Из дальнейших юношеских впечатлений мне ярче всего помнится день, когда меня впервые взяли в Висбаденский театр. Вообще же я должен заранее предупредить, что, рисуя свои детские годы, не собираюсь строго придерживаться хронологического порядка, а буду рассматривать эту пору как единое целое, произвольно выбирая из него, что мне вздумается. Для греческого бога я позировал крестному Шиммельпристеру в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, следовательно, совсем уже юношей, хотя и застрявшим в средней школе. Первое же посещение театра падает на более ранние годы — мне едва минуло четырнадцать. В то время я (как будет видно из дальнейшего) уже в известной мере достиг духовной и физической зрелости и был очень восприимчив ко всем жизненным впечатлениям. Все, что я увидел в тот вечер, глубоко врезалось мне в душу и дало повод для нескончаемых размышлений.
До театра мы побывали в «Венском кафе», где пили сладкий пунш, тогда как отец потягивал абсент через соломинку. Это уже само по себе привело меня в состояние сильного возбуждения. Но кто опишет жар и лихорадку, потрясшие все мое существо, когда извозчик наконец доставил нас к цели и ярко освещенный зал гостеприимно распахнул перед нами свои
286
двери! Женщины в ложах, обмахивающие веерами полуобнаженную грудь; мужчины, склоняющиеся над ними в разговоре; жужжанье толпы в креслах, где были и наши места; запах светильного газа, ароматы, источаемые волосами и платьями; приглушенный гул настраиваемых инструментов; щедро расписанный плафон, занавес, кишащий обнаженными гениями, и целые каскады розовых купидонов мал мала меньше. Как все это будоражило юные чувства, как подготавливало к восприятию необычного.
Подобное скопление людей в высоком роскошном зале доныне мне приходилось видеть только в церкви, и правда, театр — это величаво расчлененное пространство, где на возвышенном и просветленном поприще в волнах музыки пели, танцевали, размеренно двигались и совершали положенные им действия пестро одетые избранники судьбы — представился мне церковью, храмом наслаждения. В этом храме скрытая в тени и жаждущая душевной услады толпа разинув рты взирала на свои заветные идеалы, ожившие на сцене — в сфере ясности и совершенства.
В тот вечер давали довольно непритязательную пьесу — плод легкомысленной музы, оперетку, название которой я, к сожалению, позабыл. Действие происходило в Париже (что весьма повысило настроение моего бедного отца) и вращалось вокруг молодого атташе, гуляки, очаровательного тунеядца и волокиты, которого играл премьер театра, обожаемый публикой певец Мюллер-Розе́. Отец, давно с ним знакомый, сказал мне имя этого человека, чей образ никогда не померкнет в моей памяти. Теперь Мюллер-Розе, надо думать, стар и немощен, так же как и я, но в то время он приводил публику в такой восторг, так ослеплял ее, что этот спектакль остался одним из самых сильных впечатлений моей жизни. Я употребил слово «ослеплял» и ниже расскажу, как много смысла здесь в него вложено. Но сейчас я хочу по живым воспоминаниям воссоздать сценический облик певца.
Он появился из-за кулис, одетый в черное с головы до пят, и все же суетный блеск исходил от всей
287
его фигуры. По пьесе он возвращался с великосветского раута и был слегка под хмельком; это свое состояние он изображал тактично, изящно и облагороженно. Черная крылатка, подбитая атласом, лакированные туфли, черные фрачные панталоны, белые перчатки glacés1 и цилиндр на гладких блестящих волосах, по тогдашней моде до самого затылка разделенных пробором, — все было ново с иголочки и безупречно сидело на нем, сияя той нетронутой свежестью, которую в обыденной жизни не сохранить и четверти часа, свежестью, так сказать, нездешней. Но цилиндр, цилиндр, небрежно сдвинутый набекрень, был поистине своего рода чудом — без единой пылинки, с идеально гладким переливчатым ворсом, он казался нарисованным; такое же впечатление производило и лицо этого высшего существа, словно вылепленное из тончайшего воска. Нежно-розовое, с миндалевидными, темно очерченными глазами, с коротким прямым носом, удивительно четко обрисованным коралловым ртом и абсолютно симметричными усиками, казалось, выписанными тонкой кисточкой над слегка изогнутой верхней губой. Упруго покачиваясь, — в обыденной жизни такого пьяного не увидишь, — он отдал трость и шляпу лакею, сбросил ему на руки свою крылатку и предстал перед нами во фраке и в накрахмаленной манишке, среди мелких складочек которой сверкали бриллиантовые запонки. Болтая и заливаясь серебристым смехом, он снял перчатки, и руки у него оказались снаружи мучнисто-белыми, а ладони такими же розовыми, как лицо. Стоя возле рампы, он потихоньку запел первый куплет песенки, в которой говорилось, как удивительно легка и весела жизнь атташе и волокиты, затем, блаженно раскинув руки и прищелкивая пальцами, он в танце перенесся на противоположную сторону сцены, пропел там второй куплет и отступил подальше, чтобы в ответ на аплодисменты снова приблизиться к рампе и спеть третий уже над самой суфлерской будкой. Кончив куплеты, он с обаятельной
288
беззаботностью вмешался в события пьесы. По замыслу автора, он был очень богат, отчего его образу сообщалось еще больше прелести. По мере развития действия он появлялся во все новых туалетах: в белоснежном спортивном костюме с красным кушаком, в роскошном и небывалом мундире, а при каких-то особо щекотливых и донельзя комических обстоятельствах — даже в кальсонах из голубого шелка. Он непрерывно оказывался в рискованных, веселых или удивительно сложных и запутанных положениях: у ног герцогини, за шикарным ужином с двумя шикарными девами радости, с пистолетом в высоко поднятой руке, готовый к дуэли с придурковатым соперником. И ни одно из этих элегантных злоключений не сказалось на его безукоризненной внешности, не измяло идеально заутюженных складок на брюках, не потушило сиянья цилиндра, не заставило неприятно раскраснеться его розовое лицо. Связанный и в то же время окрыленный музыкальным сопровождением и театральными условностями, он держался удивительно легко, свободно, дерзко и притом без малейшего налета серой обыденщины. Его тело, казалось, до мозга костей пронизанное тем волшебством, которое можно обозначить лишь неопределенным словом «талант», очевидно, доставляло ему не меньше радости, чем нам всем. Смотреть, как он берется за серебряный набалдашник трости или засовывает обе руки в карманы, было поистине наслаждением. Его самоуверенная манера вставать с кресла, кланяться, отходить от рампы и вновь приближаться к ней заставляла все сердца радоваться жизни. Да, да, вот именно: Мюллер-Розе распространял вокруг себя радость жизни, ибо какими другими словами можно определить то сладостно-болезненное чувство зависти, возбуждения, надежды и любовной горячности, которое испытывает человек от лицезрения красоты, удачи и совершенства.
Публика в креслах состояла из бюргеров и их жен, коммивояжеров, одногодичников, молоденьких девушек, и, как я ни был увлечен происходящим на сцене, у меня все же достало самообладания
289
и любопытства, чтобы, изредка взглядывая на лица соседей, проверять с помощью собственных впечатлений, как все это на них действует. Выражение этих лиц было блаженное и дурацкое. На всех устах играла одинаковая туповато-самозабвенная улыбка, только на лицах девушек она была нежнее и возбужденнее, у женщин носила характер томный, расслабленный и упоенный, мужчины же улыбались растроганно, с тем поощрительным благожелательством, с которым простолюдины-отцы смотрят на своих блистательно преуспевающих сыновей, которые живут совсем по-иному и как бы претворяют в жизнь их собственные юные мечты. Что касается коммивояжеров и одногодичников, то на их лицах все было настежь: раздувающиеся ноздри, широко открытые глаза, разинутые рты. Но и они тоже улыбались. «А что, если бы мы стояли в кальсонах там на возвышении, хорошенький был бы у нас вид», — казалось, говорили их улыбки. А как он смело обходится с этими шикарными девами радости! Когда Мюллер-Розе исчезал со сцены, все плечи опускались, казалось, силы вдруг оставляют зрителей. Когда он с поднятой рукой, держа высокую ноту, стремительным и победоносным шагом шел из глубины сцены к рампе, все груди так бурно вздымались ему навстречу, что лифы на женских платьях трещали по швам. Да, все это скопище людей походило на гигантскую темную стаю ночной мошкары, молча, слепо и упоенно устремляющуюся к сиянью пламени.
Мой отец был наверху блаженства. По французскому обычаю, он
захватил с собой в зал трость и шляпу. Шляпу он надел, едва только опустился
занавес, а с помощью трости принял участие в неистовой овации: он долго и
громко стучал ею об пол. «C’est
épatant!» — повторял он чуть слышным, расслабленным голосом. Но
после конца представления, уже в фойе, где вокруг нас толпились опьяненные и
взыгравшие сердцем коммивояжеры, силившиеся подражать герою вечера походкой,
манерой говорить, держать трость и даже рассматривать свои красные руки, отец
вдруг обратился ко мне:
290
— Пойдем! Надо хоть поздороваться с ним. Мы с Мюллером,
слава богу, друзья-приятели. Он будет рад снова меня увидеть.
Матери и сестре было приказано дожидаться нас в вестибюле, и
мы вдвоем отправились приветствовать Мюллера-Розе.
Путь наш лежал через ближайшую к сцене и уже темную
директорскую ложу, откуда железная дверца вела за кулисы. По неосвещенной
сцене, точно призраки, сновали театральные рабочие. Какую-то миниатюрную особу
в красной ливрее, игравшую в спектакле мальчика-лифтера, которая стояла, в
раздумье прислонившись к стене, мой бедный отец шутливо ущипнул за самое
широкое место её фигуры и спросил, как пройти в уборную Мюллера-Розе. Она
сердито ткнула пальцем куда-то в глубину кулис. Мы прошли побеленным коридором,
в спертом воздухе которого открытыми язычками горел газ. Брань, смех и болтовня
доносились сюда из множества дверей, и отец, смеясь, коротким движением
большого пальца указал мне на эти проявления жизни. Мы дошли до последней двери
в узкой поперечной стене коридора. Отец постучал в нее и прислушался. Изнутри
ответили то ли «кто там», то ли «какого черта» — не помню точно, что произнес
этот громкий и не слишком учтивый голос. «Можно войти?» — осведомился отец; ему
посоветовали сделать что-то другое, что именно, я все же не рискую повторить на
этих страницах. Отец смущенно хихикнул и сказал:
— Мюллер, это я, Круль, Энгельберт Круль. Надеюсь, мне будет
дозволено пожать вашу руку!
За дверью расхохотались.
— Ах, это ты, старый хрен! Входи, входи, очень рад! Вас,
надеюсь, не смутит, — продолжал голос, когда мы уже отворили дверь, — что я не
слишком-то одет.
Мы вошли, и взору мальчика представилось незабываемо мерзкое
зрелище.
За грязным столом перед пыльным и закапанным зеркалом сидел
Мюллер-Розе в серых вязаных подштанниках. Какой-то человек с засученными
рукавами обрабатывал полотенцем его спину, всю облитую
291
потом, меж тем как он сам усердно
тер заскорузлой от цветного жира тряпкой свою лоснящуюся шею. Одна половина его
лица, еще покрытая розовым слоем, который так недавно сообщал ему идеально
восковой вид, теперь выглядела желто-красной по сравнению с другой, уже
разгримированной. Он успел снять русый парик с длинным пробором, в котором
изображал атташе, и я убедился, что волосы у него рыжие. Один глаз был еще
подведен, и на его ресницах блестел какой-то черный металлический порошок, в то
время как другой, оголенный, водянистый, натертый до красноты, дерзко уставился
на нас. Но все это еще куда ни шло; самое скверное было то, что грудь, плечи и
спину Мюллера-Розе сплошь покрывали прыщи. Отвратительно красные прыщи с
гнойными головками, местами кровоточащие; я и сейчас содрогаюсь при одном
воспоминании о них. Я давно заметил, что брезгливость наша тем больше, чем
живее мы воспринимаем жизнь и все, что она нам предлагает. Холодный и безлюбый
человек никогда не будет охвачен той дрожью отвращения, которая потрясла меня
тогда. Вдобавок ко всему, воздух этой комнаты с железной печью, не в меру жарко
натопленной, был пропитан запахом пота и испарениями стаканчиков, склянок и
разноцветных палочек, загромождавших стол, так что по началу мне показалось,
что я не выдержу здесь и минуты.
Тем не менее я стоял и смотрел. Но больше я уж ничего такого
не увидел, о чем бы стоило рассказывать. Я был бы вправе упрекнуть себя за
излишне подробное описание первого посещения театра, если бы эти воспоминания
не предназначались прежде всего для меня самого и лишь во вторую очередь — для
читателя. О сюжетной занимательности и пропорциональности я вовсе не думаю и
оставляю эти заботы авторам, которые черпают из воображения, стараются на
выдуманном материале создать прекрасные и правильные произведения искусства; я
же только рассказываю о собственной необычной жизни и обращаюсь с этой материей
как мне заблагорассудится. На встречах или событиях, благодаря которым
292
мне многое открылось в себе самом и
в окружающем меня мире, я останавливаюсь подолгу, тщательно выписываю каждую
деталь и в то же время легко проскальзываю мимо всего, что мне менее дорого и
интересно.
Разговор между Мюллером-Розе и моим бедным отцом почти
полностью изгладился из моей памяти, вероятно потому, что мне было некогда к
нему прислушиваться. Ведь чувство расшевеливает наш дух куда сильнее, чем
слово. Впрочем, мне помнится, что певец — хотя бурные овации и делали его успех
несомненным,— то и дело спрашивал, понравилась ли нам его игра, что именно в
ней понравилось,— и я отлично понимал его тревогу. Далее, мне смутно
вспоминаются некоторые вульгарные остроты, которыми он пересыпал свою речь;
так, например, на какую-то шутку отца он воскликнул:
— Ну и сво… — чтобы тут же добавить: — Ну и своеобразная же
ты личность.
Впрочем, эти остроты я слышал только в полуха, так как был
занят другим — всеми силами старался осмыслить пробудившиеся во мне чувства.
Вот приблизительно ход моих мыслей: итак, этот неопрятный, прыщавый субъект и есть тот, на которого только что благоговейно взирала восхищенная толпа![41] Мерзостный червяк — вот подлинный образ беспечного мотылька, в котором тысячи обманутых глаз видели воплощение своих тайных грез о красоте, беззаботности, совершенстве! Или он из породы тех пакостных слизняков, которые во мраке вдруг загораются сказочным огоньком? Но как же взрослые, житейски опытные люди так охотно позволили ему себя одурачить? Неужто они не поняли, что их обманывают? Или же они по какому-то молчаливому сговору не считали обман за обман? Пожалуй, это всего вероятнее. Ведь если хорошенько подумать, каково настоящее обличье светлячка? Поэтическая искорка, парящая в летней ночи, или низменное, невзрачное существо, извивающееся у нас на ладони? Поостерегись решать этот вопрос! Сначала вспомни картину, только что представившуюся твоим глазам: огромная
293
стая жалкой мошкары упрямо и безумно летит в манящее пламя! Какое единодушие в желании поддаться обману! Видимо, это потребность, вложенная самим господом богом в природу человека, и Мюллер-Розе создан для того, чтобы удовлетворять ее. Здесь мы явно имеем дело с механизмом, необходимым жизни для ее хозяйства, а Мюллер-Розе — наемный слуга, приводящий в действие этот механизм. И разве он не заслуживает хвалы за то, что ему удалось сегодня и, видимо, удается каждый день! Подави в себе отвращение, брезгливость, почувствуй всем сердцем: этот человек, зная о своих отвратительных прыщах, все время их ощущая, сумел с таким победоносным самодовольством лицедействовать перед толпой, более того, сумел заставить толпу (разумеется при помощи света, грима, музыки и расстояния) увидеть в нем свой идеал и тем самым утешил ее и вдохнул в нее жизнь.
И еще спроси: что заставило этого пошлого остряка изучить искусство ежевечернего преображения? Спроси себя о тайных источниках чар, которыми полчаса назад до кончика ногтей было проникнуто все его тело! Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо только вспомнить (именно вспомнить, потому что тебе это слишком хорошо известно), какая безыменная сила, сила, для обозначения которой не подыщешь достаточно сладостных слов, научила светиться светляка. Обрати внимание, что этот человек никак досыта не наслушается уверений, что он тебе понравился, до безумия понравился. Ясно, что любовь и приверженность к этой серой толпе сделали его столь искусным; и если он заставляет ее радоваться жизни, а она платит ему восхищением, то разве это не взаимное осчастливливание, не брачное соитие его и ее желаний?
На последнем листке в общих чертах воспроизведен ход мыслей, проносившихся в моем разгоряченном пытливом мозгу, когда я стоял в уборной Мюллера-Розе. В последующие дни, даже недели, я много-
294
много раз, волнуясь и любопытствуя, возвращался к ним. Эти внутренние поиски всякий раз исполняли меня тревогой, нетерпеливым желанием и надеждой, пьянили и радовали так, что даже теперь, несмотря на всю мою огромную усталость, одно воспоминание о них заставляет быстрее биться мое сердце. Но в то время эти чувства были так сильны, что, казалось, грудь у меня разорвется под их напором. Бывали дни, когда я просто ощущал себя больным и пользовался этим своим состоянием как предлогом не идти в школу.
Распространяться о моем все возраставшем отвращении к этой враждебной институции я считаю излишним. Для меня необходимейшее условие жизни — свобода мысли и воображения. Потому-то я и вспоминаю о своем долголетнем тюремном заключении с меньшей неприязнью, чем об оковах раболепства и страха, которые накладывала на чувствительную душу мальчика, казалось бы, столь почтенная дисциплина, царившая в белом, похожем на коробку доме, что стоял в нижней части нашего городка. А если принять во внимание еще и мое внутреннее одиночество — о причинах его я говорил выше, — то, конечно, нет ничего удивительного, что я и в будние дни стремился уклониться от несения школьной службы.
Тут мне оказало бесценную услугу умение подражать почерку отца, которое я в себе выработал во время своих одиноких игр. Отец, естественно, является образцом для подрастающего мальчика, жаждущего приобщиться к миру взрослых. Бессознательно основываясь на таинственном сродстве и сходстве телосложения, подросток-сын старается перенять повадки родителя, которые рядом с собственной неловкостью представляются ему достойными восхищения; восхищаясь ими, он развивает наследственно заложенные в нем свойства. Водить пером легко и деловито, как отец, было моей мечтой, когда я еще едва-едва выписывал каракули на разлинованной грифельной доске, а сколько бумаги я извел позднее, стараясь держать ручку с такой же грацией, как отец, и по памяти воспроизводя его почерк. Соб-
295
ственно говоря, это было нетрудно, ибо почерк у отца был почти что детский, каллиграфически безупречный и невыписанный; правда, буквы у него получались крохотные, но из-за невиданно длинных соединительных штрихов письмо казалось размашистым — манера, которой я быстро и превосходно научился подражать. Что касается подписи «Э. Круль», в противоположность готически заостренным буквам текста носившей скорее латинский характер, то ее окружала целая туча росчерков, на первый взгляд словно бы неподражаемых, но, в сущности, до того простых, что именно подпись удавалась мне почти безупречно. Нижняя половина первой буквы имени красиво летящей линией сбегала вниз, а в открытое ее лоно был аккуратно вписан первый слог фамилии[42]. Эта линия дважды пересекалась другой, берущей свое начало от хвостика «у», обнимающей всю подпись в целом и протяженным завитком спускающейся вниз. Все же вместе устремлялось скорее в вышину, чем в ширину, и при всей своей причудливости было придумано по-ребячески наивно, отчего я и воспроизводил эту подпись так, что сам отец не сумел бы отличить ее от собственноручной. А потому разве не сама собой напрашивалась мысль использовать сноровку, приобретенную так, скуки ради, для своего духовного раскрепощения? «Сын мой, Феликс, — писал я, — 7-го с. м. из-за мучительных желудочных колик пропустил занятия, что я и вынужден с сожалением подтвердить. Э. Круль». Или же: «Гнойное воспаление надкостницы, а также вывих правого плеча заставили Феликса с 10-го по 14-е с. м. пролежать в постели и, к большому нашему сожалению, воздержаться от посещения школы. С совершенным уважением Э. Круль». Поскольку этот трюк удавался, ничто уже не мешало мне несколько дней подряд бродить в окрестностях городка, или, лежа на зеленой лужайке, в тени шепчущей листвы, предаваться юным мечтам, или целыми часами дремать среди живописных развалин блаженной памяти епископского замка над Рейном, или, наконец, в суровую зимнюю пору находить приют в ма-
296
стерской крестного Шиммельпристера; он хоть и ругал меня на все лады за такие штуки, но в тоне его чувствовалось, что причины, меня к сему побудившие, и ему кажутся уважительными.
Нередко случалось и так, что я, сказавшись больным, оставался дома и не вставал с постели, считая, как я уже говорил, что у меня есть на это известное внутреннее право. Согласно моей теории, любой обман, в основе которого не заложена хоть крупица высшей правды, иными словами, ложь неприкрытая, несовершенная и неуклюжая может быть разоблачена первым встречным. Действительным и успешным будет лишь обман, не безусловно заслуживающий названия такового, обман, который сводится к тому, чтобы наделить живую, но не окончательно утвердившуюся в реальном мире правду теми материальными признаками, без которых человечество не соглашается считать ее правдой. Здоровый мальчик, за исключением легко протекавших детских болезней не знавший серьезных недомоганий, я отнюдь не затевал грубого притворства, когда однажды утром решил сказаться больным и тем самым избегнуть страха и неприятностей, ожидавших меня в школе. Да и зачем бы я стал затрачивать столько ненужных усилий, если в моем распоряжении всегда имелись средства утихомирить моих духовных поработителей? Нет, напряжение всех внутренних сил как следствие размышлений, о которых я говорил выше, в то время очень меня изнурявших, вкупе с отвращением к школьному ярму сообщило бесспорную правдивость моему притворству и вооружило меня всеми средствами, нужными для того, чтобы вызвать тревожную озабоченность врача и домочадцев.
Разыгрывать больного я начинал без всяких зрителей, как бы для себя самого, лишь только мое решение насладиться в этот день свободой вместе с неумолимым ходом часовых стрелок вырастало в насущную необходимость. Я уже прозевал последнюю минуту, в которую можно было встать, не боясь опоздания, в столовой остывал приготовленный мне завтрак, тупоголовые юнцы уже шагали в школу,
297
будний день начался, и мне предстояло собственными силами, на свой страх и риск вырваться из деспотического его распорядка. От смелости такого предприятия у меня захолонуло сердце и засосало под ложечкой. Тут я обнаружил, что мои ногти приобрели синеватый оттенок. Утро, как видно, выдалось холодное, и было достаточно пролежать несколько минут без одеяла или, еще того лучше, пройтись по комнате и слегка утомить себя, чтобы вызвать внушительный приступ озноба. То, что я сейчас говорю, весьма для меня характерно; мой организм всегда был легко уязвим и требовал бережного ухода, так что всю мою последующую бурную деятельность я рассматривал как мужественное самопреодоление, более того — как немалый нравственный подвиг. Будь это не так, мне бы не удалось ни тогда, ни впредь при помощи нарочитого легкого утомления тела и мозга придавать себе вид серьезно больного и по мере надобности настраивать окружающих на мягкий, жалостливый лад. Дюжий малый запросто из себя больного не разыграет. Только человек (да будет мне позволено вновь прибегнуть к этому обороту), только человек, созданный из благородного материала, может, не будучи больным в обыденном смысле слова, так сродниться со страданием, чтобы, внутренним взором подметив его симптомы, произвольно воссоздавать их. Я закрыл глаза и тотчас же снова широко открыл, сообщив им вопрошающее, жалобное выражение. Я и без зеркала знал, что мои волосы, спутавшиеся от сна, длинными прядями падают на лоб и что мое лицо бледно от волнения и страха. Для того чтобы оно выглядело еще и осунувшимся, я прибег к способу собственного изобретения: чуть-чуть закусил зубами внутреннюю сторону щек, отчего подбородок вытянулся, а щеки сделались впалыми, что явно свидетельствовало о мучительно проведенной ночи. Вибрирующие ноздри и как бы болезненное подергивание мускулов во внешних уголках глаз дополняли картину. Руки с посиневшими ногтями я сложил на груди, на стул около кровати водрузил снятый с умывальника таз и, время от времени стуча зубами, стал ждать, пока меня хватятся.
298
Случилось это не скоро, так как мои родители любили поздно спать, и пока обнаружилось, что я утром не ушел из дому, в школе прошло уже два или три урока. Но вот моя мать поднялась наверх и вошла ко мне в комнату, еще с порога спрашивая, уж не захворал ли я. Я посмотрел на нее широко открытыми, остановившимися глазами, словно с трудом приходя в себя и еще не понимая, где я и что со мной, и отвечал, что, видимо, и вправду болен.
— Что ж ты чувствуешь? — осведомилась она.
— …Голова… все тело ломит… Почему мне так холодно? — сказал я, как бы с трудом ворочая языком, и заметался на постели.
Мать прониклась ко мне состраданием. Не думаю, чтобы она приняла мою болезнь всерьез, но так как чувствительность в ней всегда одерживала верх над разумом, то у нее недостало духу выйти из игры, напротив, она, как в театре, начала мне «подыгрывать».
— Бедное дитя, — воскликнула она, подпирая щеку указательным пальцем и горестно покачивая головой. — И кушать ты ничего не хочешь?
Я вздрогнул, судорожно прижал подбородок к груди и сделал отрицательный жест. Железная последовательность моего поведения отрезвила мать, поколебала ее уверенность, лишила удовольствия, которое она заодно со мной получала от этой иллюзии, ибо того, что человек может зайти в своей игре так далеко, чтобы отказаться от еды и питья, в ее голове не укладывалось. Она посмотрела на меня недоверчивым, испытующим взглядом. Но я, заметив это и желая подтолкнуть ее на нужное мне решение, немедленно разыграл самую трудную и эффектную из всех заготовленных мною сцен. А именно: подскочил на кровати, дрожащими, неверными руками пододвинул к себе таз и буквально распростерся над ним, несмотря на страшные судороги и корчи, сводившие мое тело, — надо было иметь каменное сердце, чтобы не тронуться видом таких страданий. — Ничего больше нет, — давясь и задыхаясь, проговорил я, поднимая от таза измученное лицо. — Ночью я все, все отдал…
299
Тут я счел за благо изобразить приступ удушья почти уже жизнеопасный. Мать держала мою голову и испуганным голосом настойчиво повторяла мое имя, надеясь привести меня в чувство.
— Я сейчас пошлю за Дюзингом, — крикнула она, когда судороги слегка отпустили меня, окончательно убежденная в моей болезни, и выбежала из комнаты.
Совершенно измученный, но неописуемо довольный и удовлетворенный, я откинулся на подушки.
Как часто я мысленно рисовал себе эту сцену, как часто про себя ее репетировал, прежде чем набраться храбрости разыграть ее «на публике»! Не знаю, поймут ли меня, но когда я впервые произвел ее и добился всего, чего хотел, я был сам не свой от счастья. Не всякий способен такое сотворить! Многие об этом мечтают, но не могут осуществить свои мечты. А ведь когда ты падаешь без сознания, когда струйка крови течет у тебя из рта и судороги сводят твое тело, — как быстро тогда жестокость и равнодушие мира оборачиваются вниманием, испугом, запоздалым раскаянием. Но тело своенравно и тупо-выносливо. Когда душа давно уже жаждет сострадания и ласковой заботы, оно все еще не подает тревожных сигналов, которые каждому говорят, что и с тобой может стрястись беда, и громким голосом взывают к совести человечества. И вот я не только сумел воспроизвести эти симптомы, но и добился результатов не меньших, чем если бы они проявились без сознательного моего участия. Я исправил природу, осуществил мечту. И только тот, кому удавалось из ничего, на основе одно лишь внутреннего знания и наблюдения над вещами, иными словами — на основе фантазии и, конечно, при наличии большой смелости, создать насильственную и жизнеспособную действительность, только тот поймет, в какой счастливой истоме пребывал я, успешно закончив спектакль.
Через час явился санитарный советник Дюзинг. Он стал нашим домашним врачом после смерти старого доктора Мекума, содействовавшего моему рождению. Дюзинг был долговязый, вечно сутулившийся
300
мужчина со стоящими дыбом волосами, который то и дело защемлял свой нос между большим и указательным пальцами и потирал одна о другую широкие костлявые руки. Этот человек был мне опасен: не своим врачебным талантом — на этот счет дело у него обстояло неважно (впрочем, легче всего обмануть как раз хорошего врача, самоотверженно служащего науке ради нее самой), — но из-за грубой житейской смекалки, так часто свойственной заурядным натурам и составлявшей основу его карьеры. Ограниченный и честолюбивый, этот ученик Эскулапа раздобыл себе звание санитарного советника благодаря личным связям, знакомству с крупными виноторговцами — словом, по протекции — и часто ездил в Висбаден, где продолжал энергично продвигаться по служебной линии. Характерно для него было, что дома он принимал пациентов — я в этом убедился собственными глазами — не по порядку и очереди, а, ни капельки не стесняясь, пропускал вперед людей богатых и с положением в обществе, оставляя сидеть пришедших много раньше пациентов «из простых». Высокопоставленных больных он окружал чрезмерной заботой и попечением, с бедняками же обращался грубо, недоверчиво и в большинстве случаев старался объявить их жалобы необоснованными. По моему убеждению, он был способен на любую пакость, плутню, лжесвидетельство, если мог этим угодить «верхам», или зарекомендовать себя преданным слугой власть имущих. Низкопробный здравый смысл подсказывал ему, что именно так должен действовать человек бездарный, но желающий преуспеть в жизни. Дело в том, что мой бедный отец, несмотря на свое сомнительное положение, как фабрикант и налогоплательщик принадлежал к видным горожанам, санитарный же советник в качестве домашнего врача от него зависел, а может быть, просто с жадностью хватался за любую возможность неблаговидного поступка. Так или иначе, но этот тип решил, что должен действовать со мною заодно.
Всякий раз, когда он обращался ко мне с наигранным докторским добродушием: «Ай-ай-ай, что же это
301
с нами такое приключилось?» или: «Это что еще за фокусы, молодой человек?» — и садился возле моей кровати, чтобы выслушать и порасспросить меня, — повторяю, всякий раз неожиданное молчание, улыбка или даже подмигивание с его стороны должны были побудить меня ответить ему тем же и, значит, признать, что я просто праздную «святого лентяя», как он, надо думать, называл это про себя. Но я никогда, никогда не перебросил ему мостика. И удерживала меня от этого не осторожность (по всей вероятности, ему можно было довериться), а скорее гордость и презрение. Все его старанья вовлечь меня в заговор ни к чему не приводили, только глаза у меня делались все печальнее и растеряннее, щеки вваливались еще больше, губы бессильно опускались, дыхание становилось отрывистее; я всегда был готов, если это окажется нужным, и перед ним разыграть приступ неукротимой рвоты и с такой невозмутимой последовательностью продолжал свое притворство, что ему в конце концов пришлось признать себя побежденным, позабыть о своем здравомыслии и прибегнуть к помощи науки.
Это давалось ему нелегко, во-первых, потому что он был глуп, а во-вторых, потому что картина болезни, воссоздаваемая мною, грешила очень уж большой неопределенностью. Он выслушивал и выстукивал меня со всех сторон, засовывая мне в горло ручку чайной ложечки, докучал частым измерением температуры и затем изрекал: — Мигрень. Никаких оснований для беспокойства нет. Склонность этого молодого человека к головным болям нам давно известна. К сожалению, на сей раз затронут и кишечник. Я рекомендую покой, никаких посетителей, поменьше разговаривать и побольше лежать в затемненной комнате. Очень хорошо в таких случаях попринимать кофеин с лимонной кислотой. Сейчас я выпишу рецепт.
Если же в нашем городке отмечалось два-три случая гриппа, то он говорил:
— Грипп, уважаемая госпожа Круль, грипп, осложнившийся гастритом. Кроме того, воспаление
302
дыхательных путей, хотя и очень незначительное. У вас появился кашель, мой друг, не так ли? Температура немного поднялась, а в течение дня, несомненно, подымется еще на несколько десятых. Пульс учащенный и неровный.
Со свойственным ему отсутствием фантазии он прописывал кисло-сладкое укрепляющее вино; я его пил с удовольствием, и после выдержанной баталии оно приводило меня в умиротворенное, довольное настроение. Конечно, профессия врача не составляет исключения в ряду других профессий, и многие ее представители — обыкновеннейшие дураки, готовые видеть то, чего нет, и отрицать то, что совершенно очевидно. Любой неученый знаток человеческого организма превосходит их в знании тончайших секретов такового, и ему ничего не стоит обвести вокруг пальца ученого медика. Катарр[43] дыхательных путей, который он у меня обнаружил, не был мною предусмотрен; я не сделал ни малейшего намека на него в придуманной мною клинической картине. Но так как мне все-таки удалось заставить санитарного советника отказаться от его пошлого диагноза: «празднует святого лентяя» — то ничего более остроумного, чем грипп, он придумать не сумел, и вот, боясь осрамиться, требовал, чтобы я страдал от приступов кашля, и утверждал, что у меня распухли миндалины, чего тоже не было. Что же касается повышения температуры, то здесь он не ошибался, хотя это и не служило к чести его школьной премудрости. Врачебная наука почему-то хочет, чтобы жар всегда был только следствием отправления крови возбудителями болезни, и утверждает, что повышение температуры связано лишь с физическими явлениями. Но это смешно! Читатель давно уже понял, в чем я его к тому же заверяю честным словом, что физически я не был болен, когда санитарный советник Дюзинг меня выслушивал; но возбуждение минуты, отважное предприятие, мной задуманное, своего рода опьянение, которое я испытывал, выгравшись в роль больного, роль, требовавшую участия всего моего организма и предельного
303
совершенства исполнения, чтобы не стать комической, более того, известное вдохновение, которое требовало одновременно и напряжения, и ослабления всех сил, для того чтобы, нечто мнимое стало действительным для меня и других, — все это вместе взятое привело в состояние такого подъема деятельность моего организма, что санитарный советник черным по белому прочитал это на термометре. Учащение пульса, конечно, объяснялось теми же причинами; когда же голова советника легла ко мне на грудь и я почуял животный запах его сухих бурых волос, то под этим живым впечатлением мне удалось даже придать своему сердцу неровный — то замирающий, то убыстренный — ритм. Наконец, если доктор Дюзинг независимо от диагноза всякий раз объявлял затронутым желудок, то должен заметить, что этот орган всегда у меня отличался столь болезненной чувствительностью, что при любом душевном потрясении начинал биться и пульсировать, так что в иных жизненных случаях я, можно сказать, страдал не сердцебиением, как другие люди, а биением желудка. Санитарный советник только диву давался, наблюдая этот феномен.
Итак, прописав мне горькие пилюли или кисло-сладкое укрепляющее вино, он еще некоторое время сидел у постели больного, оживленно болтая с моей матерью, я же, прерывисто дыша полуоткрытым ртом, вперял в потолок усталый, потухший взор. Иногда к ним присоединялся и отец. Вид у него бывал смущенный, он старался не встречаться со мной глазами и пользовался случаем поговорить с санитарным советником о своей подагре. Оставшись наконец один, я проводил день, а иногда и два-три дня в мирном отдохновении и в сладких мечтах о жизни, о будущем, правда, получая лишь скудную диетическую пищу, но тем вкуснее она мне казалась. Если же протертый суп и сухарики не удовлетворяли моего юношеского аппетита, я осторожно вылезал из кровати, тихонько поднимал крышку своего маленького бюро и принимался поглощать шоколад, запасы которого у меня почти никогда не переводились.
304
Откуда брались у меня эти сласти? В мое владенье они попадали странным, можно сказать, фантастическим образом. В нижней части городка, на углу сравнительно оживленной торговой улицы, помещалась премило убранная гастрономическая лавка, если не ошибаюсь, филиал висбаденской фирмы, обслуживавшей богатую клиентуру. По дороге в школу и обратно я каждый день проходил мимо аппетитной витрины этой лавки, а случалось, и захаживал в нее с мелкой монетой в руке, чтобы купить в соответствии со своим капиталом немного дешевых пряников или ячменных леденцов. Однажды в обеденное время я застал лавку пустой, там не было не только покупателей, но и никого из приказчиков. Звонок (обыкновенный колокольчик, его при открывании и закрывании двери толкал зубец металлической штанги) зазвонил, но звук его либо не донесся до заднего помещения, отделенного от лавки застекленной дверью со сборчатой зеленой занавеской, либо там тоже никого не было в данную минуту. Во всяком случае, никто оттуда не появился. Удивленный, испуганный и даже взволнованный окружающим меня безмолвием и пустотой, я огляделся по сторонам. Никогда еще. мне не удавалось так свободно осматривать этот соблазнительнейший уголок.
Помещение, узковатое, хотя и высокое, было снизу доверху набито разнообразной снедью. Плотные ряды окороков и колбас всевозможных форм и цветов — белых, желтых, красных и черных, круглых и твердых, как пушечные ядра, а также длинных, узловатых и крученых вроде веревки — затемняли окна. Жестяные консервные коробки, какао и цибики чая, разноцветные банки с вареньем, медом и засахаренными фруктами, стройные и пузатые бутылки с ликерами и пуншевыми эссенциями заполняли стенные шкафы от пола до потолка. Под стеклом на прилавке красовались тарелки и миски с дразнящими аппетит копченостями: макрелью, миногами, треской и угрями. Там же стояли блюда с итальянским салатом. На глыбе льда
303
распростер свои клешни омар; шпроты, тесно прижатые друг к дружке, мерцали жирным золотом в открытых ящичках; редкостные фрукты, клубника и гроздья винограда, точно чудом заброшенные сюда из страны обетованной, громоздились среди башенок, построенных из жестянок с сардинами и соблазнительных белых баночек с икрой и паштетом из гусиной печенки. С верхних полок свешивались шейки жирной домашней птицы. Разносортные закуски, предназначенные для холодных ужинов, как-то: ростбиф, гусиные грудки, ветчина, языки и копченая лососина — горками высились чуть подальше; рядом с ними лежали длинные и узкие ножи. Большие стеклянные колпаки прикрывали все виды сыров, какие только есть на свете: кирпично-красные, молочно-белые, мраморные с прожилками и такие, что лакомой золотистой волной вытекали из своей серебряной оболочки. Между ними зеленели артишоки, пучки спаржи, трюфеля и, точно высыпанные из рога изобилия, радужным блеском отливали печеночные колбаски в пестрых обертках из станиолевой бумаги. На отдельных столиках были расставлены открытые жестянки с лучшими сортами бисквитов, подносы со сложенными крест накрест медовыми коврижками, излучавшими коричневое сияние, а среди них высились стройные стеклянные вазы, полные конфет и глазированных фруктов.
Я стоял, как зачарованный, впивая трепещущей грудью чудесный воздух, в котором запахи шоколада и копченостей мешались с упоительно гнилостным благовонием трюфелей. Сказочные страны и подземные сокровищницы, где счастливчики смело набивают себе карманы и даже сапоги драгоценными камнями, вставали в моем воображении. Сказка это или сон? Удручающая законность и добропорядочность будней вдруг рассеялась, растворилась, исчезли условности и помехи, в обыденной жизни стеной встающие на пути вожделения. Радость от того, что этот изобильный уголок земли сейчас подчинен моей самодержавной власти, охватила меня с такой силой, что я почувствовал зуд во всем теле. С трудом подавил я в себе
306
желанье вскрикнуть от неистового счастья, от наслаждения всей полнотой небывалой свободы.
— Добрый день, — проговорил я в пустоту, и мне еще сейчас слышится сдавленный, неестественно-спокойный звук моего голоса, потерявшийся в тишине.
Никто не ответил. И в это самое мгновенье у меня буквально потекли слюни изо рта. Быстро и бесшумно ступил я к одному из боковых столов, ломившихся от сластей, великолепным жестом запустил руку в ближайшую вазу с конфетами, высыпал всю пригоршню в карман пальто, прошел к двери и через секунду уже скрылся за углом.
Мне, конечно, скажут, что моя проделка — обыкновеннейшее воровство. А я смолчу, постараюсь пропустить это мимо ушей, ведь все равно я не могу помешать воспользоваться этим жалким словом тому, кому приятно его произносить. Но одно — слово, дешевое, истертое, лишь очень приблизительно рисующее жизнь, и совсем другое — живой, непосредственный, вечно юный поступок, блистающий неповторимой, несравненной новизной. Только привычка и леность заставляют нас полагать, что это одно и то же, тогда как на самом деле слово, поскольку оно должно характеризовать поступок, напоминает хлопушку для мух, то есть всегда бьет мимо. Вдобавок, когда речь идет о поступке, существенно не «что» и не «как» (хотя последнее все-таки важней), а «кто».
Что бы я в жизни ни делал, было прежде всего моим поступком, а не поступком некоего имярек, и хотя мне пришлось многое претерпеть и всякая шушера, в том числе блюстители правосудия, именовали мой поступок так же, как и десятки тысяч других, но я, в глубине души неколебимо считая себя любимцем богов, предпочтенной плотью и кровью, внутренне неизменно восставал против такого приравнивания. Да простит мне мой будущий читатель это отступление в область чисто умозрительного, которое, вероятно, не к лицу человеку малообразованному и по роду своих занятий непривычному к размышлениям, тем не менее я почитаю за долг по мере возможности
307
примирить читателя со своеобразием моей жизни, а если это не удастся, то вовремя удержать его от чтения этих листков.
Вернувшись домой, я прошел в пальто к себе в комнату, чтобы выложить на стол и рассмотреть принесенную добычу. Я едва верил, что все это мое. Ведь во сне что только не дается нам в руки, а проснешься — и ничего у тебя нет. И только тот может хоть отчасти разделить со мной мою радость, кто живо себе вообразит, что богатства, дарованные ему в прельстительном сне, при свете утра, весомые, ощутимые, лежат у него на одеяле, словно он позабыл унести их с собою.
Конфеты самых дорогих сортов, с ликером или душистым кремом, были обернуты в цветные станиолевые бумажки, но меня опьянял не их прекрасный вид и вкус, а то, что они представлялись мне драгоценностями из сновидения, которые я спас для действительной жизни; и радость эта была столь глубока, что я, естественно, стал думать, как бы мне при случае вновь испытать ее. Читатель может отнестись к этому факту как ему угодно, — сам я не считал нужным долго над ним размышлять. Дело в том, что в обеденное время гастрономическая лавка иногда оставалась без присмотра — не часто, конечно, не регулярно, но через большие или меньшие промежутки времени это все же бывало, — что я и замечал, проходя с ранцем за плечами мимо застекленной двери. В таких случаях я входил, затворял за собой дверь тихо, осторожно, так что колокольчик не издавал ни звука, хотя язычок и терся об его стенки, на всякий случай говорил «добрый день» и живо брал то, что мне хотелось — немного, скромно: горсть конфет, кусок медовой коврижки, плитку шоколада, — но мало-помалу я перепробовал все. Когда в позднейших частых моих «перевоплощениях» я так же легко и свободно пригоршнями брал сладости жизни, мне казалось, что я снова испытываю то не поддающееся определению чувство, с которым я сроднился в силу своеобразного строя своих мыслей и различных психологических изысканий.
308
Неведомый читатель! Признаюсь, я даже на время отложил перо, чтобы собраться с мыслями, прежде чем вступить в область, которую я уже не раз затрагивал в своих воспоминаниях и на которой, как человек добросовестный, я хочу остановиться несколько подробнее. Спешу предупредить: того, кто ждет от меня фривольного тона и скользких шуток, неизбежно постигнет разочарование. В этих записях я, напротив, стремлюсь сочетать должную искренность с той сдержанной серьезностью, которую диктуют мораль и благоприличие. Ибо я, в противоположность многим, никогда не любил сальностей, более того, из всех видов распущенности распущенность языка мне всегда внушала наибольшее отвращение, так как она не оправдана никакою страстью. Когда человек острит и сквернословит, кажется, что речь идет о чем-то пустом, комическом, тогда как на самом деле мы здесь касаемся важнейшего таинства природы, и говорить о нем наглым, пошлым тоном — значит предавать это таинство глумлению черни. Но возвращаюсь к исповеди!
Прежде всего должен заметить, что известные отношения рано начали играть роль в моей жизни, занимать мои мысли, составлять предмет моих мечтаний и ребяческих игр, — многим раньше, чем я узнал, как это называется и сколь всеобщее значение имеет; Надо также сказать, что картины, рисовавшиеся моему живому воображению, и пронизывающее удовольствие, которое я при этом испытывал, казались мне моей личной, никому другому не понятной особенностью, странностью, о которой я предпочитал не говорить вслух. Не зная, каким словом обозначить этот подъем и сладостное волнение, я придумал для них два наименования: «наилучшее» и «великая радость»[44],— и хранил их как бесценную тайну. В силу такой ревнивой замкнутости, в силу моего одиночества и еще третьего фактора, о нем я скажу ниже, я долгое время оставался в этом состоянии духовной невинности, никак не вязавшейся
309
с живостью моих чувств. Ибо с тех пор как я себя помню, «великая радость» занимала главенствующее положение в моей душевной жизни; более того, она, видимо, пробудилась во мне еще за гранью памяти. Маленькие дети обычно невинны по незнанию; предположение, что они невинны в смысле подлинной чистоты и ангельской святости, — только сентиментальное суеверие, которое развеивается при ближайшем рассмотрении. Мне по крайней мере из достоверного источника (о котором я сейчас скажу подробнее) известно, что еще у груди кормилицы я выказывал недвусмысленные признаки чувства; этот рассказ представляется мне более чем вероятным и весьма характерным для моей энергичной натуры. И правда, моя способность к любовным утехам граничила почти уже с чудом и, как я теперь в этом убеждаюсь, далеко превосходила обычную меру. Основание предполагать это явилось у меня рано, но, для того чтобы предположение переросло в уверенность, понадобилось вмешательство одной особы (она-то и сообщила мне о моем бойком поведении у груди кормилицы), с которой я отроком в продолжение ряда лет состоял в тайных сношениях. Это была горничная по имени Женевьева, поступившая к нам совсем еще девочкой, и в пору, когда мне минуло шестнадцать, достигшая уже тридцатилетнего возраста. Дочь фельдфебеля, давно уже помолвленная с начальником маленькой станции между Франкфуртом и Нидерландштейном, она тяготела к светской утонченности и, хотя выполняла всякую черную работу, но по виду и манерам являла собой нечто среднее между горничной и наперсницей. Но так как приличное приданое все еще не было сколочено, то ее свадьба все откладывалась в долгий ящик, и Женевьеве, крупной, упитанной блондинке с зелеными тревожными глазами и изящными телодвижениями, необозримо долгая пора ожидания часто не в меру докучала. Проводя лучшие свои годы в воздержании, она не снисходила к домогательствам простолюдинов: солдат, рабочих, мастеровых, которые очень льстились на ее пышную
310
юность. Не причисляя себя к простонародью, она презирала его язык и запах. Иное дело — хозяйский сынок да еще недурной собою и, надо думать, возбуждающий ее женское чувство. Удовлетворение его потребностей, с одной стороны, как бы входило в круг ее домашних обязанностей, с другой же — означало своего рода альянс с высшими классами. Так вот и получилось, что мои желания не встретили серьезного сопротивления.
Я отнюдь не намерен распространяться об эпизоде слишком обычном, чтобы его подробности могли занять просвещенного читателя. Короче говоря, однажды вечером после ужина, когда крестный Шиммельпристер кончил наряжать меня во всевозможные костюмы, в темном коридорчике мансарды, у дверей моей комнаты, произошла встреча, конечно, не без умысла со стороны Женевьевы, встреча, которая имела продолжение уже в комнате и кончилась полным взаимным обладанием. Помнится, что в тот вечер я был более обыкновенного подавлен прозой жизни, наступившей после маскарада, и погружен в бесконечную печаль и тоску. Будничное платье, которое я натянул на себя после стольких переоблачений, претило мне, я ощущал непреодолимое желанье сорвать его с себя, но на этот раз не только для того, чтобы обрести успокоение во сне. Настоящее успокоение, казалось мне, я найду лишь в объятиях Женевьевы; говоря откровенно, мне даже мерещилось, что полная близость с нею будет своего рода завершением вечернего маскарада, более того, что она и есть истинная цель моих сегодняшних превращений. Как бы там ни было, а изнуряющее, небывалое наслаждение, которое я испытывал у белой пышной груди Женевьевы, никакому описанию не поддается. Я кричал, мне казалось, что я возношусь на небо. И не своекорыстным было мое сладострастие, оно, как это свойственно моей натуре, распалялось тем больше, чем полнее делила его со мною Женевьева. Всякие сравнения здесь, конечно, немыслимы и неуместны. Но мое убеждение, столь же недоказуемое, сколь и неопровер-
311
жимое, остается в силе: любовью я наслаждался вдвое острее и жарче, чем другие.
Однако было бы несправедливо полагать, что этот врожденный дар превратил меня в сладострастника, в селадона[45]. Этого не могло случиться хотя бы по той простой причине, что трудная и опасная жизнь, которую я вел, предъявляла немалые требования к моей выдержке, а ее бы у меня, конечно, недостало, если бы я стал размениваться направо и налево. Ибо если для многих это сомнительное времяпрепровождение является, как я заметил, чем-то, что делают походя и после чего можно взять да и отправиться по делам, будто ровно ничего не произошло, то я отдавал ему всего себя, вставал полностью опустошенный и непригодный к какой-либо деятельности.
Я часто распутничал, ибо плоть слаба, а мир был всегда готов любострастно идти мне навстречу. Но в конечном счете я, как и подобает мужчине, был настроен серьезно, и из чувственной расслабленности меня вскоре вновь тянуло к напряженной и суровой жизни. Животный акт любви — не является ли он лишь наиболее грубым видом наслаждения, тем, что я, исполненный смутных чаяний, когда-то назвал «великой радостью»? Ведь, слишком нас пресыщая, он нас опустошает, и мы перестаем быть любимцами жизни, ибо любви достоин лишь алчущий, а не пресыщенный. Что до меня, то я знаю куда более тонкие, радостные, окрыленные виды удовлетворения страсти, чем этот примитивный акт, в конечном счете являющийся лишь скудной, обманчивой пищей, и я полагаю, что плохо понимает в счастье тот, чьи помыслы направлены только на эту цель. Я всегда стремился к большему, к наиполнейшему и находил изысканную, пряную усладу там, где другие не стали бы даже искать ее. Мои чувства никогда не были направлены на точную, определенную цель, чем, наверно, и объясняется то, что я, несмотря на весь жар вожделения, так долго оставался в наивном неведении, вернее навеки остался ребенком и мечтателем.
312
На этом хватит о материи, трактуя которую, я, как мне думается, ни разу не преступил границ благопристойности; пора уже приблизиться к поворотной точке, трагически заключившей мою жизнь в отчем доме. Сначала, правда, надо еще сказать несколько слов о помолвке моей сестры Олимпии с неким Юбелем — секунд-лейтенантом Второго Нассауского пехотного полка № 88, стоявшего в Майнце, — событии, отмеченном весьма торжественно, но так и не возымевшем серьезных последствий. Под натиском обстоятельств эта помолвка была расторгнута, и невеста, после того как все у нас окончательно рухнуло, стала опереточной артисткой. Юбель, болезненный уже поживший молодой человек, был завсегдатаем наших вечеров. Распаленный танцами, игрой в фанты, вином «Бернкаслер доктор» и прелестями, которые так щедро демонстрировали ему наши дамы, он возгорелся любовью к Олимпии, со страстностью слабогрудого человека стал мечтать об обладании ею и, вдобавок, по наивности сильно переоценивая наше материальное благополучие, однажды вечером на коленях, чуть не плача от нетерпения, попросил ее руки. Я и посейчас удивляюсь, как у Олимпии, почти не отвечавшей на его чувства, хватило наглости согласиться на это безумное предложение, — ведь она была многим лучше меня осведомлена о состоянии наших дел. Видимо, ей хотелось вовремя обеспечить себе хотя бы такой ненадежный кров, а может быть, ей внушили, что помолвка с носителем двухцветного мундира укрепит наше положение или по крайней мере отодвинет катастрофу. Мой бедный отец (Олимпия тотчас же к нему побежала), конфузясь, дал свое согласие на этот брак, после чего о событии было объявлено гостям, которые со страшным шумом начали приносить свои поздравления и, как они выражались, щедро «обмывать» помолвку «Лорелееи экстра кюве». Отныне лейтенант Юбель стал ежедневно приезжать к нам из Майнца, хотя долгое пребывание вблизи от предмета его болезненного вожделения
313
шло ему очень и очень во вред. Когда мне случалось войти в комнату, где они сидели вдвоем, лейтенант выглядел совершенно изнуренным и бледным; он бы вконец извелся, если бы, на его счастье, ход дел не принял совсем иного оборота.
Но я снова возвращаюсь к своей особе. Все мои мысли в ту пору были заняты переменой фамилии, предстоявшей моей сестре после вступления в брак; мне живо помнится, что я до недоброжелательства ей завидовал. Подумать только, что она, всю жизнь называвшаяся Олимпией Круль, теперь станет писаться «Олимпия Юбель»! Сколько в этом новизны и прелести! Можно ли себе представить что-нибудь скучнее и утомительнее, чем весь век ставить под письмами и деловыми бумагами одну и ту же подпись? Рука сама отказывается выводить эти докучные буквы. Какое счастье, какой прилив свежих сил — откликаться на новое имя! Возможность хоть раз в жизни переменить имя казалась мне огромнейшим преимуществом слабого пола, — ведь нас, мужчин, закон лишает этой радости. Что до меня, не приспособленного, как большинство людей, вести под защитой буржуазного строя унылую и безопасную жизнь, то я впоследствии проявил немало изобретательности, чтобы обойти запрет, мешавший мне жить и зарабатывать себе на жизнь, и я уже сейчас позволяю себе отослать читателя к тому проникнутому легкой своеобразной прелестью месту моих воспоминаний, где я впервые, как изношенную, пропотевшую одежду, сбрасываю с себя свое родовое имя, чтобы не вовсе самочинно присвоить себе другое, по звучности и аристократизму далеко превосходящее имя лейтенанта Юбеля.
Но в то время как сестра моя была невестой, рок, выражаясь фигурально, костлявым пальцем уже стучался в наши двери. Ехидные слухи о состоянии дел моего бедного отца, распространившиеся в наших краях, недоверчивая сдержанность, с какой к нам стали относиться, беды, которые пророчили нашему не в меру гостеприимному дому, — все это к величайшему удовлетворению грязных злопыхателей сбылось, оправдалось и подтвердилось.
314
Потребитель решительно отвергал наши шипучие вина. Ни сильное удешевление (что, разумеется, мало способствовало повышению их качества), ни сверхсоблазнительные рекламы, которые мой крестный Шиммельпристер, вопреки своему убеждению, из чистой любезности сделал для фирмы, не привлекли симпатий винолюбивого общества к нашему товару. Последнее время заказы уже равнялись нулю; и вот в один из весенних дней, незадолго до моего восемнадцатилетия, на моего бедного отца надвинулась катастрофа.
В том нежном возрасте я ничего не понимал в коммерческих делах, да и позднее моя фантасмагорическая жизнь не давала мне возможности приобрести меркантильные знания. Посему я не буду вдаваться в предмет, мне почти незнакомый, и утруждать читателя профессиональными подробностями краха фабрики шампанских вин. Но о сердечном участии, которое мне в то время внушал мой бедный отец, я все же скажу несколько слов. С каждым днем он все глубже и глубже погружался в меланхолию, выражавшуюся в том, что он целыми днями сидел где-нибудь на стуле у стены со склоненной набок головой, пальцами правой руки неторопливо поглаживая свое брюшко и часто-часто моргая глазами. Иногда он ездил в Майнц, — эти печальные поездки предпринимались, надо думать, в надежде достать денег или сыскать какие-нибудь источники помощи; приезжал он оттуда совершенно подавленный и то и дело вытирал батистовым платочком лоб и глаза. Прежнее благодушие возвращалось к отцу, разве когда он, повязанный салфеткой, с бокалом вина в руке, председательствовал за пиршественным столом, — по вечерам в нашем доме все еще собиралось шумное общество. Но однажды во время такого собрания между моим бедным отцом и евреем-банкиром (супругом обвешанной драгоценностями особы) возникла пренеприятная и достаточно отрезвляющая словесная перепалка. Банкир этот, как я тогда же узнал, был одним из самых отчаянных живодеров, что заманивают в свои сети незадачливых и легкомысленных коммерсантов. Вскоре
315
наступил тот знаменательный, роковой, но для меня все же интересный и бодрящий день, когда фабрика и контора фирмы остались закрытыми, а в нашем доме появилась кучка почтенных господ с холодным взором и поджатыми губами, чтобы описать наше имущество.
На суде мой бедный отец в изысканных выражениях подтвердил свою неплатежеспособность и скрепил бумагу наивно вычурной подписью, которую я умел так мастерски воспроизводить, после чего дело было торжественно передано конкурсному управлению.
В тот день из-за нашего позора, уже известного всему городу, я не пошел в школу, вернее в реальное училище, окончить которое, замечу мимоходом, мне так и не было суждено: во-первых, потому, что я ни в малейшей мере не скрывал своего отвращения к деспотической тупости, характерной для этого заведения, и, во-вторых, потому, что подозрительные слухи, а затем и полное крушение нашего торгового дома восстановило против меня весь учительский персонал, более того, преисполнило его ненавистью и презрением ко мне. И на сей раз, после банкротства отца, меня не только не перевели на пасху в следующий класс, но поставили перед выбором — либо и впредь терпеливо сносить уродливые проявления тирании, в моем возрасте уже нестерпимые, либо уйти из школы и тем самым поставить крест на тех общественных преимуществах, которые дает окончание реального училища. В задорном сознании, что личные мои качества с лихвой возместят мне утрату этих жалких привилегий, я, разумеется, выбрал последнее.
Катастрофа, постигшая нас, была непоправимой, и мне стало очевидно, что мой бедный отец оттягивал ее приближение, все безнадежнее запутываясь в сетях ростовщиков, потому что точно знал — торги сделают нас не только бедняками, но нищими. Все пошло с молотка — складские запасы (впрочем, не знаю, кто согласился дать хоть грош за эту злополучную субстанцию, именовавшуюся шипучим вином); недвижимость, как то: погреба и наш загородный дом, обремененные долгами по закладным, состав-
316
лявшими более двух третей их стоимости, проценты по которым не платились в течение ряда лет; гномы, грибы и зверюшки из нашего сада, даже стеклянный шар и эолова арфа не избегли этой печальной участи. Дом наш лишился всего своего приветливого изобилия — прялка, пестрые подушки, полированные ларчики и флаконы с благовониями были вынесены на аукцион; конкурсное управление не пощадило даже алебард и веселых занавесей из раскрашенного тростника, и если забавное устройство над входной дверью уцелело в этом разгроме и по-прежнему тоненько выводило «Жизни возрадуйтесь», то только потому, что судейские его не заметили.
Собственно говоря, мой бедный отец не производил впечатления вконец сломленного человека. В нем замечалось даже известное удовлетворение по поводу того, что дела, распутать которые ему не представлялось возможным, теперь находятся в надежных руках, а так как правление банка, в чье владенье перешла наша недвижимость, сердобольно разрешило нам до поры до времени проживать в голых стенах нашего загородного дома, то у отца как-никак была еще и крыша над головой. Легковерный и добродушный по природе, он и других людей не считал за жестокосердных педантов и не думал, что они всерьез его оттолкнут; у него даже достало наивности явиться в местное акционерное общество по выработке шампанских вин и предложить свои услуги в качестве директора. Получив насмешливый отказ, он сделал еще несколько попыток встать на ноги, для чего храбро возобновил свои вечера и фейерверки. Когда и это средство не помогло, отец впал в уныние; а так как он еще полагал, что стоит нам поперек дороги и что без него мы легче пробьемся в жизни, то и решил покончить с собою. Со времени торгов прошло пять месяцев. Наступила осень. Я уже с пасхи не посещал школы и радовался временной свободе и переходному своему состоянию без определенных видов на будущее. Мы — моя мать, сестра Олимпия и я — собрались в столовой, единственной еще кое-как обставленной комнате,
317
и довольно долго не приступали к скудной трапезе, дожидаясь главы семейства. Но когда отец не появился и после того, как суп был уже съеден, сестра Олимпия, к которой он питал особую нежность, была послана в кабинет звать его к обеду. Через какие-нибудь три минуты мы вдруг услышали, что она с криком мчится вниз по лестнице, потом опять вверх и зачем-то снова вниз. Я весь похолодел и, готовый к наихудшему, ринулся в комнату отца: Он лежал на полу в расстегнутом сюртуке; одна его рука покоилась на выпуклом животе, а рядом лежал блестящий опасный предмет, из которого он выстрелил в свое чувствительное сердце. Горничная Женевьева и я подняли его и положили на софу. Покуда прислуга бегала за врачом, Олимпия с воплями носилась по дому, а мать не отваживалась выйти из столовой, я стоял, закрыв глаза руками, возле стынущей оболочки моего родителя, щедро воздавая ему дань сыновних слез.
КНИГА ВТОРАЯ
Долго пролежали эти бумаги в запертом ящике; более года нежелание писать и сомнение в плодотворности задуманного удерживали меня от того, чтобы в строгой последовательности, листок за листком, продолжать свою исповедь. На предыдущих страницах я хоть и неоднократно заверял, что веду свои записи главным образом и прежде всего для собственного развлечения, но так как я и здесь намерен воздать должное правде, то хочу откровенно признаться: садясь за письменный стол, я втихомолку все же помышлял о читателях, и без подкрепляющей меня надежды на их участие и поощрение у меня, наверное, не хватило бы усидчивости довести свою работу хотя бы до нынешней ее стадии. И уж конечно я не раз задавался вопросом — смогут ли мои правдивые признания, скромно почерпнутые из действительной жизни, соперничать с вымыслом писателей и заслужить благоволение публики, давно пресытившейся пряностями искусства? Одному богу известно — не раз говорил я себе, — каких очарований и потрясений ждут от книги, которая в силу своего заглавия как бы становится в один ряд с детективными романами, тогда как история моей жизни временами хотя и кажется необычной, даже неправдоподобной, но, конечно же, вовсе не знает ошеломляюще внезапных эффектов и запутанных интригующих положений. От всех этих мыслей мужество едва не оставило меня.
319
Но сегодня мне случайно попались на глаза уже написанные главы; не без чувства растроганности я сызнова прочитал хронику моего детства и первых отроческих лет; воодушевившись, я опять предался воспоминаниям и, в то время как передо мной оживали наиболее памятные моменты моей биографии, невольно подумал, что подробности, столь живительно действующие на меня, будут небезынтересны и широкому читателю. Стоит мне, например, припомнить, как я в одной из знаменитых столиц империи под именем бельгийского аристократа сижу с сигарой за чашкой кофе в избранном обществе, среди которого находится и начальник полиции, на редкость гуманный сердцевед, и веду беспечный разговор об авантюризме и криминалистике, или же роковой час моего первого ареста, когда один из вошедших ко мне чиновников уголовного розыска, пораженный величием момента и сбитый с толку роскошью моей спальни, постучался в открытую дверь и, старательно вытерев ноги, тихо проговорил: «Прошу прощения за смелость», — за что был вознагражден негодующим взглядом своего толстого начальника, — и я преисполняюсь радостной надежды, что мои признания, пусть уступающие вымыслам романистов в захватывающей интересности, пусть менее полно удовлетворяющие пошлое любопытство публики, тем не менее решительно превзойдут их утонченной проникновенностью и благородной правдивостью. Вот почему я снова возгорелся желанием продолжить и завершить свои записки. Отныне я намерен еще с большим тщанием следить за чистотой стиля и благоприличием оборотов, дабы вышедшее из-под моего пера могло читаться и в самых лучших домах.
Я возобновляю свой рассказ на том самом месте, где некогда прервал его, а именно на самоубийстве моего бедного отца, загнанного в тупик людским жестокосердием. Предать его земле по религиозному
320
обряду было затруднительно, ибо церковь отворачивает свой лик от подобного деяния, осуждаемого, впрочем, и моралью, свободной от канонических воззрений. Жизнь, разумеется, не высший дар небес, за который, обольщенные ее прелестью, мы должны цепляться; по-моему, ее скорее следует рассматривать как заданный, в известной мере даже нами самими выбранный, тяжелый и трудный урок, каковой нам надлежит выполнять со старательным упорством, ибо преждевременное бегство от него является величайшей нерадивостью. Но в этом частном случае я воздержался от сурового приговора и всецело отдался чувству жалости. Похоронить отца без благословения церкви мы, оставшиеся, считали невозможным — моя мать и сестра из-за людской молвы и из ханжества (они были ревностными католичками), а я в силу врожденного традиционализма, всегда меня побуждавшего предпочитать благодетельно устоявшиеся формы претензиям новейшего прогресса. Итак, поскольку у женщин не хватило на то мужества, я взялся уговорить настоятеля нашего собора, консисториального советника Шато, совершить обряд погребения.
Этот жизнелюбивый клирик, лишь недавно получивший приход в
нашем городе, которого я застал за вторым завтраком, состоявшим из омлета и
бутылки легкого вина, удостоил меня отменно любезного приема. Дело в том, что
консисториальный советник Шато был пастырем самого светского толка, убедительно
олицетворявшим своей особой блеск и аристократизм католической церкви.
Кругленький и низкорослый, но отнюдь не лишенный известного изящества, он при
ходьбе проворно и приятно покачивал бедрами и радовал глаз удивительной
округлостью жестов. Речь у него была изысканная, можно сказать образцовая, а
из-под его отлично сшитой шелковисто-черной сутаны выглядывали черные шелковые
чулки и лакированные туфли[46]. Правда, масоны и
антипаписты утверждали, будто он вынужден постоянно носить лакированную обувь из-за
того, что
321
у него потеют и скверно пахнут ноги, но мне это и посейчас кажется злостным измышлением.
Несмотря на то, что я предстал перед ним впервые, он своей белой пухлой рукой пригласил меня сесть за стол разделить с ним трапезу и любезно сделал вид, что верит моим лживым показаниям: я утверждал, будто мой отец, рассматривая давно не бывший в употреблении револьвер, нечаянно всадил в себя пулю. Всему этому он счел нужным поверить по соображениям чисто политическим (в нынешние худые времена церковь бывает рада, когда к ней кто-нибудь прибегает, хотя бы с нечистой совестью), сказал мне в утешенье несколько ласковых слов и высказал пастырскую готовность отслужить панихиду и совершить обряд погребения, расходы по которому великодушно взял на себя крестный Шиммельпристер. С моих слов его преподобие сделал себе несколько заметок относительно жизненного пути покойного. Я постарался обрисовать этот путь как радостный и почетный. Потом он задал мне ряд вопросов о моих личных обстоятельствах и видах на будущее. Я отвечал на них пространно, но довольно уклончиво.
— Вы, милый сын мой, — сказал он, — до сей поры были не очень строги к себе. Но я полагаю, что не все еще потеряно, вы производите весьма приятное впечатление, и мне в особенности пришелся по душе ваш голос. Не сомневаюсь, что фортуна будет к вам благосклонна. Рожденных в счастливый час и угодных богу я распознаю с первого взгляда, ибо судьба человека начертана на его челе письменами, которые без труда читает посвященный.
С этими словами он отпустил меня.
Радуясь услышанному, я помчался, чтобы сообщить домашним о благоприятном исходе моей миссии. К сожалению, похороны отца, хотя и церковные, нимало не походили на величаво торжественный обряд, который нам представлялся: народу собралось очень мало, и в этом, поскольку речь идет о жителях нашего города, ничего удивительного не было. Но куда подевались иногородние друзья, которые в хо-
322
рошие времена так часто любовались фейерверками моего бедного отца и так охотно распивали с ним бутылку-другую «Бернкаслер доктор». Они не почтили его похорон своим присутствием, надо думать, не потому, что были людьми неблагородными, а потому, что все серьезное, все заставляющее вспоминать о вечности, было им просто не по нутру и они избегали церемоний, способных омрачить их существование, что, конечно, свидетельствует об известной душевной низости[47]. Явился один только лейтенант Юбель из Второго Нассауского, и лишь благодаря ему мой крестный Шиммельпристер и я оказались не единственными сопровождающими гроб к разверстой могиле[48].
Тем не менее предсказание духовного отца все время стояло у меня в ушах; совпадая с моими чаяниями и надеждами, оно вдобавок еще исходило от институции, которая в столь глубоких и тайных вопросах представлялась мне законополагающей. Объяснять почему — не дело профана, и все же я возьму на себя смелость хотя бы поверхностно коснуться этого предмета. Во-первых, почтенное место на одной из ступеней иерархии римской церкви, без сомнения, помогает куда тоньше разбираться в людских рангах, чем пребывание в обывательском болоте. Высказав эту самоочевидную мысль, я попытаюсь пойти еще дальше, неуклонно придерживаясь логического ее развития. Здесь речь идет о чувстве — следовательно, об элементе чувственности. Католическая же форма богопочитания, для того чтобы ввести человека в сверхчувственный мир, опирается прежде всего на чувственное восприятие, она прокладывает для него все мыслимые пути и больше, чем любая другая религия, старается проникнуть в его тайны. Ухо, привыкшее к возвышенной музыке, к гармонии, как бы предвосхищающей хоры небожителей, может ли оно оказаться недостаточно чутким и не уловить внутреннего аристократизма в звуке человеческого голоса? Глаз, искушенный в благочестивой роскоши, в красках и в формах, представляющих на земле великолепие горних чертогов, разве может он не прозреть таинственной прелести, самой природой за-
323
ложенной в счастливого избранника? Орган обоняния, который всегда вдыхает услажденную ладаном атмосферу алтаря, орган, досрочно чующий благоухание святости, неужели не ощутит он нематериального и все же плотского духа, что исходит от счастливца, от человека, рожденного в воскресенье? Тот, кому дано свершать величайшее таинство этой церкви, таинство причастия, неужели он посредством высшего чувства осязания не отличит высокую человеческую субстанцию от низменной? Льщу себя надеждой, что при помощи этих тщательно подобранных слов я по мере возможности ясно выразил свою мысль.
Во всяком случае, пророчество патера не сказало мне ничего такого, что не подтверждалось бы моими собственными ощущениями и тем, что я видел в зеркале. Правда, временами я чувствовал упадок духа, ибо мое тело, уже однажды во всей своей мифической красе нанесенное на холст рукою художника, пока что прикрывалось уродливым поношенным платьем, а мое положение в городе было не только унизительным, но и внушающим подозрение. Отпрыск семьи с весьма сомнительной репутацией, сын банкрота-самоубийцы, бросивший ученье, молодой человек без каких бы то ни было видов на будущее, я постоянно чувствовал на себе пристальные хмурые взгляды своих сограждан — людей достаточно пустых и для меня лишенных всякого обаяния; но в силу особенностей моей натуры эти взгляды больно ранили меня, почему я, не имея еще возможности уехать из нашего города, старался как можно меньше показываться на улице.
Издавна присущие мне робость и нелюдимость, кстати сказать, отлично уживались в моем сердце с алчной приверженностью к жизни и к людям. Вдобавок эти хмурые взгляды выражали — и не только у женской половины населения — нечто вроде невольного участия, что при более благоприятных обстоятельствах очень бы меня обнадежило.
Ныне, когда лицо мое исхудало и тело начало стариться, я могу сказать без лишней скромности, что в мои девятнадцать лет сбылось все, что сулило мне отрочество, и в ту пору я, даже по собственному мне-
324
нию, расцвел в прелестного юношу. Белокурый и в то же время смуглый, с мерцающими синими глазами, со скромной улыбкой на губах, с шелковистыми волосами, зачесанными кверху надо лбом, я должен был привлекать к себе сердца моих простодушных земляков — если бы взгляд их не затуманивало неприятное сознание ложности моего положения, — как впоследствии привлекал сердца жителей всех частей света. Моя фигура, удовлетворявшая даже взыскательный глаз крестного Шиммельпристера, была отнюдь не плотной, но равномерно и пропорционально развитой, как у любителей спорта и гимнастических игр, хотя я, истый мечтатель, в жизни не занимался физическими упражнениями и ничего не делал для своего физического развития. К тому же кожа моя была столь нежна, что несмотря на свою стесненность в деньгах, я всегда покупал самое мягкое и дорогое мыло, так как дешевые сорта заставляли ее кровоточить.
Врожденные преимущества, природные дары неизменно внушают их обладателю живой и благоговейный интерес к своему происхождению, потому-то я так любил рыться в изображениях предков, в фотографиях, дагерротипах, медальонах и силуэтах, служивших мне подспорьем в моих исследованиях; горя желанием узнать, кому я обязан наибольшей благодарностью, я старался отыскать в лицах предков черты, подготовившие возникновение моей особы. Но сколько-нибудь значительным успехом эти поиски не увенчались. Правда, в облике некоторых родичей со стороны отца можно было заметить подготовительные упражнения природы (я ведь уже говорил, что и сам мой бедный отец, несмотря на свою тучность, был на короткой ноге с грациями). Но в общем я убедился, что особенно благодарить мне некого; и если отказаться от мысли, что в какой-то неизвестный момент история моего рода претерпела загадочные коллизии, вследствие которых одним из моих предков стал аристократ или вельможа, то для обоснования преимуществ, дарованных мне природой, я должен был углубиться в размышления над самим собой.
325
Почему, собственно, слова консисториального советника произвели на меня такое огромное впечатление? На этот вопрос я и сейчас могу ответить с не меньшей уверенностью, чем в те далекие годы. Он меня похвалил, за что? За приятный голос. Но ведь это свойство или дар, явно ничего общего с понятием «заслуги» не имеющий, и считать его похвальным так же не принято, как порицать кого-нибудь за косоглазие, хромоту или зоб. Ведь по мнению нашего буржуазного общества хвалы или хулы достойно только нравственное, а не природное начало; восхвалять начало природное считается нелепым и несправедливым. То, что Шато, видимо, держался обратного мнения, поразило меня своей новизной и смелостью, показалось мне выражением сознательной и упрямой независимости, к которой примешивалось даже нечто от языческой простоты, и натолкнуло меня на приятные размышления. «Очень трудно, — думал я, — провести границу между врожденным и нравственным преимуществами. Все эти портреты дядьев, теток и дедов ясно доказали, сколь немногие из моих преимуществ перешли ко мне по наследству. Но в таком случае, значит, я сам в какой-то мере выработал их? Разве верное чувство мне не подсказывает, что достоинства, которыми я обладаю, в значительной мере моя заслуга, что голос мой мог быть вульгарным, взгляд тупым и ноги кривыми, если б душа моя тому попустительствовала? Тот, кто по-настоящему любит жизнь, создает себя ей в угоду. Иными словами, если природные достоинства и не являются следствием нравственных усилий, то похвалы, которые патер расточал благозвучию моего голоса, по здравому размышлению, отнюдь не простая его причуда».
Через несколько дней после того как бренные останки моего отца были преданы земле, все мы во главе с крестным Шиммельпристером собрались на
326
семейный совет. Нам было официально предложено к новому году очистить дом, а посему принятие решения относительно дальнейшего нашего местожительства стало насущной необходимостью.
Я до сих пор не знаю, как благодарить крестного за советы и участливое внимание, с каким он, имея в виду каждого из нас в отдельности, разработал планы на будущее, впоследствии оказавшиеся (в частности, для меня) поистине благодетельными. Семейный совет состоялся в нашей бывшей гостиной, некогда уютно обставленной мягкой мебелью и полной веселья и праздничного угара, а теперь голой, разгромленной, почти пустой. Мы сидели в углу, на бамбуковых стульях с ореховыми сиденьями, когда-то стоявших в столовой за зеленым столиком — остатком гарнитура, состоявшего из вдвигающихся один в другой четырех или пяти хрупких закусочных столиков.
— Круль, — начал крестный (в фамильярном своем дружелюбии он и мать обычно называл по фамилии). — Круль, — сказал он и обратил к ней свой крючковатый нос и пронзительные глаза без бровей и ресниц, своеобразно обрамленные целлулоидными кругами очков, — вот вы нос повесили и руки опустили, а ведь совсем напрасно. На самом деле радостные и разнообразные возможности по-настоящему открываются человеку как раз после жестокой катастрофы, которую так метко называют гражданской смертью, и самое обнадеживающее положение — это то, когда нам до того плохо, что, кажется, хуже и быть не может. Уж поверьте, друг мой, человеку, который сам переживал подобные удары судьбы если не материального, то нравственного порядка. Впрочем, вам до такого состояния еще далеко, и это-то, вероятно, и подрезает вам крылья. Не падайте духом, дорогая, побольше предприимчивости. Да, в этом городе у вас со всем покончено, но что с того? Перед вами широкая дорога. Ваш личный, правда скромный, счет в Коммерческом банке еще не окончательно исчерпан. С этими деньгами вы подадитесь куда-нибудь в большой город — в Висбаден, Майнц,
327
Кельн, пусть даже в Берлин. В кухне вы как дома, простите мне неуклюжий оборот. Вы умеете стряпать пудинг из хлебных крошек и отличное кисло-сладкое жаркое из остатков вчерашнего мяса. Кроме того, вы привыкли видеть у себя множество людей, потчевать их, занимать разговором. Итак, вы снимете несколько комнат, дадите объявление, что по сходной цене принимаете нахлебников или просто жильцов без стола, и будете жить так же, как жили до сих пор, с той только разницей, что ваши гости будут вам платить. А снисходительное отношение к людям и бодрое состояние духа позволят вам устроить приятную, уютную жизнь своим пансионерам, и я, право, буду удивлен, если ваше предприятие вскоре не начнет процветать и расширяться.
Тут крестный умолк, давая нам высказать свою восторженную признательность и радость; та, к которой он обращался, тоже в конце концов к нам присоединилась.
— Что касается Лимпхен, — продолжал он (этим ласкательным именем крестный всегда величал мою сестру), — то самым простым для нее, конечно, было бы сделаться помощницей матери и скрашивать жизнь ее постояльцев, причем я не сомневаюсь, что она проявила бы себя как достойная и энергичная filia hospitalis1 Но эта возможность никогда от нее не уйдет. А пока что я имею для нее в виду нечто лучшее. В дни вашего процветания она училась петь; настоящей певицы из нее не вышло — голос у Олимпии слабый, хотя он не лишен благозвучия и в сочетании с ее внешними данными производит весьма приятное впечатление. Салли Меершаум из Кельна — мой давнишний друг, а главное из его предприятий — это театральное агентство. Он с легкостью устроит Олимпию в опереточную труппу, пусть поначалу[49] даже не первого ранга, или в какую-нибудь певческую капеллу; свой гардероб на первых порах она пополнит из моей костюмерной. Начало ее карьеры будет, по всей вероятности, нелегким, воз-
328
можно, что ей придется вступить в борьбу с жизнью. Но если она проявит характер (который важнее таланта) и сумеет извлечь профит из своего дарования, состоящего из множества разнообразных дарований, то быстро пойдет в гору и, кто знает, может быть, достигнет блистательных вершин. Я могу, конечно, только указать вам направление, наметить возможности — остальное уж ваше дело.
Взвизгнув от радости, моя сестра кинулась на шею советчику и спрятала голову у него на груди.
— А теперь, — продолжал он, и по всему было видно, что следующий пункт он принимает еще ближе к сердцу, — теперь перейдем к нашему «оборотню» (читателю понятно, на что он намекал, называя меня этим именем[50]). — Я немало поломал себе голову над проблемой его будущего и, несмотря на значительные трудности, думается, все же нашел решение, конечно временное. По этому поводу я даже затеял переписку с заграницей, точнее говоря, с Парижем, — сейчас я объясню вам, с кем именно и на какой предмет. По моему разумению, надо прежде всего открыть ему дорогу в жизнь, которая, как в силу прискорбного недоразумения полагают почтенные вершители судеб, для него закрыта. Как только он очутится на просторе, течение подхватит его и, я в этом уверен, принесет к прекрасному берегу. По моему мнению, наилучшие виды на будущее сулит Феликсу работа в большой гостинице, хотя бы в должности кельнера: я говорю не только о прямом пути (который тоже может привести к весьма почтенному положению в обществе), но и о всевозможных отклонениях и неожиданных кружных тропинках, которые не в меньшей мере, чем проторенные дороги, порой благоприятствуют счастливцу. Я помянул о переписке. Так вот, я списался с директором гостиницы «Сент-Джемс энд Олбани», Париж, улица Сент-Оноре, неподалеку от Вандомской площади (самый центр, следовательно; я покажу вам это место на плане Парижа), с Исааком Штюрцли,— мы с ним на «ты» еще с моих парижских времен. Я не только выгоднейшим образом отозвался о воспитании и характере Феликса, но
329
поручился за тонкость его обращения и расторопность. Он немного говорит по-французски и по-английски и в ближайшее время должен еще подучиться этим языкам. Штюрцли готов сделать мне одолжение и взять его на испытательный срок, конечно, без жалованья. Питание и помещение он получит бесплатно, а ливрею, которая, несомненно, будет ему к лицу, сумеет приобрести по достаточно льготной цене. Одним словом, это путь в жизнь, благоприятное поприще для развития его дарований, и я надеюсь, что наш Феликс сумеет угодить знатным постояльцам «Сент-Джемс энд Олбани».
Само собой разумеется, что я высказал этому прекрасному человеку не меньше благодарности, чем моя мать и сестра. Ненавистная ограниченность родного городишка[51], казалось, уже уходила в прошлое, широкий мир открывался передо мною; и Париж, город, при одном воспоминании о котором мой бедный отец впадал в сладостную истому, уже вставал перед моим внутренним взором во всем своем жизнерадостном великолепии. Но на деле все было не так просто, вернее, как говорят в простонародье, была тут одна загвоздка: я не имел права покинуть родину, так как подлежал призыву на военную службу. Государственная граница являлась для меня непреодолимым препятствием, покуда в моих бумагах черным по белому не будет стоять, что я освобожден от воинской повинности; вопрос о военной службе тем более тревожил меня, что я, как известно, не пользовался привилегиями окончивших учебное заведение и в случае, если б меня признали годным, должен был бы явиться в казармы как обыкновеннейший рекрут. Эта подробность, о которой я до сих пор просто старался не думать, в минуту, исполненную столь радужных надежд, тяжелым камнем легла мне на сердце. И когда я нерешительно об этом заговорил, выяснилось, что ни моя мать, ни сестра, ни сам Шиммельпристер не принимали этого обстоятельства в расчет — первые по женскому своему неведению, последний же потому, что, всю жизнь занимаясь живописью, имел очень неточное представление о та-
330
ких формальностях. С досадой заявив, что он совершенно беспомощен в подобном деле, ибо знакомств с военными врачами не имеет, а следовательно, не может повлиять на тех, от кого это зависит, крестный предложил мне выпутываться из петли собственными силами.
Итак, в этом, щекотливом деле я был предоставлен самому себе; благосклонный читатель вскоре узнает, насколько я оказался способным с ним управиться. Сначала мой живой юношеский ум был отвлечен предстоящей переменой обстановки, всевозможными приготовлениями к переезду. Поскольку моя мать намеревалась обзавестись нахлебниками уже к Новому году, то переселение наше должно было состояться еще перед рождеством. Местом нашего нового жительства был избран Франкфурт-наМайне: в таком большом городе легче может подвернуться счастливая случайность.
Как легко, как нетерпеливо, презрительно и жестокосердно покидает жаждущий простора юноша свою тесную родину, ни разу даже не оглянувшись на ее башни и холмы, покрытые виноградниками! Он уже отчужден от нее и впредь будет отчуждаться еще больше, но ее до смешного знакомый образ останется жить в глубинах его сознания и после долгих лет забвения вдруг снова всплывет на поверхность. Прошлое покажется ему тогда достойным уважения, в своих делах и успехах на чужбине, при каждой жизненной перемене, при каждом новом взлете он будет оглядываться на тот покинутый малый мирок, станет спрашивать себя, что бы сказали об этом или уже говорят там, в родном его городе. Так сделает любой одаренный юноша, к которому родина была глуха, неблагожелательна, несправедлива. Завися от нее, он всем существом ей противился, но после того, как ей пришлось его отпустить и она, вероятно, о нем уже позабыла, он добровольно предоставит ей право голоса в своей жизни. Более того, по истечении пестрых, полных событий лет его повлечет взглянуть на гавань, из которой он отплыл в житейское море, он не сможет противостоять искушению на удивленье
331
тамошним жителям и с боязливой насмешкой в сердце, узнанным или неузнанным, побродить среди старых стен в том новом, чуждом и блистательном обличье, которое успел приобрести. В должном месте я расскажу, как это было в моем случае.
Я написал в Париж учтивое письмо господину Штюрцли, сообщая ему, что вынужден повременить с отъездом до того, как будет решено, годен я или нет к военной службе; при этом я выражал ни на чем не основанную уверенность, что по причинам, не имеющим отношения к будущей моей работе, ответ окажется благоприятным. Остатки нашего имущества приобрели вид тюков и чемоданов, в одном из которых лежало полдюжины роскошных рубашек с крахмальными манишками; крестный вручил их мне на прощанье, выразив уверенность, что в Париже они сослужат мне добрую службу. И вот в тусклый зимний день мы все трое, высунувшись из окна отходящего поезда, видим, как исчезает трепыхающийся на ветру красный платок нашего друга. С этим прекрасным человеком мне довелось свидеться еще только однажды.
Не буду долго останавливаться на первых суматошных днях нашего пребывания во Франкфурте, Мне неприятно вспоминать о той жалкой роли, которую мы играли в этом богатейшем торговом городе, к тому же я боюсь наскучить читателю подробным изложением наших тогдашних обстоятельств. Умолчу и о грязной харчевне или постоялом дворе, меньше всего заслуживающем названия гостиницы, где мы с матерью (сестра Олимпия сошла с поезда в Висбадене, чтобы попытать счастья в кельнском агентстве Меершаума) из соображений экономии провели много ночей: я спал там на диване, который просто кишел кусачими, злобными насекомыми. Умолчу и о мытарствах, которые мы претерпели, разыскивая в этом большом бессердечном, враждебном беднякам
332
городе хоть мало-мальски подходящую квартиру, покуда наконец не наткнулись в одном из отдаленных кварталов на помещение в известной мере отвечающее житейским планам моей матери. Это были четыре маленькие комнаты и малюсенькая кухня в нижнем этаже флигеля с видом на безобразный двор и без единой капли солнечного света. Но поскольку эта квартира стоила всего сорок марок в месяц, а нам было не к лицу строить из себя прихотливых жильцов, то мы тут же дали задаток и поспешили в нее перебраться.
В молодости любая новизна бесконечно привлекательна, и хотя это унылое жилище не могло идти ни в какое сравнение с нашим светлым загородным домом, на меня в столь необычной обстановке нашел приступ необузданного веселья и радости. Я рьяно помогал матери в неотложных работах: передвигал мебель, вынимал из ящиков со стружками тарелки и чашки, старался покрасивее расставить в шкафу и на полках кухонную посуду и терпеливо вел переговоры с хозяином, омерзительно пузатым мужчиной подлейшего характера, относительно необходимого ремонта, от которого этот брюхач так упорно уклонялся, что матери пришлось за собственный счет произвести кое-какие поделки, дабы предназначенные ею к сдаче комнаты не имели слишком неприглядного вида. Ей это далось очень нелегко, так как расходы по переезду оказались весьма значительными и в случае задержки с пансионерами делу еще не открытому грозило банкротство.
В первый же вечер, когда мы с матерью, стоя в кухне, ужинали яичницей-глазуньей, решено было в память доброго старого времени наречь наше предприятие «Пансион Лорелея», и мы тут же вместе написали открытку, испрашивая на то одобрения крестного Шиммельпристера. Уже на следующий день я побежал в редакцию одной из наиболее читаемых франкфуртских газет со скромно, но заманчиво составленным объявлением; предполагалось, что напечатанное жирным шрифтом поэтическое название будущего пансиона непременно проймет франкфуртских
333
жителей. Относительно же дощечки, которую мы намеревались прибить у дверей, для того чтобы привлечь внимание прохожих к нашему предприятию, мы с матерью несколько дней пребывали в затруднении — она оказалась нам не по средствам. Как же описать нашу радость, когда на шестой или седьмой день нашего водворения во Франкфурте из родного города вдруг прибыла посылка весьма необычной формы; отправителем ее значился крестный Шиммельпристер, а в ящике лежала продырявленная по всем четырем углам прямоугольная дощечка, на которой красовалась собственноручно сотворенная им женская фигура с наших этикеток, в одежде из одних колец и браслетов, и надпись золотистой масляной краской: «Пансион Лорелея». Эта вывеска, прибитая к углу выходившего на улицу дома, выглядела очень эффектно: мы сумели так ее прикрепить, что дева скал указывала своей унизанной драгоценностями рукой на подворотню и двор, в котором находилась наша квартира.
И правда, скоро объявились постояльцы; первым пришел не то техник, не то инженер-механик, серьезный, молчаливый, даже угрюмый и явно недовольный своим жребием молодой человек, который, однако, платил аккуратно и вел размеренный, степенный образ жизни. Он не прожил в «Пансионе Лорелея» и недели, как у нас оказалось еще двое нахлебников, принадлежавших уже к театральному миру, а именно: комический бас, оставшийся без работы из-за полной потери голосовых средств, толстый и смешной с виду, но озлобленный свалившимся на него несчастьем. Он тщетно пытался нескончаемыми упражнениями укрепить свой голос, и когда он пел эти упражнения казалось, что кто-то, задыхаясь, взывает о помощи из пустой бочки. Вместе с ним явилась его тень женского пола — рыжая хористка в неопрятном капоте, с длинными выкрашенными в розовый цвет ногтями —до ужаса худое и, видимо, слабогрудое созданье, которое наш певец, то ли за какие-нибудь упущения, то ли просто чтобы дать выход накопившейся горечи, нередко «учил» посредством
334
своих подтяжек, что, впрочем, ни разу не поколебало ее безусловной уверенности в чувствах своего сожителя.,
Итак, эта пара занимала одну комнату, механик — другую, третья служила нам столовой, где все мы ели обеды, умело приготовленные из мизерного количества продуктов. Не желая, по соображениям благопристойности, делить комнату с матерью, я спал на кухне, постилая себе постель на лавке, и мылся над раковиной, в уверенности, что такое мое житье долго продлиться не может.
«Пансион Лорелея» начал процветать, нам приходилось тесниться, уступая место гостям, и моя мать уже с полным правом помышляла о том, чтобы расширить предприятие и нанять кухарку. Одним словом, дело налаживалось, и помощь моя была не нужна, а до отъезда в Париж или до дня, когда мне придется повязать двухцветный шарф, у меня оставалось еще много свободного времени, столь желанного и необходимого всякому незаурядному юноше. Образование дается не тупой учебной повинностью, оно — дар свободы и досуга; его не добиваются в поте лица, а вдыхают, как воздух; на него работают незримые инструменты. Потайное усердие чувства и мысли, отлично уживающееся с тем, что люди считают пустой тратой времени, ежечасно обогащает тебя знаниями, я бы даже сказал, что на избранника судьбы образование нисходит во сне. Ибо поистине надо быть созданным из податливого материала, чтобы стать просвещенным человеком. Никто не усваивает того, что не заложено в нем от рождения, и не алчет того, что ему чуждо. Тупому человеку образования не добиться, кто его приобрел, никогда не был мужланом. И здесь опять-таки очень трудно провести прямую и четкую демаркационную линию между личной заслугой и тем, что мы называем «благоприятными обстоятельствами»; ведь если доброжелательная судьба в самый подходящий момент забросила меня в большой город и от своих щедрот одарила меня временем, то, с другой стороны, начисто лишенный средств, которые раскрывают перед человеком
335
двери тех мест, где он может пополнить свое образование и получить духовное наслаждение, я был обречен заглядывать в цветущий таинственной прелестью сад только через великолепную решетку.
В ту пору я предавался сну даже чрезмерно, спал большей частью до обеда, нередко — еще позднее, и, встав, наспех съедал в кухне какие-нибудь разогретые, а не то и холодные, остатки, потом закуривал папиросу, дар нашего механика (он знал, как я падок до этой сладостной утехи и как редко могу себе ее позволить), и уходил из «Пансиона Лорелея» уже в предвечернее время, часа в четыре, в пять, когда светская жизнь в городе достигает высшей точки, богатые женщины отправляются с визитами или ездят в экипажах из лавки в лавку, кафе наполняются посетителями и витрины начинают сиять огнями. В это время я пускался в свои одинаково поучительные и занимательные прогулки по многолюдным улицам прославленного города. И частенько, внутренне обогащенный, возвращался домой уже при бледном свете зари[52].
А теперь представьте себе невзрачно одетого юношу и то, как он, без друзей и знакомых, одиноко пробирается сквозь пеструю сутолоку чужого города! У него нет денег, чтобы насладиться радостями цивилизации. Об этих радостях так проникновенно возвещают расклеенные на столбах афиши, что даже самый тупоголовый малый неминуемо должен утратить спокойствие и почувствовать прилив любопытства, а он, столь легко возбудимый, вынужден довольствоваться тем, что читает их названия, узнает о том, что они существуют. Он видит празднично освещенные подъезды театров, но ему нельзя слиться с людским потоком, устремляющимся в них, он стоит, ослепленный ярчайшим светом, который огни мюзик-холлов и варьете отбрасывают на тротуар, где у. дверей торчит сказочный великан мавр в треуголке, держа в руках жезл, с лицом, обесцвеченным, как и пурпурная его ливрея, непомерной яркостью света, и, скаля зубы, зазывает гостей на каком-то непонятном наречии; а бедному юноше нельзя откликнуться на эти зазывания! Но чув-
336
ства его возбуждены, ум напряжен; он смотрит, наслаждается, воспринимает, и если шум и толчея поначалу[53] оглушают, страшат и сбивают с толку уроженца сонного городишка, то у него все же хватает юмора и самообладания, чтобы постепенно освоиться с этой суматохой и даже обратить ее на пользу себе и своей жажде познания.
А какая великолепная выдумка — витрины! Как хорошо, что лавки, базары, художественные салоны — эти склады роскоши — не скопидомничают, не таят сокровищ в своих недрах, а широко, щедро, прельстительно выставляют их напоказ за широкими стеклами. В зимние вечера эти выставки сияют, точно солнечный день; гирлянды маленьких газовых горелок, пристроенных внизу окна, не дают стеклам покрыться изморозью. Я стоял возле них, защищенный от холода только шерстяным шарфом, обмотанным вокруг шеи (пальто, доставшееся мне в наследство от моего бедного отца, давно уже было заложено в ломбарде за весьма скромную сумму), и пожирал глазами все эти прекрасные, изящные дорогостоящие вещи, не обращая внимания на холод и сырость, пронизывавшие меня до мозга костей.
В витринах мебельщиков устроены целые комнаты: кабинеты строгие и комфортабельные; спальни, демонстрирующие утонченность интимных привычек; очаровательные столовые, где на столе, покрытом камчатной скатертью, окруженном удобными стульями, стоят цветы, мерцает серебро, тончайший фарфор, ломкие бокалы; аристократические гостиные в строгом стиле, с канделябрами, каминами и креслами, обитыми гобеленом. Я не мог досыта наглядеться на то, как ножки уютных кресел, такие изящные и благородные, тонут в багряном свечении персидских ковров. Чуть подале мое внимание привлекли витрины элегантного портняжного заведения. Здесь я увидел весь гардероб богача или вельможи — от бархатного шлафрока или подбитой атласом домашней куртки до торжественно-черного фрака, от воротничка изысканнейшей формы, точно сделанного из алебастра, до ласковых гамаш и ослепительно
337
блестящих лакированных туфель, от рубашек в полоску или крапинку до драгоценной шубы. Здесь же перед моим взором предстали и дорожные вещи богатых путешественников, эти вместилища роскоши из эластичной телячьей шкуры или ценнейшей крокодиловой кожи, с виду состоящей из сплошных заплат. У этих витрин я познакомился с принадлежностями красивой, изысканной жизни: флаконами, щетками, несессерами, футлярами для провизии и складными спиртовками в блестящем никеле. Среди всех этих предметов были соблазнительно разложены пестрые жилеты, великолепные галстуки, тончайшее белье, шляпы на атласной подкладке, замшевые перчатки и шелковые носки. Созерцая всю эту роскошь, юноша мог усвоить обиход элегантного джентльмена вплоть до последней удобно выгнутой пуговицы. А затем, стойло мне только, осторожно лавируя между звенящими трамваями и экипажами, перейти улицу, как я уже оказывался у витрины магазина художественных изделий. Тут была выставлена продукция изящных ремесел, вещи, предназначенные тешить просвещенный, опытный глаз: картины выдающихся мастеров, всевозможные зверюшки из фарфора, красивая керамика, бронзовые статуэтки; руки мои так и тянулись обласкать их стройные, благородные тела. А что значит блеск несколькими шагами дальше, такой блеск, что у прохожего ноги прирастают к земле? Это витрина известного ювелира и золотых дел мастера, и ничто, ничто кроме хрупкого стекла не отделяет продрогшего мальчика от всех сокровищ сказочной страны. Здесь у меня больше чем где бы то ни было безудержный восторг соединялся с неутолимой жаждой познания. Бледно мерцающие на кружевах нити жемчуга с крупной, как вишня, жемчужиной посредине и равномерно уменьшающимися по мере приближения к бриллиантовому замку́, — нити, которые стоят целое состояние; бриллиантовые украшения, холодно сверкающие на темном бархате, переливающиеся всеми цветами радуги и достойные .украшать шею, грудь и голову королев; гладкие золотые портсигары и рукоятки для тростей, соблазнительно раз-
338
ложенные на стеклянных подставках; между ними небрежно рассыпанные драгоценные камни, поражающие глаз величавой игрою красок: кроваво-алые рубины, смарагды — ярко-зеленые, как хрусталь, сапфиры, излучающие звездный свет из своей прозрачно-синей глуби; аметисты, о которых говорят, будто их изумительная лиловость — следствие органической примеси; опалы, меняющие цвет в зависимости от точки, с которой ты смотришь на них; несколько топазов и еще какие-то неведомые камни всех оттенков солнечного спектра. Это зрелище не только услаждало мои чувства, я изучал камни, всем существом своим углублялся в них, сравнивал их и мысленно взвешивал; в те дни я впервые осознал свою любовь к драгоценным камням, этим совершенным по составу, но, собственно, ничего не стоящим кристаллам, простейшие элементы которых соединяются в бесценное целое лишь благодаря игривой прихоти природы; и тогда же я заложил основу серьезных знаний, впоследствии приобретенных мной в этой волшебно-прекрасной области.
Не знаю, говорить ли мне[54] еще о цветочных магазинах, из дверей которых, стоило им приоткрыться, лились влажно-теплые благоухания рая, а в окнах стояли корзины, украшенные огромными атласными бантами, те, что в знак внимания посылаются женщинам. Или о писчебумажных лавках; заглядывая в их окна, я узнал, какую бумагу должен выбирать джентльмен для своей корреспонденции, и еще — что на ней должны быть выгравированы его инициалы, корона и герб. Или о витринах парфюмеров и парикмахеров, где в больших граненых флаконах были выставлены французские духи и ароматические эссенции, а в роскошно обитых футлярах лежали всевозможные аксессуары для полировки ногтей и массажа лица. Дар созерцания, а им я обладал в ту пору, составлял для меня всё — это дар, воспитующий уже потому, что он обращен на вещественное, на все заманчиво-поучительное, что только есть в мире. Но насколько же глубже бывают затронуты чувства, когда ты пожираешь глазами не вещи, а людей — возможность,
339
щедро предоставленная мне большим городом, вернее, его фешенебельными кварталами, в которых я преимущественно вел свои наблюдения! Как совсем по-другому, нежели безжизненные вещи, занимают люди мысль и внимание юноши!
О эти сцены светской жизни! Никогда не являлись они взору более восприимчивому! Кто знает, почему одна из картин, наполнявших мое сердце тоской и вожделением, картина, ничем не примечательная и вполне заурядная, так врезалась мне в память, что я и сейчас еще трепещу от восторга, вспоминая о ней? Нет, я не в силах противиться искушению воссоздать ее на этих страницах, хотя отлично знаю, что рассказчик — а им я сейчас являюсь — не должен отвлекать читателя происшествиями, из которых, вульгарно выражаясь, «ничего не проистекает», ибо они не способствуют развитию того, что принято называть «действием». Но, может быть, хоть при описании собственной жизни дозволено руководствоваться велениями сердца больше, чем законами искусства?
Еще раз повторяю: ничего особенного в этой картине не было, но она была очаровательна. Место действия находилось у меня над головой — балкон бельэтажа большой гостиницы «Франкфуртское подворье». Однажды зимним вечером на него вышли— да, да, прошу прощенья, так просто все и обстояло — двое молодых людей не старше меня, по-видимому брат и сестра, может быть даже двойняшки[55]. Головы у них были не покрыты, на себя они тоже ничего не накинули, из озорства. Оба темноволосые, явно уроженцы заморских стран, то ли южноамериканцы испано-португальского происхождения, то ли аргентинцы или бразильцы, а может быть — я ведь просто гадаю, — может быть и евреи — предположение, нисколько не умаляющее моего восторга, так как воспитанные в роскоши дети этого племени бывают очень и очень привлекательны[56]. Оба были до того хороши, что словами не скажешь, и юноша по красоте не уступал девушке. Они уже были одеты для вечера; на манишке молодого человека я заметил бриллиантовые запонки, у девушки в темных, красиво приче-
340
санных волосах сверкал бриллиантовый аграф, другой точно такой же был приколот на груди, там, где красноватый бархат платья переходил в прозрачное кружево; из таких же кружев были у нее и рукава.
Я дрожал за их туалет, ибо несколько мокрых снежинок, покружив в воздухе, уже легли на темные кудри брата и сестры. Да и вся-то их ребяческая шалость длилась не больше двух минут и была затеяна, верно, только для того, чтобы, со смехом перегнувшись через перила, посмотреть, что творится на улице. Затем они сделали вид, будто у них зуб на зуб не попадает от холода, стряхнули снежинки со своего платья и скрылись в комнату, где тотчас же зажегся свет. Исчезла чудесная фантасмагория, исчезла, чтобы уже никогда не возникнуть вновь. Но я еще долго стоял и смотрел поверх фонарного столба на балкон, мысленно пытаясь проникнуть в жизнь этих существ. И не только в эту ночь, но еще много ночей кряду, когда я, усталый от ходьбы и созерцания, засыпал на своей кухонной скамье, снились мне эти двое.
То были любовные сны, исполненные восторга и жажды слияния. Иначе я сказать не могу, хотя взволновало меня не отдельное, а двуединое явление — мельком увиденная пара, сестра и брат. Иными словами — существо моего пола и пола противоположного, то есть прекрасного. Но красота возникла здесь из двуединства, из очаровательного двоякого повторения, и я отнюдь не уверен, что образ юноши на балконе — если не говорить о жемчужинах в его манишке — хоть сколько-нибудь взбудоражил бы мои чувства, как сомневаюсь и в том, чтобы девушка без ее мужского повторения могла заставить мой дух предаться столь сладостным мечтаниям. Любовные сны — сны, которые я люблю, пожалуй, именно за первозданную нераздельность и неопределенность, за двусмысленность, а стало быть, полносмыслие, охватывающее человеческую природу в двуряде обоих полов.
«Мечтатель и разиня! — уже слышу я голос читателя. — Где же твои приключения? Уж не собрался ли ты на протяжении всей книги занимать нас чувстви-
341
тельными ламентациями[57] и треволнениями твоей сладострастной расслабленности. Что ж, так ты и продолжал прижиматься лбом и носом к огромным стеклам и сквозь щелку в кремовых занавесах заглядывать внутрь элегантных ресторанов или стоял, одурманенный пряными запахами, проникавшими из кухонь, и смотрел, как кельнеры обслуживают избранных франкфуртцев, сидящих за маленькими столиками, на которых стоят канделябры со свечами, затененными изящными экранчиками, и диковинные цветы в хрустальных вазах?»
Да, все это я проделывал и только удивляюсь, как метко удалось читателю описать зрительные наслаждения, похищенные мною у красивой жизни; кажется, будто он и сам прижимался носом к вышеупомянутым стеклам. Что же касается «расслабленности», то он скоро поймет, сколь неуместно здесь это определение и как джентльмен поспешит от него отказаться, предварительно извинившись передо мной. Но пора уже довести до его сведения, что, не ограничиваясь созерцанием, я искал и нашел способ прийти в известное соприкосновение с миром, к которому влекла меня моя природа, а именно: по окончании спектаклей я терся у театральных подъездов и, будучи малым ловким и услужливым, подзывал заждавшиеся экипажи для избранной публики, когда она, смеясь и болтая, разгоряченная сладостным зрелищем, устремлялась к выходу. Я бросался чуть не под ноги лошадям, чтобы заставить их остановиться у крытого подъезда, где дожидались мои «клиенты», или пробегал изрядный кусок по улице, разыскивая чью-то карету, усаживался на козлы рядом с кучером и, подкатив к театру, снова соскакивал, как лакей, стремглав летел открывать дверцу и при этом отвешивал владельцам экипажа столь учтивый поклон, что они чувствовали себя озадаченными. Для того чтобы доставить к подъезду эти ландо и кареты, я искательно просил счастливцев, которым они принадлежали, назвать мне свое имя и не знал большего удовольствия, как звонким голосом выкрикнуть его в воздух и обязательно с прибавлением титула, к примеру: «Карету госпо-
342
дина тайного советника Штрейзанда! Господина генерального, консула Акерблома! Господина полковника Шараленбейма или Адельслебена!»
Некоторые носители особенно, мудреных имен колебались, прежде чем назвать их, не надеясь на мою способность выговорить таковые. Одна:супружеская чета, например, которую сопровождала взрослая, но, видимо, незамужняя дочь, носила фамилию Крен де Монт-ан-Флер; эти люди были прямо-таки растроганы корректной элегантностью, с которой я, точно петух на заре, прогорланил их поэтически цветистое, сплошь состоящее из хруста и шелеста имя. Заслышав его в отдалении, старик кучер немедленно подал своим господам старомодную, но чисто вымытую карету, запряженную парой откормленных буланых.
Вожделенные монеты, порой даже серебряные, скользили мне в руку за эти услуги, оказанные сильным мира сего. Но моему сердцу дороже были, менее весомые и более обнадеживающие награды, иногда выпадавшие мне на долю, ненароком подмеченные знаки благоволения со стороны большого света: приятно удивленный взгляд, остановившийся на моей особе, любопытная улыбка. Я так заботливо отмечал про себя все эти скромные успехи, что еще и теперь мог бы поделиться воспоминаниями если не о любом из них, то уж, безусловно, о каждом мало-мальски значительном.
Как странно обстоит дело, если вдуматься поглубже, с человеческим глазом, этой жемчужиной органического строения, когда он останавливается, собираясь сосредоточить свой влажный блеск на другом человеческом существе. Изумительный этот студень, что состоит из такой же обыкновенной материи, как и все творение, подобно драгоценным камням, наглядно показывает нам: материя — ничто, все — удачное и замысловатое ее сочетание. Покуда плесень, скопившаяся: в нашей орбите и предназначенная к тому чтобы со временем, разлагаясь в могиле, вновь смешаться с жидкой грязью, одухотворена хоть искоркой жизни, ей дано строить и
343
перекидывать воздушный мост через любую пропасть отчуждения, могущую возникнуть между людьми!
О явлениях тонких и трудно уловимых говорить надо тоже без всякого нажима, а, следовательно, отступления допустимы здесь лишь при соблюдении сугубой осторожности. Счастье можно испытать только на двух полюсах человеческих взаимоотношений — где еще или уже не возникают слова: во встрече глаз и в объятии; только там царят безусловность, свобода, тайна и глубокая откровенность. Все отношения в промежутке между этими полюсами — не теплы и не холодны, условны, ограниченны, скованы принятой формой светской условности. Здесь властвует слово, это слабое, половинчатое средство, первое порождение цивилизованной умеренности, настолько чуждое страстной и молчаливой сфере природы, что можно было бы сказать: любое слово само по себе — фраза, риторика. И это говорю я, задавшийся целью написать свою автобиографию и уж, конечно, прилагающий все старания, чтобы дать ей наилучшее беллетристическое выражение.
Но мне кажется, читатель уже начинает опасаться, что за всеми этими отступлениями я легкомысленно позабыл о нависшей надо мной угрозе военной службы, а потому спешу заверить его, что дело обстояло совсем не так и что я, напротив, почти, все время с тоской размышлял об этом роковом для меня вопросе. Правда, по мере того как я мысленно распутывал завязавшийся узел, моя тоска уступала место тому радостному стеснению сердца, которое мы чувствуем, готовясь направить все свои способности на решение большой, даже грандиозной, задачи, но… тут я должен попридержать перо, ибо поддаться искушению и забежать вперед было бы весьма нерасчетливо. Поскольку я все больше и больше укрепляюсь в намерении опубликовать свое сочиненьице, конечно, если мне будет суждено его закончить, то
344
я не вправе пренебрегать теми положениями и правилами, которыми руководствуются романисты, стремясь возбудить любопытство и волнение читателя; не устояв перед соблазном и наперед выболтав все самое интересное, я бы прежде времени расстрелял свой порох и, конечно, грубо нарушил бы упомянутые правила.
Прежде всего замечу, что я с большим тщанием, можно даже сказать — строго научно, приступил к делу, остерегаясь недооценивать трудности, которые могли мне встретиться. Действовать наобум в серьезных случаях — не моя метода; напротив, я всегда старался невероятно дерзкую, по обывательскому мнению, отвагу сочетать с холодной рассудительностью и продуманнейшей осторожностью, дабы однажды начатое не кончилось для меня поражением, позором и осмеянием, и это стало залогом моих успехов. В данном случае я не только разузнал все подробности относительно предстоявшего мне прохождения медицинского осмотра, но приобрел самые точные сведения о требованиях, предъявляемых к состоянию здоровья военнообязанного, почерпнув их отчасти из разговора с нашим пансионером-механиком, в свое время отбывавшим военную службу, отчасти же из многотомного «Всеобщего справочника», который этот сокрушавшийся о своей недостаточной образованности человек водрузил на полке у себя в комнате. Наметив в общих чертах план действий, я скопил полторы марки из чаевых, полученных у театральных подъездов, и купил выставленный в окне книгопродавца медицинский труд, в чтение которого тут же и погрузился не только с великой горячностью, но и с большой пользой для себя.
Талант нуждается в знаниях, как корабль в песчаном балласте, но не менее достоверно и то, что мы по-настоящему усваиваем, более того, что мы имеем право усваивать лишь те знания, которые талант жаждет обрести в особых частных случаях, когда они нужны ему позарез, чтобы при их помощи сотворить непреложную действительность, весомую реальность. Что касается упомянутой книги, то я ею буквально зачитывался, а ночью при свече, поставленной у зер-
345
кальца в нашей кухне, спешил подкрепить почерпнутые мною знания практическими упражнениями, которые всякий, если бы кому случилось их подсмотреть, счел бы крайним дурачеством; но, занимаясь этими упражнениями, я преследовал очень ясную и разумную цель! Однако ни слова более! Скажу только, что вскоре читателю будет возмещено сторицей это необходимое здесь умолчание.
Уже в конце января я согласно предписанию явился в часть, имея при себе чин чином выправленное метрическое свидетельство и свидетельство о поведении, взятое из полицейского участка, сдержанно-уклончивая форма которого (в справке значилось, что полиции ничего предосудительного обо мне не известно) меня по-ребячески огорчала и беспокоила. В марте, когда весна уже дала знать о себе сладостным дуновением ветерка и птичьим гомоном, я получил предписание явиться в призывной округ для медицинского освидетельствования и, взяв билет четвертого класса, немедленно отбыл в Висбаден в настроении, впрочем, довольно бодром. Я знал, что участь моя в тот день еще не решится, так как почти не было человека, который не направлялся после предварительного осмотра в так называемую главную призывную комиссию, выносящую окончательное решение о годности или негодности рекрутов к военной службе. Ожидания мои оправдались. Процедура освидетельствования оказалась быстрой, ничем не примечательной и не оставила по себе никаких воспоминаний. Врач измерил мой рост, ширину плеч, выслушал меня, задал несколько беглых вопросов и воздержался от каких бы то ни было заключений. Отпущенный до особого распоряжения и чувствуя себя, как собака на длинной сворке, то есть относительно свободным, я прогулялся по великолепным паркам, которыми изобилует богатый источник Висбаден, постоял, восхищаясь и тренируя свой вкус, у витрин роскошных курортных торговых рядов и вечером вернулся во Франкфурт.
Но прошло еще два месяца (была уже вторая половина мая, и в наших краях преждевременно устано-
346
вилась летняя жара), и настал день, когда моя отсрочка истекла, длинная сворка — выше я прибег к этому образному выражению — укоротилась, и мне предстояло безотлагательно явиться в комиссию. Как билось у меня сердце, когда я снова сидел среди простонародья в вагоне четвертого класса висбаденского поезда и на крыльях пара несся навстречу решению своей участи. Мои спутники, разморенные жарой, клевали носом, но мне надо было оставаться в полном обладании сил; я сидел выпрямившись, инстинктивно избегая прислоняться к спинке, и старался вообразить себе обстоятельства, при которых мне придется испытать свои силы и которые, как это всегда бывает, конечно, сложатся совсем по-иному, чем мне сейчас представляется. И хотя меня попеременно обуревали боязнь и веселость, но исход задуманного не внушал мне тревоги. Я твердо решил идти на любую крайность и, если понадобится, пустить в ход все свои душевные и физические силы (без такой готовности, по моему твердому убеждению, вообще глупо идти на серьезный риск), а потому не сомневался в моем конечном успехе. Страшила меня только неизвестность: я не знал, сколько сил мне придется собрать и принести в жертву для достижения цели. Такая свойственная мне нежная заботливость о собственной персоне легко могла бы обернуться расслабленностью или трусостью, если бы не уравновешивалась другими, более мужественными чертами моего характера.
Как сейчас вижу низкое, но большое сводчатое помещение, куда направил меня суровый перст военного ведомства, переполненное множеством молодых людей мужского пола. Комиссии отвели первый этаж обветшавшей и запущенной казармы, унылую комнату, всеми четырьмя окнами выходившую на глинистую пригородную лужайку, закиданную всевозможным мусором, щебнем, жестянками и отбросами. За некрашеным кухонным столом сидел какой-то усатый служивый, унтер-офицер или фельдфебель, и выкликал имена тех, кому надлежало через узкую дверь идти в закут для раздевания, отгороженный от соседней
347
комнаты, где происходил медицинский осмотр. Повадки у этого служивого были грубые, рассчитанные на запугивание новичков. Он громко зевал, выбрасывал вперед руки и ноги или потешался над образовательным цензом тех, кого ему надлежало отправлять в «судилище». «Доктор философии», — выкрикивал он с насмешливым видом, словно говоря: «Мы эту философию из тебя выколотим, дружище!» Все это исполнило мое сердце страхом и отвращением.
Осмотр был на полном ходу, но подвигался медленно. И так как рекрутов вызывали по алфавиту, то те, чьи фамилии начинались на последние буквы, волей-неволей были обречены на долгое ожидание. Напряженная тишина царила в помещении, где собрались молодые люди самых различных сословий. Были здесь деревенские олухи и задиристые юнцы — представители городского пролетариата; господчики из торговых учеников, простодушные ремесленники, даже какой-то тип, причастный к театральному миру, чья упитанная синяя физиономия возбуждала сдержанное веселье: лупоглазые парни неопределенной профессии без воротников, в продранных лакированных башмаках; маменькины сынки, только что со школьной скамьи, и бледные господа, уже в летах, с остроконечными бородками и благовоспитанными манерами ученых, которые, чувствуя всю нелепость своего положения, беспокойно расхаживали по залу. Трое или четверо призывников, чьи имена должны были вот-вот выкликнуть, уже стояли у дверей босиком, раздетые до рубахи, перекинув через плечо свое платье, со шляпой и башмаками в руках. Другие, расположившись вдоль стен на узких скамейках или бочком присевши на подоконники, уже завязали знакомство и вполголоса перебрасывались словами о своем здоровье и превратностях рекрутского набора. Временами — никто не знал, каким образом, — из комнаты, где заседала врачебная комиссия, проникали слухи, что годными признано уже много юношей, а это значило, что для еще не освидетельствованных повышались шансы на благополучный исход; впрочем, эти сообщения никто не мог прове-
348
рить. В толпе перемигивались, грубовато подшучивали над теми, что стояли под всеми взглядами почти голые, так как их имена уже были названы, или направлялись к двери, сопровождаемые все более фривольным смехом, покуда злобный окрик фельдфебеля не водворял положенную тишину.
Я, по обыкновению, держался особняком, не принимая участия в праздной болтовне и соленых шутках, а когда ко мне обращались, отвечал холодно и уклончиво. Стоя у открытого окна (в переполненном зале сделался очень тяжелый воздух), я, чтобы скоротать время, смотрел то на замусоренную лужайку, то на пеструю толпу в помещении. Мне очень хотелось заглянуть в соседнюю комнату, где правила суд медицинская комиссия, чтобы получить хоть самое беглое представление о грозном штаб-лекаре, но это было невозможно, и я усиленно внушал себе, что дело не в личности этого господина и что моя судьба вовсе не в его руках, а в моих собственных. Скука тяжело давила на все умы и сердца вокруг, но я не страдал от нее. Во-первых, я от природы терпелив, могу долго обходиться без всякого занятия и люблю досуг, который одурманивающая деятельность не заволакивает, не вспугивает, не стирает из памяти. Кроме того, мне было отнюдь не к спеху приниматься за выполнение смелого и трудного урока, меня ожидавшего, и я даже радовался возможности на свободе освоиться и свыкнуться с ним.
Было уже около полудня, когда мой слух уловил имена, начинавшиеся на букву «К». Но судьба, как видно, хотела сегодня благодушно подшутить надо мной: Каммахерам, Келлерманам, Килианам, Кналлям и Кроллям, казалось, конца не будет, так что, когда наконец было произнесено мое имя и я начал разоблачаться, мои нервы были очень натянуты. Впрочем, обстоятельство это не поколебало моей решимости, а, напротив, только укрепило ее.
В день призыва я надел одну из тех крахмальных рубашек, которыми крестный снабдил меня для новой жизни и которые я из бережливости обычно не носил, но я заранее решил, что здесь хорошее белье
349
произведет выгодное впечатление. Итак, я стоял у дверей кабинета в сознании, что мне не стыдно показаться людям между двух парней в застиранных клетчатых рубашках из бумажной материи. Насколько[58] я мог заметить, по моему адресу не было отпущено ни одного насмешливого словца, и даже сержант за столом смотрел на меня с тем уважением, в котором человек подчиненного положения никогда не отказывает недоступному для него изяществу и щегольству. Я видел, что он сравнивает с моим обличьем данные, занесенные в его список, — это занятие настолько увлекло его, что он прозевал момент, когда надо было выкрикнуть мое имя, так что я даже был вынужден спросить, не пора ли мне идти, что он тут же и подтвердил. Итак, я переступил босыми ногами порог и, оказавшись один за перегородкой, положил свою одежду рядом с одеждой моего предшественника на скамью, сунул под нее свои башмаки, снял наконец крахмальную рубашку и, аккуратно расправив, присовокупил ее к остальному гардеробу. Затем я прислушался и стал ждать дальнейших приказаний.
Напряжение мое дошло до предела, сердце билось неровно и кровь, наверно, отхлынула от лица. Но к этому состоянию примешалось и другое чувство, радостного порядка, для описания которого не так-то легко подыскать слова. Не помню уже, в виде ли эпиграфа к газетной статье, или обрывка какой-то мысли, вычитанной в тюрьме, мне однажды попалась на глаза сентенция, утверждавшая, что нагота — тот образ, который нам сообщила мать-природа — всех нас уравнивает в правах и что среди голых не может быть ни табеля о рангах, ни несправедливого предпочтения. Эта мысль, очень меня рассердившая, несомненно, должна польстить черни, но в ней нет и крупицы правды, ибо подлинная табель о рангах устанавливается как раз первобытной природой, и наготу можно назвать справедливой лишь постольку, поскольку она-то и подтверждает установленную самой природой несправедливую аристократическую иерархию людского племени. Я понял это, когда мой
350
крестный Шиммельпристер впервые чудесно перенес на полотно мой образ, сообщив ему идеально обобщающее значение, и укреплялся в этой мысли всякий раз, когда видел человека освободившимся, ну хотя бы в общественных банях, от всех случайных условностей и выступающим в том виде, в каком он родился. Вот почему я ощущал живую радость, даже гордость оттого, что мне надлежало предстать перед высокой комиссией не в случайном нищенском платье, а в моем истинном, первозданном обличье.
Узкой своей стороной закут примыкал к залу заседаний, и хотя дощатая стена и скрывала от моих глаз это судилище, но ухом я улавливал все, что там происходило. Я слышал, как штаб-лекарь отдавал команду рекруту повернуться направо, налево, стать так или этак, слышал отрывистые вопросы, которые он ему задавал, ответы этого малого и его неуклюжее бормотанье о воспалении легких, явно не произведшего должного впечатления, так как оно было сухо прервано заявлением о его безусловной годности. Этот вердикт был еще повторен каким-то другим голосом, засим последовала команда: «Можете быть свободным». И рекрут вошел ко мне: сухопарый юнец с бурой полосой вокруг шеи; у него были нескладные плечи, все в желтых пятнах, шершавые колени и большие красные ступни. Я боялся, как бы он в тесноте не коснулся меня, но в это самое мгновение какой-то гнусавый, хотя и резкий голос назвал мое имя, и унтер-офицер, появившийся в дверях, кивнул мне головой. Я вышел из-за дощатой стены, повернул налево и со скромным достоинством направился к тому месту, где меня ожидали врач и члены комиссии.
В такие минуты человек бывает слеп, и потому все, что я здесь увидел, лишь смутно запечатлелось в моем взбудораженном и в то же время ошеломленном мозгу; справа от меня, срезая угол, стоял длинный стол, за которым, нагнувшись над бумагами или откинувшись на спинки стульев, сидели какие-то господа в военном и штатском. На левом фланге я заметил врача, но разглядеть его мне не удалось, тем более что за его спиной находилось окно. Под всеми
351
этими устремившимися на меня взглядами, голый, выставленный напоказ, я, точно в хмельном сне, чувствовал себя отрешенным ото всех людей и житейских условностей, безвозрастным, свободным и чистым; мне даже казалось, будто я парю в пространстве — чувство, о котором я вспоминаю не только без содрогания, а, напротив, с большим удовольствием. Как бы ни дрожали у меня руки и ноги, как бы учащенно ни билось сердце, дух мой теперь бодрствовал, более того, наслаждался покоем, и все, что я говорил и делал, было естественно и, к собственному моему удивлению, давалось мне легко, безо всяких усилий. Следствием долгой тренировки и добросовестного углубления в будущее неминуемо является то, что в решительный час человек пребывает в сомнамбулическом промежуточном состоянии между поступком и событием, действием и пассивностью, и это состояние уже не требует от нас внимательности, тем паче что действительность, как правило, предъявляет нам куда меньшие требования, чем те, к которым мы готовились, так что мы оказываемся в положении воина, отправившегося в битву до зубов вооруженным, тогда как на деле ему для победы достаточно иметь при себе всего лишь один какой-нибудь вид оружия. Тот, кто ставит на одного себя, всегда готовится к наитруднейшему, чтобы тем свободнее управиться с легким, и бывает рад, если ему для полного торжества достаточно пустить в ход самые простые средства, ибо грубые и яростные внушают ему отвращение и он прибегает к ним лишь в случае крайней нужды[59].
— Ну, это одногодичник, — проговорил за столом чей-то низкий,благожелательный голос, но тут же, к немалой моей досаде, я услышал, как другой, гнусавый и резкий, — однажды уже слышанный мной, — исправил его, заметив, что я обыкновенный рекрут.
— Подойдите ближе, — сказал штаб-лекарь. Голос у него был слабый и блеющий. Я охотно ему повиновался и, подойдя вплотную, с решимостью, может быть глуповатой, но не антипатичной проговорил:
352
— Я по всем статьям годен к военной службе.
— Не вам это устанавливать, — досадливо возразил лекарь, при этом он вытянул шею и покачал головой.
— Отвечайте на вопросы и воздержитесь от замечаний.
— Слушаюсь, господин главный врач, — тихо сказал я, хотя отлично знал, что он всего-навсего штаб-лекарь, и испуганно взглянул на него. Теперь я рассмотрел его лучше. Он был очень худ, и мундир сидел на нем мешковато. Рукава с отворотами до самого локтя были ему слишком длинны, так что из них высовывались только костлявые пальцы. Узкая и жидкая борода, того же темно-бурого цвета, что и подстриженные ежиком волосы на голове, очень удлиняла его лицо; вдобавок он еще почти все время держал рот полуоткрытым, отчего щеки казались ввалившимися, а нижняя челюсть — отвисшей. На красной переносице штаб-лекаря сидело пенсне в серебряной оправе, до того погнутое, что одно стекло налезало на веко, а другое слишком далеко отстояло от глаза.
Такова была внешность моего партнера. Услышав мои слова, он осклабился и искоса посмотрел на сидящих за столом.
— Поднимите руки! Скажите, кем вы являетесь в гражданской жизни! — приказал он и тут же, как портной, обмерил мне грудь и спину зеленым сантиметром, испещренным белыми цифрами.
— В мои намерения входит служба при гостинице, — отвечал я.
— При гостинице? Так, так, входит в ваши намерения. И когда же вы полагаете приступить к ней?
— Я и мои родные полагаем, что я вступлю в должность по отбытии военной службы.
— Гм! О ваших родных я не спрашивал. Впрочем, кто они?»
— Профессор Шиммельпристер — мой крестный отец, а мать — вдова фабриканта шампанских вин.
— Так, так, шампанских вин. А чем вы занимаетесь в настоящее время? Как у вас обстоит с нервной системой? Почему у вас дергается плечо?
353
И правда, покуда я стоял перед ним, мне вдруг почти безотчетно подумалось, что отнюдь не назойливое, но частое подергивание плечом будет здесь весьма уместно. Я вдумчиво ответил:
— Право же, я никогда не думал о своей нервной системе.
— В таком случае перестаньте дергаться!
— Есть, господин главный врач, — сконфуженно отвечал я, но тут же снова вздрогнул, на что он, впрочем, не обратил внимания.
— Я не главный врач, — проблеял он и при этом так сильно качнул склоненной головой, что пенсне едва не свалилось у него с переносицы, он поправил его всей пятерней правой руки, впрочем, совершенно напрасно, так как поднять голову он не догадался.
— Прошу прощенья, — застенчиво прошептал я.
— Отвечайте на мой вопрос.
Я растерянно и непонимающе огляделся по сторонам и просительно взглянул на членов комиссии, в глазах которых, по моему мнению, читалось участие и любопытство.
— Я спрашивал, чем вы занимаетесь в настоящее время?
— Помогаю матери, — поспешил я ответить с радостной готовностью, — в ведении хозяйства большого пансиона для приезжающих во Франкфурте-наМайне.
— Весьма похвально, — иронически заметил он и тотчас же приказал:
— Кашляните! — так как уже успел приставить черный стетоскоп к моей груди.
Мне пришлось еще много раз кашлять, покуда он прикладывал этот аппарат к моему телу. Отложив стетоскоп, он вооружился маленьким молоточком, взятым со стоящего рядом столика, и принялся меня выстукивать.
— Болели вы когда-нибудь тяжелыми болезнями? — между делом осведомился он.
Я отвечал:
— Никак нет, господин полковой врач! Тяжелыми никогда не болел. Насколько мне известно, если не
354
говорить о маленьких отклонениях от нормы, я совершенно здоров и пригоден к службе в любом роде войск.
— Да замолчите вы! — сказал он, внезапно прерывая выслушивание, и, не разгибая спины, злобно посмотрел на меня снизу вверх. — Предоставьте уж мне судить о вашей годности или негодности и не болтайте лишнего! Вы все время говорите то, о чем вас не спрашивают! — повторил он, прекращая обследование, выпрямился и отступил от меня на несколько шагов. — У вас какое-то недержание речи, я сразу это заметил. Что с вами такое? Где вы учились?
— Я кончил шесть классов реального училища, — тихонько отвечал я, явно огорченный тем, что не угодил ему.
— А почему не семь? Я потупился и бросил на него исподлобья красноречивый взгляд, который мог бы пронять кого угодно. «Зачем ты мучаешь меня? — как бы спрашивал я этим взглядом. — Зачем заставляешь меня открыться? Разве ты не видишь, не слышишь, не чувствуешь, что перед тобой стоит юноша совсем особого душевного склада, под личиной благовоспитанности и приветливости скрывающий тяжкие раны, нанесенные ему беспощадной жизнью? Как же ты нечуток, если заставляешь меня обнажать мой позор перед лицом всех этих почтенных мужей!» — Таков был мой взгляд. И да поверит мне взыскательный читатель, он не лгал, хотя я сознательно и целеустремленно заставил его отобразить тоску и смятенье. Ложь и притворство всегда легко обнаружатся, если ты воссоздаешь ощущение, тебе чуждое и незнакомое, во всех случаях сведутся к убогому кривлянью, к жалкому фарсу. Но неужели мы не вправе по мере надобности обращать себе во благо дорого доставшийся нам жизненный опыт?[60] Мой печальный укоризненный, быстрый взгляд говорил о раннем знакомстве с уродливой жестокостью жизни. Затем я испустил тяжелый вздох. — Отвечайте же, — повторил врач, несколько более мягким тоном.
355
Внутренняя борьба продолжалась во мне, когда я нерешительно заговорил:
— Я отстал и не смог закончить школу, так как часто пропускал занятия; периодические недомогания вынуждали меня оставаться в постели. Вдобавок учителя считали своим долгом ставить мне на вид недостаток внимательности и прилежания, что лишало меня последних сил и бодрости духа — ведь моей вины тут не было, как не было и небрежения своими обязанностями. На мою беду, я часто не слышал, что говорилось в классе, вернее — слышал, но не воспринимал. Мне, например, случалось не выполнять домашних заданий просто потому, что я ничего о них не знал; и не то чтобы голова моя была занята какими-нибудь посторонними, неподобающими мыслями, отнюдь нет, но получалось так, словно я не был в школе и не слышал ни объяснений по существу предмета, ни указаний учителя относительно того, что надо сделать дома. Это, конечно, вызывало раздражение педагогического персонала, с меня взыскивали очень строго, я же…
Тут слова у меня иссякли, я смешался, замолчал и как-то странно передернул плечами.
— Стоп! — сказал врач. — Вы что, туги на ухо, что ли? Отойдите-ка подальше! Повторяйте мои слова! — И он стал, нелепо артикулируя губами — тощая его бороденка при этом ходила ходуном — шептать различные числа, которые я точно и аккуратно повторял за ним; мой слух, как, впрочем, и остальные четыре чувства, искони отличался незаурядной остротой, и я не находил нужным это скрывать. Я повторял сложные числа, которые он, казалось, только чуть слышно выдыхал, и этот мой чудесный дар так его заинтересовал, что он положительно вошел в азарт: он отсылал меня в противоположный угол и на расстоянии шести или семи метров не столько произносил, сколько старался утаить четырехзначные цифры и время от времени, когда я почти наугад улавливал и повторял то, что он шептал почти не разжимая губ, многозначительно посматривал на членов комиссии.
356
— Ну что ж, — сказал он наконец с наигранным безразличием, — слышите вы отлично. Подойдите сюда и поточнее объясните нам, в чем, собственно, выражалось недомогание, заставлявшее вас пропускать занятия в школе?
Я с готовностью приблизился.
— Наш домашний врач, санитарный советник Дюзинг, называл это своего рода мигренью.
— Так, так, у вас, значит, был домашний врач? Вы изволили сказать — санитарный советник. И он это называл мигренью! Хорошо, а как же она начиналась, эта ваша мигрень? Опишите нам весь приступ! Вы чувствовали головную боль…
— Да, головную боль тоже, — подтвердил я, почтительно и с удивлением взглянув на него, — и шум в ушах, но главным образом мучительную тоску, страх, вернее полнейший упадок сил, который вскоре переходил в страшные рвотные судороги, так что меня чуть ли не выбрасывало из кровати…
— Рвотные судороги? — переспросил он. — А других судорог не бывало?
— Нет, других не бывало, — уверенно отвечал я.
— Ну, а шум в ушах?
— Шум в ушах очень мучил меня.
— А когда с вами случались эти припадки? После какого-нибудь сильного волнения? Или без всякого видимого повода?
— Если не ошибаюсь, — робея и озираясь по сторонам, отвечал я, — то это случалось обычно после того, как у меня бывали неприятности в классе, связанные с тем явлением, о котором я…
— С тем отсутствующим состоянием, когда вы не слышали или слышали, но не воспринимали того, что говорилось в классе?
— Да, господин старший врач.
— Гм, ну а теперь хорошенько подумайте и честно скажите нам, не замечали ли вы особых симптомов, которые бы постоянно предшествовали этому отсутствующему состоянию, как бы предупреждая вас о приближении приступа. Не стесняйтесь! Преодолейте свою вполне понятную робость и скажите
357
откровенно, случалось ли вам замечать нечто подобное?
Я взглянул на него и довольно долгое время смотрел ему прямо в глаза, медленно, в тяжелом раздумье покачивая головой.
— Да, у меня частенько бывало как-то странно на душе, бывало и, к сожалению, бывает, — тихо и сосредоточенно проговорил я наконец. — Временами мне кажется, будто я стою возле раскаленной печки или у огня — таким жаром вдруг полыхнет на меня; сначала я чувствую его в ногах, затем он подымается выше. С этим ощущением связан еще какой-то зуд во всем теле, очень странный, так как одновременно у меня идут круги перед глазами, разноцветные, иногда даже красивые, но меня это все-таки пугает. А тело зудит так, если мне будет позволено еще раз коснуться этого явления, словно по нему расползлись муравьи.
— Гм. И после этого вы не слышите многого из того, что говорится вокруг?
— Так точно, господин начальник госпиталя. Я многого сам в себе не могу понять; даже в домашнем быту у меня случаются какие-то глупые неприятности: иногда, например, я потом сам это замечаю, у меня за столом вдруг выпадает ложка из рук и я обливаю скатерть супом, мать потом бранит меня — взрослый человек, а при гостях — кстати сказать, у нас преимущественно бывали артисты и ученые — не умеет прилично держать себя.
— Так, значит, ложка выпадает из рук! И вы не сразу это замечаете. А скажите, пожалуйста, советовались вы с вашим домашним врачом, этим самым санитарным советником или как там еще вы его титулуете, относительно таких не вполне нормальных явлений?
— Нет, — понурившись, отвечал я.
— А почему, собственно? — настаивал он.
— Я стыдился, — сказал я запинаясь, — и никому ничего не говорил, мне казалось, что лучше сохранить это в тайне. Кроме того, в душе я надеялся, что со временем моя болезнь пройдет. В жизни я не ду-
358
мал, что найду в себе силы признаться кому-нибудь, как странно я себя чувствую по временам.
— Гм, — пробурчал он, и его бороденка насмешливо задергалась. — Вы, видно, считали, что это всегда будут объяснять просто мигренью. Вы, кажется, сказали, — продолжал он, — что ваш отец был владельцем водочного завода?
— Да, то есть владельцем завода шипучих вин,— учтиво отвечал я, одновременно соглашаясь с ним и исправляя его.
— Да, да! Завод шипучих вин. И ваш батюшка, надо думать, отлично разбирался в винах?
— Ну, разумеется, господин штаб-лекарь! — радостно подтвердил я; члены комиссии заметно оживились. — Он был настоящим знатоком.
— И, наверно, себе он тоже не любил отказывать в стаканчике доброго вина и был, как говорится, достойным бражником перед ликом господним?
— Мой отец, — отвечал я уклончиво и уже отнюдь не так бойко, — был воплощенной жизнерадостностью. Это не подлежит сомнению.
— Так, так, воплощенной жизнерадостностью. А отчего он умер?
Я не отвечал. Взглянул на него, потупился и только немного погодя дрогнувшим голосом сказал:
— Я просил бы господина штаб-лекаря, если возможно, не настаивать на этом вопросе…
— Вы здесь не вправе ничего утаивать, — строго проблеял он в ответ. — Если я спрашиваю — значит, эти сведения для нас существенны. Напоминаю вам, что в ваших интересах сообщить, отчего умер ваш отец.
— Он был похоронен по церковному обряду, — отвечал я; грудь у меня стеснило от волнения, я не мог ничего рассказать по порядку. — Я могу представить доказательства, бумаги, свидетельствующие о церковном погребении, а также о том, что за гробом шли многие офицеры и профессор Шиммельпристер. Его преподобие настоятель нашего собора отец Шато упомянул в своем надгробном слове, что револьвер выстрелил случайно, когда отец взял его, чтобы
359
получше рассмотреть, а если у него дрогнула рука, если он в тот момент вообще не совсем владел собой, то это потому, что нас посетила великая беда… — Я сказал «посетила великая беда» и употребил еще несколько высокопарных и патетических выражений. — Разорение костлявой рукой постучалось в наши двери! — воскликнул я вне себя и для пущей наглядности постучал в воздухе согнутым пальцем, — ибо мой отец попался в сети злодеев; по милости этих кровопийц и душегубов все наше имущество было распродано, вывезено… даже… эолова… эолова арфа… — бессмысленно пробормотал я, чувствуя, что меняюсь в лице, так как сейчас должно было произойти то самое. — Эолова ар…
И в это мгновенье случилось следующее: мое лицо исказилось — впрочем, этим словом мало что сказано. Оно исказилось так страшно и небывало, как может исказить лицо смертного только дьявольское наваждение, а не человеческая страсть. Оно буквально разъехалось на все четыре стороны — вверх, вниз, вправо и влево — и тут же все сжалось, как от удара; омерзительная кривая ухмылка прорезала сначала левую, потом правую щеку, соответственно один глаз зажмурился с такой силой, словно у него слепило веки, а другой раскрылся до того непомерно широко, что я, к ужасу своему, ясно ощутил — вот-вот у меня выскочит глазное яблоко. Но будь что будет, мне в эту минуту было не до нежной заботы о своих глазах. Хоть эта противоестественная мимика и должна была возбудить у всех наблюдавших ее ту степень удивления, которую уже принято обозначать словом «ужас», но она являлась еще только прелюдией к тому ведьмовскому шабашу, к той адской битве гримас и судорог, что в ближайшие секунды разыгралась на моем юном лице. Подробно описать все видоизменения черт, все отвратительные позитуры, которые принимали мой рот, нос, мои брови и щеки, короче говоря — все мои лицевые мускулы — и все это в непрестанной молниеносной смене, так что ни одна из этих мерзких гримас не повторилась дважды, —право же было бы непосильным предприятием. За-
360
мечу только, что душевные движения, которые хоть как-то отвечали бы таким физиологическим феноменам, — столь идиотическая резвость, столь крайнее удивленье, сумасшедшее сладострастье, нечеловеческая мука и буйный зубовный скрежет, — были бы уже порождением не здешнего мира, а инфернального царства, где стократ разрастаются земные наши страсти.
Тело мое тоже не оставалось покойным, хотя я стоял, и стоял все на том же месте. Голова вертелась так, что, казалось, лицо и затылок меняются местами, словно некто, завладевший моим телом, намеревался свернуть мне шею; плечи и руки как бы вывинчивались из суставов, бедра прогибались, колени ввернулись внутрь и стукались друг о друга, живот ввалился, а выпятившиеся бедра готовы были прорвать кожу; пальцы на ногах свела судорога, а в пальцах на руках не оставалось ни единого сустава, который не согнулся бы наподобие фантастического когтя; и вот в таком состоянии, точно под адской пыткой, я пробыл не меньше двух третей минуты.
Я был без сознания в продолжение этого, при столь тяжких условиях, казалось, нескончаемо долгого, времени, во всяком случае, я ничего не помню из того, что делалось вокруг; грубые окрики доносились до меня из какой-то безмерной дали, я был не в состоянии их расслышать. Очнувшись уже на стуле — его торопливо подвинул под меня обер-штаблекарь, я сильно закашлялся, давясь затхлой и тепловатой водой, которую сей ученый муж силился влить мне в глотку. Многие из членов комиссии повскакали с мест и стояли, нагнувшись над зеленым столом, с растерянными, возмущенными и брезгливыми лицами. Все по-разному выражали свои чувства по поводу только что увиденного. Один из них, например, зажал руками оба уха, и лицо его — видимо, это было следствием психической заразы — исказила нелепая гримаса; другой, прижав к губам два пальца правой руки, быстро-быстро моргал глазами.
361
Что касается меня, то я уже со спокойным, но испуганным лицом огляделся вокруг не раньше, чем закончил эту отталкивающую сцену; в смятении я быстро вскочил со стула и стал навытяжку — позиция, разумеется, никак не сочетавшаяся с моим душевным состоянием. Обер-штаб-лекарь отошел от меня, все еще не выпуская из рук стакана с водой.
— Ну что, очухались? — спросил он досадливо, хотя и не без ноток сострадания в голосе.
— Так точно, господин военный лекарь, — с готовностью отвечал я.
— Помните вы что-нибудь из того, что сейчас произошло?
— Покорнейше прошу прощения, — гласил мой ответ. — Минуту-другую я был несколько рассеян.
За столом комиссии кто-то коротко и не без горечи рассмеялся. Кто-то шепотом повторил слово «рассеян».
— По-видимому, вы были чем-то отвлечены,— сухо сказал врач. — Вы что, шли сюда в очень возбужденном состоянии? С волнением ждали решения о своей годности к военной службе?
— Не смею отрицать, — отвечал я, — что я был бы очень огорчен, если бы меня признали негодным, не знаю, как бы я стал смотреть в глаза матери в случае такого решения. В свое время у нее в доме бывало много людей, принадлежащих к офицерскому сословию; она является горячей почитательницей военной касты, и вопрос о моей службе принимает особенно близко к сердцу, ибо ждет от таковой значительной пользы для моего образования и, кроме того, надеется, что военная служба укрепит мое временами все же шаткое здоровье.
Он, видимо, не обратил ни малейшего внимания на мои слова и не удостоил меня ответом.
— Признан негодным, — изрек он, ставя стакан с водой на столик, где лежали его орудия производства: сантиметр, стетоскоп и молоточек. — Казарма — не лечебница, — бросил он мне через плечо и повернулся к столу комиссии.
362
— Призывник, — тоненько заблеял он, — страдает так называемыми эквивалентными припадками эпилепсии[61], что уже само по себе исключает вопрос о его пригодности к военной службе. Согласно моему убеждению, мы имеем здесь дело с тяжелой наследственностью: отец его много пил и, обанкротившись, покончил жизнь самоубийством. Из наивного рассказа пациента мы можем заключить, что у него имеют место явления так называемой ауры. Далее, здесь налицо тяжелые душевные состояния, которые, как мы слышали, временами приковывают пациента к постели; уважаемому коллеге санитарному советнику, — деревянная усмешка опять появилась на его тонких губах, — угодно было объяснить все это мигренями, научно же подобное явление квалифицируется как депрессия, наступающая после приступа эпилепсии. Весьма характерно для существа болезни и нежелание говорить о ней, отмеченное самим пациентом, — несмотря на свой явно общительный характер, он, по собственному признанию, предпочитал умалчивать об этих явлениях. Примечательно, что в сознании большинства эпилептиков и поныне живет нечто от старинных мистически-религиозных представлений о сути этого нервного заболевания. Призывник явился сюда во взволнованном, напряженном состоянии. Экзальтированность его речи сразу бросилась мне в глаза. О нервической конституции свидетельствовала также нерегулярная, хотя органически и безупречная, деятельность сердца и привычное, видимо непроизвольное, подергивание плечами. Но наиболее характерным симптомом я в данном случае считаю поразительную остроту слуха, обнаруженную мной в процессе дальнейшего осмотра. Не исключено, что такое сверхнормальное обострение чувств стоит в связи с тем довольно тяжелым приступом болезни, который мы сейчас наблюдали, приступом, возможно, подготовлявшимся уже в течение нескольких часов и развязанным, надо полагать, неприятным для пациента выспрашиванием. Рекомендую вам, — сказал он, обернувшись ко мне под конец своего ясного и научного заключения, тон у него снова был
363
скучливый и высокомерный, — препоручить себя заботам опытного и знающего врача. Вы признаны негодным к военной службе.
— Признан негодным, — повторил уже знакомый мне гнусавый голос.
Я стоял как в воду опущенный и не мог тронуться с места.
— Вы свободны и можете идти домой, — участливо и даже благожелательно проговорил бас, обладатель которого еще в самом начале выказал себя тонко чувствующим человеком, приняв меня за одногодичника.
Я поднялся на цыпочки, умоляюще вскинул брови и попросил:
— Нельзя ли все же сделать еще одну попытку? Разве не может быть, что солдатская жизнь укрепит мое здоровье?
Некоторые из членов комиссии, смеясь, пожали плечами, но обер-штаб-лекарь остался неумолимо суровым.
— Я вам повторяю, что казарма — не лечебница. Вы свободны! — проблеял он.
— Свободны! — повторил гнусавый голос и выкрикнул новое имя: — Латте, — так как теперь очередь дошла до буквы «Л», и на арену выступил какой-то босяк с волосатой грудью.
Я поклонился и ушел за перегородку; покуда я одевался, мне составлял компанию наблюдавший за порядком унтер-офицер.
Счастливый, но весьма серьезно настроенный и усталый — ведь я только что воспроизвел и выстрадал нечто, лежащее за пределами человеческого понимания, — раздумывая над словами обер-штаб-лекаря относительно старой точки зрения на таинственную болезнь, носителем которой он меня считал, я едва слушал добродушную болтовню этого разукрашенного дешевыми галунами унтера с напомаженной шевелюрой и закрученными усиками и лишь позднее уяснил себе его простые слова.
— Жаль мне вас, — говорил он, — ей-богу, жаль, Круль, или как вы там прозываетесь! Парень вы что
364
надо и могли бы далеко пойти на военной службе. Я сразу вижу, из кого будет толк. Жаль, очень жаль, вы для нас человек самый подходящий, они от хорошего солдата отказались. Может, вы бы даже фельдфебелем стали, если б они вас послушались.
Как я уже сказал, эта благожелательная речь не скоро дошла до моего сознания, и, покуда торопливые колеса несли меня домой, я думал втихомолку, что этот человек, пожалуй, был прав; да, когда я воображал, как отлично, изящно и естественно сидел бы на мне военный мундир, как солидно выглядел бы я все то время, что мне пришлось бы его носить, я уже почти сожалел, зачем закрыл себе доступ к такой пристойной форме бытия, к миру, где, наверное, имеют вкус к прирожденным заслугам, к неписанной субординации.
По зрелом размышлении я понял, что, приобщившись к этому миру, совершил бы грубую ошибку. Я не рожден под знаком Марса в настоящем, точном смысле этих слов. Ибо если главными приметами моей необычной жизни и были воинственная суровость, самообладание, опасности, то все же первейшей ее предпосылкой и основным условием неизменно была свобода, а это условие несовместимо с ярмом какой бы то ни было грубо доподлинной действительности. И хотя я впоследствии и вел жизнь солдата, но было бы все же глупой нелепостью обречь себя на солдатское житье. Если разумно определять такое высокое достояние, как чувство свободы, то можно сказать, что свобода есть возможность жить по-солдатски, не неся бремени военной службы, иначе — быть солдатом не в прямом, а в переносном смысле этого слова.
После этой победы, победы истинно Давидовой, иначе я не могу ее назвать, и так как время, назначенное для моего вступления в должность в парижском отеле, еще не пришло, я вернулся к жизни на
365
франкфуртских мостовых, бегло охарактеризованной мною выше, жизни, полной волнующего одиночества в водовороте света. Носясь без руля и ветрил по волнам городской суеты, я мог бы, конечно, будь у меня на то охота, завязать приятельские отношения или хотя бы знакомство со множеством подобных мне праздношатающихся молодых людей. Но я не только к этому не стремился, а скорее даже избегал такого товарищества и уж во всяком случае старался, чтобы простое знакомство не переходило в более близкие и доверительные отношения, ибо внутренний голос рано возвестил мне, что приятельство и теплая дружба — не мой удел и что мне предназначено в трудном одиночестве, не полагаясь ни на кого, кроме самого себя, неуклонно идти своим особым путем; уступая желанию быть совсем точным, скажу даже, что мне казалось, будто более тесное общение, непринужденная болтовня с собутыльниками и вообще всякий вид «амикошонства», как сказал бы мой бедный отец, заставят меня размякнуть, выдать какую-то тайну моей натуры, так сказать, разжижат мои жизненные соки и роковым для меня образом ослабят, сведут на нет удивительную эластичность моего существа.
Посему, сидя за липкими мраморными столиками ночных рестораций, которые мне случалось посещать, я противопоставлял любым попыткам сближения, любой навязчивости ту вежливость, которая присуща моему характеру и вкусу в значительно большей мере, нежели грубость, и которая, кстати, является куда более надежной крепостной стеной. Грубость ставит вас на одну доску с кем угодно; дистанцию создает только учтивость. Учтивость я призывал на помощь и тогда, когда более или менее завуалированно и дипломатично мне делались нежелательные предложения со стороны мужчин не совсем обычного склада. Полагаю, что это не слишком удивит читателя, знакомого с многогранным миром чувств, ибо и вправду ничего тут удивительного не было при той смазливой рожице, которой наградила меня природа, да и вообще при моей по
366
всем статьям привлекательной наружности, бросавшейся в глаза, несмотря на жалкую, штопаную одежду, шарф вокруг шеи и рваные башмаки. Это мое нищенское обличье, можно сказать, даже поощряло такого рода «искателей», разумеется, принадлежавших к высшим классам общества, и придавало им смелости, в то время как на женщин из тех же кругов оно производило отталкивающее впечатление. Конечно, мне случалось с радостью подмечать и улавливать знаки непроизвольного участия к моей, самой природой предпочтенной, особе и со стороны прекрасного пола. Не раз и не два я наблюдал, как при моем появлении своенравная рассеянная улыбка на бледном холеном лице вдруг становилась смущенной и принимала даже слегка растерянный, страдальческий оттенок. Твои черные глаза, о моя бесценная в парчовой ротонде, расширялись и почти испуганно смотрели на меня. Их взгляд проникал сквозь мои лохмотья, так что я нагим телом ощущал пытливое его прикосновение, потом снова вопросительно обращался к моей оболочке, глубоко впитывал в себя мой взгляд, — твоя головка при этом слегка запрокидывалась, как будто ты пьешь вино, — безмолвно отвечал мне в сладостной, тревожно-настойчивой попытке понять, утопал в моих глазах, а затем, затем тебе, конечно, приходилось «равнодушно» отворачиваться, садясь в изящный домик на колесах; и когда ты наполовину уже исчезала под его шелковыми сводами и лакей с отеческим благоволением вручал мне серебряную монету, твоя прелестная фигура, окутанная пестротканым золотом, осиянная светом дуговых фонарей у подъезда оперного театра еще как бы в нерешительности медлила секунду-другую в узкой раме каретной дверцы.
Конечно же, были и у меня тайные встречи; и воспоминание об одной из них еще сейчас вызывает во мне чувство растроганности. Но, в общем, на что нужен женщинам в золотых ротондах такой юноша, каким я был тогда, иными словами, юнец совсем еще зеленый, уже этим одним заслуживающий разве что пожатия плеч, да еще вовсе обесцененный в их-
367
глазах нищенской одеждой, полным отсутствием всего, что требуется кавалеру? Женщина замечает только джентльмена, а я не был таковым. Другое дело — охотники до окольных путей, мечтатели, те, что ищут не женщину и не мужчину, а нечто среднее, какую-то диковину[62]. И этой диковиной был я. Потому мне и требовалась сугубо отстраняющая учтивость, чтобы уклоняться от назойливых восторгов такого рода, хотя временами безутешные мольбы все же принуждали меня к мягким, примирительным увещаниям.
Я не считаю возможным с позиций высокой морали ополчаться на домогательства, в моем особом случае мне не вовсе не понятные, и скорее готов заодно с римским поэтом воскликнуть: ничто человеческое мне не чуждо. По поводу же моего собственного обучения науке любви мне хотелось бы рассказать следующее: среди многоразличных людских пород, которые представились моему взору в большом городе, одна, совсем особая и в почтенном обществе неизменно дающая щедрую пищу для фантастических измышлений, не могла не привлечь к себе внимания еще незрелого юноши. Я говорю о той части женского населения города, которая под названием «публичные женщины», «девы радости» или попросту «эти создания», а в более выспреннем тоне — «жрицы Венеры», «нимфы» и «фрины» проживает в домах терпимости либо в ночное время снует по определенным улицам и предлагает себя с разрешения властей, или в силу попустительства таковых сластолюбивой и платежеспособной части мужского населения. Мне всегда казалось, что если смотреть на это явление так, как, по-моему, вообще следовало бы смотреть на вещи, а именно свежим, не омраченным привычкой, взглядом, то мы увидели бы в нем красочный пережиток более ярких эпох, вклинившийся в наш благоприличный век, пережиток, который меня лично радовал и веселил уже самим фактом своего существования. По бедности я не мог посещать особо обозначенные дома. Но на улицах и в ночных барах мне представлялась неограниченная возможность наблюдать за этими приманчивыми созданиями-
368
Кстати надо сказать, что интерес мой не был односторонним, и если кто и дарил меня пристальным вниманием, то в первую очередь эти ночные птички, так что в скором времени, несмотря на мою обычную сдержанность, у меня со многими из них завязались дружеские отношения.
«Птицы смерти», или «трупные курочки» — так зовет народ мелких сов, которые, по старинному поверью, в стремительном ночном полете стукаются об окно смертельно больного и криком: «Идем со мною!» — зовут на свободу оробелую душу. Не странно ли, что именно к этой формуле прибегают и сомнительные ночные сестры — те, что бродят под фонарями и дерзко призывают мужчин к тайным утехам плоти? Некоторые из них дородны, как султанши, и затянуты в черный атлас, с которым призрачно контрастирует мучнистая белизна пухлого лица; другие, напротив, худы нездоровой худобой. Все они вызывающе накрашены с учетом полутьмы ночной улицы. Малиново-красные губы пылают у одних на лице, белом как мел, у других — меж густо нарумяненных щек. Их тонкие брови четко изогнуты, подведенные глаза удлинены черными штрихами и неестественно блестят из-за впрыснутого в них состава. Фальшивые бриллианты переливаются у них в ушах, на огромных шляпах покачиваются перья, в руках у всех неизменный мешочек, сумочка-ридикюль, в котором хранятся кое-какие туалетные принадлежности — губная помада, пудра и противозачаточные средства. Проходя по панели, они чуть касаются рукой твоей руки; их глаза, в которых отражается свет фонарей, устремлены на тебя из темного закоулка; их губы кривит призывная, непристойная улыбка; торопливым шепотом бросая прохожему зов «трупной курочки», они таинственным кивком головы манят его в соблазнительно неведомую даль с таким видом, словно храбреца, последовавшего этому зову и кивку, ожидают там никогда не испытанные, безграничные наслаждения.
Как часто доводилось мне издали наблюдать эти сценки, не предназначенные для стороннего глаза;
369
я видел, как хорошо одетые мужчины либо неуклонно продолжали свой путь, либо пускались в переговоры и, придя наконец к соглашению, быстрым шагом следовали за распутной своей предводительницей. Ко мне девы радости с этой целью не подступались, ибо клиент в столь убогом наряде не сулил им практических выгод. Правда, вскоре я уже мог порадоваться их внепрофессиональной благосклонности к моей особе; и хотя сам я, памятуя о своем экономическом бессилии, никогда не осмеливался к ним приблизиться, но зато они, смерив меня любопытно-одобрительным взглядом, нередко первые обращались ко мне с идущими от сердца словами: дружески расспрашивали, кто я и что я (в ответ я уверял, что нахожусь во Франкфурте так, для времяпрепровождения). И надо сказать, что, болтая в подъезде или в подворотне с целой стайкой «трупных курочек», я выслушивал немало признаний на самом вульгарном и низменном диалекте. Между прочим, было бы лучше, если бы эти создания вообще не говорили. Молча улыбаясь, кивая головой и стреляя глазами, они производят впечатление, но, едва раскрыв рот, уже рискуют утратить свой ореол. Ведь слово — враг всякой таинственности и грозный обличитель пошлости.
Впрочем, в моей короткости с ними заключалась известная прелесть, прелесть опасности. И вот почему. Тот, кто зарабатывает свой хлеб, профессионально служа похоти, сам отнюдь не возвышается над этой врожденной человеческой слабостью, ибо нельзя пестовать любострастие, пробуждать и удовлетворять его, не посвящая себя ему целиком, не питая к нему особой склонности, более того, не являясь подлинным его детищем. Так вот и получается, что эти девицы, помимо многочисленных любовников, которых они обслуживают, по большей части еще обзаводятся другом сердца, возлюбленным, и этот возлюбленный, выходец из той же низменной среды, строит свою жизнь на их мечте о счастье не менее деловито, чем они — на мечте всех других людей. Эти, как правило, наглые и на все
370
способные субъекты дарят своих любовниц радостью внеслужебных ласк, охраняют и в известной мере регулируют их труд, оказывают им своего рода рыцарственное покровительство, но зато становятся над ними полновластными хозяевами и властителями, отбирают у своей подруги львиную долю заработка и, если он кажется им недостаточным, обходятся с ней весьма сурово, она же покорно это терпит. Власти предержащие относятся к этим людям весьма неодобрительно и постоянно их преследуют. Вот почему подобные шашни таили в себе двойную опасность. Во-первых, полиция нравов могла задержать меня, приняв за одного из этих молодчиков, а во-вторых, я рисковал вызвать ревность этих тиранов и свести знакомство с их ножами, которыми они, кстати сказать, орудуют весьма умело. Итак, осторожность соблюдалась с той и другой стороны, и если многие из ночных фей недвусмысленно давали мне понять, что не прочь отдохнуть со мной от своих докучливых обязанностей, то двойная бдительность препятствовала этому до тех пор, покуда не выяснялось, что устранена хотя бы половина опасности.
Однажды вечером, после того как я допоздна с особым упорством и удовольствием предавался изучению городской жизни, мне захотелось отдохнуть от своих странствий за стаканом пунша во второразрядном кафе. На улице дул резкий ветер и хлестал дождь вперемешку со снегом, а до моего дома путь был не близкий; но и этот приют в ночную пору имел весьма негостеприимный вид: часть столов и стульев уже была нагромождена друг на друга, поломойки старательно оттирали грязный пол мокрыми тряпками, официанты от сонливости едва волочили ноги, и если я все-таки продолжал сидеть за столиком, то лишь потому, что в тот вечер мне было труднее, чем когда-либо, погрузившись в глубокий сон, отказаться от созерцания многоразличных ликов жизни.
Зал был почти пуст. У одной стены, склонившись на столик и прижавшись щекой к кожаному мешочку с деньгами, спал какой-то человек, похожий на торговца скотом, Напротив его два очкастых старика,
371
видимо страдавших бессонницей, в полном молчании играли в домино. Но через два или три столика от меня за рюмкой зеленого ликера сидела одинокая барышня, явно из «тех», но нигде еще мне не встречавшаяся; мы обменялись с ней взаимно благожелательным взглядом.
Она походила на иностранку. Из-под красного вязаного берета, сдвинутого набок, прямыми прядями свисали черные довольно коротко остриженные волосы, частично прикрывая щеки, которые из-за резко выступающих скул казались ввалившимися. У нее был вздернутый нос, большой ярко накрашенный рот и косо посаженные, словно невидящие, глаза какого-то странно необычного цвета, с чуть загнутыми кверху внешними уголками. Красный берет она носила к канареечно-желтому жакету, мягко обрисовывавшему ее малоразвитые формы; я даже заметил, что у нее длинные, как у жеребенка, ноги, а это всегда мне нравилось. Кончики ее пальцев тоже загибались кверху — мне это бросилось в глаза, когда она поднесла к губам рюмку зеленого ликера, и я подумал, что рука у нее очень горячая, может быть потому, что на ней так отчетливо проступали жилки. Вдобавок у незнакомки была привычка выпячивать и снова втягивать нижнюю губу, едва прикоснувшись ею к верхней.
Итак, мы с нею несколько раз переглянулись, хотя по ее раскосым блестящим глазам трудно было определить, куда она, собственно, смотрит, и наконец я не без смущения заметил, что она удостоила меня кивка, того кивка в любодейную неизвестность, которым ее товарки сопровождают зов «трупной курочки». Я молча вывернул наружу свой пустой карман, но она ответила мне движением, ясно говорящим, что бедность не должна меня смущать, затем повторила свой знак и, положив на мраморную доску столика плату за зеленый ликер, мягкими шагами пошла к двери.
Я тотчас же двинулся за нею. Грязный, затоптанный снег чернел на тротуарах, шел косой дождь, и большие бесформенные хлопья снега, которые па-
372
дали вместе с ним, ложились, словно мокрые мягкотелые животные, на плечи, лица и рукава прохожих. Поэтому я обрадовался, когда незнакомка кивком подозвала тащившуюся мимо извозчичью карету. Она вполголоса сказала вознице название какой-то мне совсем не известной улицы и вскочила в экипаж; я последовал за нею и тоже опустился на обтрепанное сиденье.
Только теперь, когда наша колымага загромыхала в ночной тишине, мы вступили в разговор, который я не решаюсь здесь передать, ибо не подобает благопристойному перу опускаться до грубой фривольности. Он, этот разговор, начался безо всякого вступления, без учтивых вокруг да около; с самых первых слов его отличали полнейшая свобода и разнузданнейшая безответственность, возможная разве что во сне, когда наше «я» вступает в общение с тенями — со своими же собственными порождениями. Это было нечто, казалось, совершенно немыслимое в действительной жизни, где плоть и кровь одного существуют раздельно от плоти и крови другого. Но здесь имела место именно такая разнузданность, и, признаюсь, я был до глубины души взволнован пьянящей странностью происходящего. Каждый из нас не был один, но нас было меньше, чем двое, ибо двое, как правило, сразу вступают в несвободное, условное общение; здесь же об этом не могло быть и речи. У моей подруги была манера закидывать свою ногу за мою с таким видом, словно она просто сидит нога на ногу; все, что она говорила и делала, было до удивительности вольно, смело, беспутно, как мысли человека, оставшегося наедине с собой, и я с радостной готовностью следовал ее примеру.
Короче говоря, наша беседа свелась к обоюдным признаниям в том, что мы понравились друг другу, к исследованию, обсуждению, расчленению внезапно возникшего чувства и уговору на все лады это чувство лелеять, развивать, извлекать из него пользу. Моя подруга не скупилась на восхваления отдаленно напомнившие мне похвалы мудрого клирика, некогда слышанные мною в родном городе, только что
373
ее слова одновременно носили и более общий, и более решительный характер. Ведь человек сведущий, заверяла она, с первого взгляда поймет, что я призван к служению любви и что это призвание равно пойдет во благо мне самому и человечеству, если я целиком ему отдамся и на этой основе буду строить свою жизнь. Но она хочет быть моей наставницей и основательно пройти со мной курс обучения, ибо ей ясно, что мои способности еще нуждаются в искусном руководстве… Вот что я понял из ее слов, приблизительно, конечно, так как в соответствии со своим чужеземным обличием она и говорила неправильно, на ломаном языке, собственно, вовсе не владела немецкой речью, отчего слова и обороты, ею употребляемые, частенько граничили с бессмыслицей и еще усиливали впечатление, что все это происходит во сне. Но что я хотел бы особо подчеркнуть и отметить, так это полное отсутствие легкомысленной резвости в ее манерах; при всех обстоятельствах — а обстоятельства временами складывались весьма своеобразно — она сохраняла строгую, почти сумрачную серьезность во время этой поездки по ночным улицам и на протяжении всего нашего знакомства.
Когда карета, отгромыхав свое, наконец остановилась, моя подруга заплатила извозчику. Затем мы стали подниматься по холодной темной лестнице, пропахшей копотью, пока не дошли до дверей ее комнаты, выходивших прямо на площадку. Внезапно стало очень тепло: запах сильно натопленной железной печки мешался с густым цветочным ароматом косметики, лампа распространяла темно-красный притушенный свет. Комната была убрана с сомнительной роскошью: на покрытых плюшевыми скатертями столиках в пестрых вазах искусственные букеты из пальмовых веток, бумажных цветов и павлиньих перьев; повсюду были разбросаны пушистые шкуры, и надо всем царила кровать с балдахином из красной шерстяной материи с золотой каймой. Поразило меня и обилие зеркал: зеркала я обнаружил даже там, где никому бы не пришло на ум искать их —
374
одно было вделано в изголовье кровати, другое висело рядом на стене. Но так как и она, и я испытывали желание до конца познать друг друга, то мы немедленно приступили к делу, и я пробыл у нее до наступления утра.
Роза (так звалась моя партнерша) была родом из Венгрии и происхождения самого неопределенного: ее мать прыгала в бродячем цирке через обруч, затянутый шелковистой бумагой, а отец остался неизвестным. Она рано почувствовала ненасытную склонность к прелюбодейству и совсем еще в юные годы, впрочем отнюдь не насильно, была увезена в Будапешт, где в течение нескольких лет считалась лучшим украшением дома свиданий. Но потом один венский купец, вообразивший, что жить без нее не может, путем разных хитростей и даже прибегнув к помощи Союза борьбы с торговлей живым товаром, освободил ее из этого заточения и водворил у себя. Человек уже в летах и предрасположенный к апоплексии, он чрезмерно наслаждался обладанием своей возлюбленной и неожиданно испустил дух в ее объятиях, так что Роза вдруг оказалась свободной. Она жила попеременно то в одном, то в другом городе, кормясь своим ремеслом, и совсем недавно обосновалась во Франкфурте. Неудовлетворенная чисто коммерческой «любовью», она вступила в прочную связь с одним человеком. По профессии мясник, но, благодаря своей необычной жизнеспособности и брутальной мужественности, самой природой предназначенный для совсем иных занятий — бандитизма, вымогательства и обмана, он сделался повелителем Розы и большую часть своих доходов извлекал из ее выгодного ремесла. Вскоре он был арестован за какое-то мокрое дело и на долгий срок оставил ее, а так как Роза отнюдь не хотела распроститься с личным счастьем, то тихий и непросвещенный юноша показался ей подходящим другом сердца и выбор ее пал на меня.
Эту коротенькую историю она рассказала мне в минуты отдохновения, и я отплатил ей столь же сжатым повествованием о моей прошлой жизни. Вообше
375
же мы и тогда и впредь разговаривали очень мало, ограничиваясь необходимейшими замечаниями, назначением следующей встречи или отрывистыми горячащими возгласами, сохранившимися в лексиконе Розы с детства, проведенного на цирковой арене. Разговор наш становился многословнее лишь для взаимных похвал и комплиментов, ибо то, что нам сулила первая встреча, полностью подтвердилось, и моя наставница, в свою очередь, не раз уверяла, что мои любовные таланты и добродетели превзошли самые смелые ее ожидания.
Сейчас, мой строгий читатель, я снова в положении, в каком уже находился, когда рассказывал о том, как я в ранние годы запустил руку в сладости жизни; в том месте я сделал оговорку, что нельзя смешивать поступок с его наименованием, нельзя нечто живое, кому-то одному присущее, припечатывать обобщающим словом. Ведь если я скажу, что в течение многих месяцев, до самого моего отъезда из Франкфурта, находился в тесной связи с Розой, часто оставался у нее, наблюдал украдкой на улице за теми, кого она брала в плен своими раскосыми мерцающими глазами и мимолетной ужимкой губ, а иногда, надежно укрытый, даже присутствовал при том, как она принимала у себя платную клиентуру (повода к ревности она мне при этом не давала), и не без удовольствия пользовался известной долей ее барыша, то, конечно, читатель почувствует искушение не только назвать гнусным именем мое тогдашнее существование, но и поставить его в один ряд с жизнью тех темных личностей, о которых я говорил выше. Впрочем, пусть тот, кто полагает, будто поступок ставит знак равенства между людьми, остается при своем примитивном заблуждении. Я лично, в соответствии с народной мудростью, считаю, что если двое поступают одинаково, то поступки у них все же разные; более того, я иду дальше и решаюсь утверждать, что ярлык вроде «пьяница», «игрок» или даже «развратник» не только не исчерпывает до конца каждый отдельный случай, но часто и вовсе не определяет его. Таково мое мнение; другие пусть судят иначе…
376
Но если я и описал эту интермедию со всеми подробностями, конечно не прегрешающими против правил хорошего тона, то лишь потому, что она сыграла решительнейшую роль в моем развитии. Не то чтобы она особенно расширила мои горизонты или поспособствовала большей утонченности моих манер — для этого Роза, дикий цветок Востока, была, право же, неподходящей особой. И тем не менее слово «утонченность» здесь вполне уместно, я воздержался бы от него, лишь сыскав более подходящее. Ибо не знаю, как точнее назвать ту пользу, которую я извлек из общения с суровой наставницей и возлюбленной, взыскательность которой не уступала моим талантам. Я имею здесь в виду, конечно, утонченность не столько в любви, сколько через любовь. Мне хотелось бы подчеркнуть такое противопоставление, ибо оно указывает на различие и одновременно на амальгаму средств и цели, причем первое имеет значение узкое и специальное, второе же — куда более общее. Где-то на этих листках я уже упоминал, что ввиду необычайных требований, которые жизнь предъявляла ко мне, я не имел права предаваться сладострастию, ослабляющему нервную систему. Тем не менее в течение этого полугодия, отмеченного именем не слишком благовоспитанной, но отважной Розы, я ничем иным не занимался, кроме такого «ослабления нервной системы», с той только оговоркой, что применение этого термина, заимствованного из медицинского словаря, нередко бывает сомнительным. Ибо ослабление нервной системы как раз и сообщает нам ту окрыленную нервозность, которая при должных предпосылках позволяет выставлять себя напоказ и утеху мира, что никак не дается человеку с притуплёнными нервами.
Я горжусь тем, что мне здесь удалось ненароком изобрести термин «окрыленная нервозность», которую я научно противопоставляю уничижительному смыслу термина «ослабление нервной системы».
Знаю только одно — мне не удалось бы так свободно и красиво прожить некоторые периоды моей жизни, не пройди я через трудную школу Розы. 377
Когда в канун Михайлова дня осень начала срывать листву с деревьев, которыми были обсажены улицы, для меня настала пора вступить в должность, обеспеченную мне интернациональными связями крестного Шиммельпристера. И вот в одно прекрасное утро я распростился с матерью, чей скромный пансион находился теперь в сравнительно цветущем состоянии (была даже нанята кухарка), и торопливые колеса понесли юношу, все достояние которого было уложено в небольшой чемоданчик, навстречу новой, величественной цели — навстречу столице Франции.
Они спешили, стучали, останавливали свой бег, эти колеса под вагоном третьего класса с несколькими отделениями и желтыми деревянными скамьями, на которых до отчаяния неинтересные попутчики из простонародья целый день предавались своим занятиям — храпели, чавкали, играли в карты и чесали языки. В какой-то мере теплые чувства возбуждали во мне разве что ребятишки в возрасте от двух до четырех лет, хотя они нередко хныкали или даже ревели в голос. Я угощал их дешевыми помадками, которые мать дала мне на дорогу в числе прочих припасов, ибо всегда охотно делился тем, что у меня было, и впоследствии нередко делал добро людям, отдавая немалую толику тех сокровищ, что текли ко мне из рук богачей. Дети то и дело подбегали, упирались мне в колени своими липкими ручонками и что-то лепетали, а я, к вящему их удивлению и удовольствию, отвечал им тем же. За эту возню с детьми взрослые, несмотря на всю мою сдержанность по отношению к ним, не раз награждали меня благосклонными взглядами, хотя я нимало этого не добивался. В тот день я лишний раз убедился, что чем восприимчивее человек к красоте и прелести своих собратьев, тем в большую хандру ввергает его вид жалких уродцев. Я отлично знаю, что эти люди неповинны в своем безобразии, что у них есть свои маленькие радости и тяжелые заботы, что они на краткие мгновения предаются животной любви и влачат трудное существо-
378
вание. С точки зрения морали каждый из них, несомненно, достоин сочувствия. Но стремление к красоте — алчное и в то же время легко уязвимое — принуждает меня от них отворачиваться. Они переносимы лишь в возрасте тех детишек, которых я угощал сластями и смешил подражанием их детскому лепету, платя таким образом дань необходимой общительности.
Впрочем, для успокоения читателя хочу оговориться, что я последний раз в жизни ехал третьим классом в качестве попутчика этих горемык. Та сила (которую мы зовем судьбой и которая по существу мы сами), действуя в согласии с неизвестными нам, но непогрешимыми законами, в кратчайший срок изыскала пути и средства, для того чтобы это никогда больше не повторилось.
Мой билет, разумеется, был в полном порядке, и я, как ни странно, этому радовался; для меня это значило, что и сам я в полном порядке. Бравые кондуктора в грубошерстных шинелях, в течение дня несколько раз наведывавшиеся в наш деревянный закут, чтобы продырявить билет своими щипчиками, с неизменным должностным удовлетворением мне его возвращали, — молча, конечно, и без всякого выражения на лице, иными словами, с выражением мертвенного, доходящего до аффектации безразличия, которое вновь и вновь заставляло меня задумываться о той исключающей даже любопытство отчужденности, с какой человек, и прежде всего чиновник, почитает нужным относиться к своим собратьям. Этот честный малый зарабатывал себе на жизнь тем, что прокалывал мой билет; где-то его ждал дом, на пальце у него красовалось обручальное кольцо, а значит, он имел жену и детей. Но я обязан был притворяться, что мне и в голову не приходит думать о нем как о человеке, и любой мой вопрос, доказывающий, что я не смотрю на него лишь как на административную марионетку, был бы в высшей степени неуместен. С другой стороны, и я жил своей жизнью, о которой он мог бы задуматься или спросить. Но он на это не имел права или же не удостаивал меня такого вопроса.
379
Исправность билета — вот все, что интересовало его в моей тоже марионеточной особе пассажира, а что со мной станется, когда билет больше не будет мне нужен и его у меня отберут, это уже находилось за пределами его мертвенного взора.
В таком поведении есть что-то странно противоестественное, пожалуй даже искусственное, хотя, с другой стороны, нельзя не признать, что и самое малое отступление от такового создало бы неловкость. И правда, вечером один из железнодорожных служащих с фонарем у пояса, возвращая мне билет, пристально на меня посмотрел и улыбнулся — улыбка, видимо, относилась к моему очень еще юному возрасту.
— В Париж? — осведомился он, хотя конечная цель моего путешествия была черным по белому обозначена на билете.
— Да, господин инспектор, — отвечал я, дружелюбно ему кивнув. — Вот в какую даль меня понесло.
— Что же вы там собираетесь делать? — полюбопытствовал он.
— Я, видите ли, имею хорошие рекомендации и думаю поступить на службу в гостиницу.
— Это дело! — сказал он. — Дай вам бог счастья.
— И вам желаю того же, господин обер-контролер, — отвечал я. — И, прошу вас, передайте это пожелание вашей супруге и детям!
— Что ж! Благодарствуйте! Вот так так! — Путаясь в словах, он сконфуженно рассмеялся и поспешил дальше, но каким-то неуверенным шагом, даже споткнувшись, хотя пол был ровный, — до такой степени выбила его из колеи простая человечность.
На пограничной станции, где все мы с нашими вещами вышли из поезда для таможенного досмотра, я тоже чувствовал себя удивительно легко и весело; на сердце у меня было спокойно, так как мой чемоданчик не содержал ничего незаконного с точки зрения таможенного чиновника; даже долгое ожидание (само собой разумеется, что чиновники отдавали предпочтение знатным путешественникам перед пассажирами третьего класса, чтобы позднее с тем большим рвением перерыть и выворотить из чемоданов все
380
добро последних) не повлияло на мое радостное состояние духа. С человеком, перед которым мне наконец-то было велено выложить свои пожитки и который по началу встряхивал каждую рубашку и каждый носок — не выпадет ли оттуда какая-нибудь контрабанда, я немедленно затеял заранее обдуманный разговор, что, конечно, расположило его в мою пользу и удержало от дальнейшего перетряхивания. Французы любят и уважают речь — и по праву! Ведь что же, как не речь, отличает человека от животного; кто-то справедливо сказал, что человек тем дальше от животного, чем лучше он говорит — и главное, по-французски. Ибо французы свой язык почитают за общечеловеческий. Так, по моему представлению, и жизнерадостный народец древних эллинов почитал свой идиом за единственно человеческий способ выражения мыслей, а все остальные языки — за варварское тявканье и кваканье; этому мнению непроизвольно подчинился и весь остальной мир, признав греческий, как мы нынче признаем французский, за утонченнейший язык на свете.
— Bonsoir,
monsieur le c
— Tiens! —
воскликнул он, вглядываясь в меня. — Vous semblez être un drôle de petit bonh
— Oui et non, — отвечал я. — A peu près. A moitié — à demi, vous savez. En tout cas, moi, je suis un
381
admirateur passionné de la France et un adversaire irréconciliable de l’annection de l’Alsace-Lorraine!1
Лицо его приняло выражение, которое я бы назвал сурово-растроганным.
— Monsieur, — торжественно проговорил он, — je ne vous gêne plus longtemps. Fermez votre malle et continuez votre voyage à la capitale du monde avec les bons vœux d’un patriote français!2
И покуда я, рассыпаясь в благодарностях, собирал свое белье, он уже успел поставить мелом знак на крышке моего открытого саквояжа. Но так уж было суждено, что при торопливой укладке этот саквояж в известной мере утратил свою невинность, которой я похвалялся, ибо теперь в нем стало одной вещичкой больше, чем было по прибытии на пограничную станцию. Дело в том, что рядом со мной, у обитого жестью стола, за которым орудовали таможенники, какая-то дама средних лет в норковой шубке и в бархатной шляпе клеш, отделанной перьями цапли, склонившись над своим раскрытым сундуком довольно солидных размеров, не без ожесточения препиралась с одним из чиновников, явно расходившимся с ней во мнении относительно куска кружев, который он держал в руке. Среди груды прекрасных вещей, откуда чиновник извлек спорные кружева, ближе всего к моим вещам лежал сафьяновый ящичек почти кубической формы, очень походивший на шкатулку для драгоценностей; и вот эта-то шкатулка и скользнула ко мне в чемодан как раз в ту секунду, когда мой новоиспеченный приятель ставил меловой знак на его крышке. Скорее свершенье, чем деянье, — это случилось как-то само собой и между прочим, в результате хорошего настроения, в которое я пришел после дружественного собеседования с местными властями. Во время дальней-
382
шего пути я почти не вспоминал об этом случайном приобретении и разве что на какую-то секунду задался вопросом — хватилась ли дама этого ящичка, укладывая обратно в сундук своп пожитки, или не хватилась. В скором времени мне суждено было точно узнать об этом.
Итак, замедляя ход, поезд после двенадцатичасового пути, если считать и все остановки, подкатил к дебаркадеру Северного вокзала. И покуда носильщики занимались богатыми, обремененными многочисленным багажом, пассажирами, многие из которых обменивались поцелуями со встречающими их друзьями и родными, а кондуктора́[64], не считая это для себя зазорным, в двери и окна подавали носильщикам ручные чемоданы и портпледы, — одинокий юноша среди суетливой толкотни своих неказистых спутников по третьему классу с чемоданчиком в руках, никем не замечаемый, вышел из шумного и довольно неприглядного вокзала. На грязной улице (в тот день моросил мелкий дождь) кучера фиакров, заметив, что я несу чемодан, призывно взмахивали своими кнутами и кричали мне: «Ну как, поехали, mon petit?1» или «mon vieux[65]»2, или еще что-нибудь в этом роде. Но чем бы я заплатил за поездку? Денег у меня почти совсем не было, а если сафьяновая шкатулка и могла поправить мои обстоятельства, то ведь здесь мне было не добраться до ее содержимого. Вдобавок подъезжать в фиакре к месту будущей моей службы мне не пристало. Я решил проделать весь путь пешком, сколь бы он ни был долог, и не раз вежливо обращался к прохожим, спрашивая, как пройти на Вандомскую площадь (я нарочно не упоминал ни названия отеля, ни улицы Сент-Оноре), но они даже не замедляли шагов, чтобы расслышать мой вопрос. И все же я был не похож на нищего, так как моя сердобольная мать не пожалела нескольких талеров, чтобы хоть как-то приодеть меня в дорогу. Под аккуратно заплатанные башмаки была
383
поставлена новая подошва, на мне была теплая куртка с нагрудными карманами и аккуратная спортивная шапочка на живописно выбивающихся из-под нее белокурых волосах. Но молокососа, который не может нанять носильщика, сам волочит по улицам свой багаж и не имеет денег на фиакр, питомцы нашего цивилизованного века не удостаивают ни словом, ни взглядом; они опасаются вступить с ним в какие бы то ни было отношения, предполагая в нем весьма подозрительное свойство, то есть бедность, а тем самым и еще кое-что похуже, почему общество и почитает за благо попросту не замечать такого неудачника. Говорят, что «бедность не порок», но это только слова. Человека имущего от нее бросает в дрожь, он ее воспринимает то ли как срам, то ли как неопределенный укор, в общем же — как нечто отвратительное и всегда помнит, что лучше с ней не связываться во избежание неприятных осложнений.
Я не раз с болью подмечал такое отношение к бедности; то же самое происходило и в день моего приезда. Наконец я остановил одну старушку, которая — не знаю зачем и почему — толкала перед собой детскую колясочку, набитую какой-то посудой, и она, единственная из всех, не только указала нужное мне направление, но и подробно описала место, где я выйду к омнибусной линии, ведущей на знаменитую площадь. Те несколько су, которые стоил этот вид передвижения, были мне по карману, и я обрадовался полученным сведениям. Чем дольше, объясняя мне дорогу, вглядывалась в меня добрая старуха, тем шире расплывался в улыбке ее беззубый рот; наконец она потрепала меня по щеке своей жесткой рукой и сказала:
— Dieu vous bénisse, mon enfant1.
И эта ласка была мне дороже, чем ласки более красивых рук, которые впоследствии выпадали мне на долю.
Париж отнюдь не производит восхитительного впечатления на приезжего, вступающего на его
384
стогны[66] с этого вокзала, но роскошь и великолепие возрастают по мере приближения к величавым площадям, являющимся сердцем этого города; держа на коленях свой чемоданчик, я не то что робко (робость я мужественно подавлял в себе), но изумленно и благоговейно взирал с узкого местечка, которое мне удалось отвоевать в омнибусе, на пылающий блеск его улиц и площадей, на сутолоку экипажей, толкотню прохожих, на сияние его прельстительных витрин, на манящие кафе и рестораны, на театры, ослепляющие глаза белым светом дуговых фонарей, покуда кондуктор выкликал названия, которые так часто и с такой нежностью произносил мой бедный отец, вроде: Площадь Биржи, улица Четвертого сентября, бульвар Капуцинов, площадь Оперы — и так далее.
Уличный шум, пронзаемый криками продавцов газет, был оглушителен, свет ярок до умопомрачения. Под навесами кафе за маленькими столиками сидели люди в пальто и шляпах, с тростью, зажатой между колен, и, точно в театре, смотрели на толпы пешеходов и проносящиеся экипажи, а между их ног ползали какие-то темные фигуры, подбирая окурки сигар. Нисколько этим не смущаясь, они попросту не замечали бедных ползунов или же считали их нормальным и узаконенным порождением цивилизации, за радостной суетой которой они с таким удовольствием наблюдали из своего укрытия.
Всякому образованному человеку известно, что гордая улица Мира связывает площадь Оперы с Вандомской площадью; там, у обелиска, увенчанного статуей великого императора, я вышел из омнибуса, чтобы пешком добраться до истинной моей цели — улицы Сент-Оноре, идущей параллельно улице Риволи. Отыскать эту цель было нетрудно: еще издали бросились мне в глаза довольно крупные и ярко светящиеся буквы на вывеске отеля «Сент-Джемс энд Олбани». У подъезда была суета. Господа, собираясь сесть в наемную карету с привязанными к ее задку сундуками, раздавали чаевые суетящимся вокруг них
385
слугам, в то время как другие лакеи втаскивали в вестибюль багаж только что прибывших постояльцев, Я добровольно иду на то, чтобы вызвать улыбку читателей, признаваясь в известной робости, которую я испытывал при мысли, что у кого-то хватает смелости непринужденно войти в этот элегантный, дорогой отель. Но разве право и долг не объединились, чтобы придать мне мужества? Разве мне не назначено сюда явиться и разве я не определен здесь к месту? И разве мой крестный Шиммельпристер не на «ты» с главой этого заведения? Тем не менее я из скромности воспользовался не вертящимися дверями, через которые проходили новоприбывшие, а боковым входом, куда носильщики вносили багаж. Но эти последние — не знаю уж, за кого они меня приняли, но, во всяком случае, не за своего брата — отослали меня обратно, и мне не осталось ничего другого, как, держа в руках чемоданчик, войти в великолепные двери, повернуть которые мне, к великому моему смущению, помог стоявший при них мальчик в красной курточке. «Dieu vous bénisse, mon enfant», — поблагодарил я его словами той доброй старушки, отчего он разразился столь же неудержимым смехом, как те ребятишки, которых я забавлял в поезде.
Я очутился в великолепном зале с порфировыми колоннами и хорами, наполненном людьми; одни расхаживали по нему из конца в конец, другие, одетые по-дорожному, в том числе и дамы с дрожащими собачонками на коленях, сидели в глубоких креслах, расставленных на коврах у подножия колонн. Какой-то ливрейный юнец в порыве служебного усердия попытался взять у меня из рук чемоданчик, но я отклонил его услуги и немедленно двинулся направо, к стойке, за которой сидел портье, томный господин с холодным взглядом, в обшитом галуном сюртуке, явно привыкший взимать солидную дань с постояльцев. Он давал справки на трех или четырех языках обступившей его публике и в то же время с любезной улыбкой вручал ключи от комнат тем, кто их требовал. Я долго ждал, прежде чем мне уда-
386
лось улучить минуту и осведомиться у него, когда и где я могу сподобиться чести предстать перед господином главноуправляющим Штюрцли.
— Вы хотите говорить с господином Штюрцли? — переспросил он с оскорбительным удивлением.
— Но кто вы такой? — Новый служащий отеля, — отвечал я, — наилучшим образом рекомендованный господину главноуправляющему.
— Étonnant!1 — заметил сей высокомерный субъект и с насмешкой, глубоко меня задевшей, добавил: — Не сомневаюсь, что мсье Штюрцли уже давно сгорает от нетерпения, ожидая вашего визита. Не сочтите за труд пройти несколько шагов дальше, в приемную.
— Бесконечно вам признателен, monsieur le concierge2, — отвечал я. — Пусть щедрые чаевые и впредь со всех сторон стекаются к вам, дабы вы в ближайшее время получили возможность удалиться в частную жизнь.
— Идиот! — донеслось мне вслед. Но меня это нимало не огорчило и не задело. Не выпуская из рук чемоданчика, я пошел дальше, в приемную, и правда расположенную всего в нескольких шагах от стойки консьержа на той же стороне зала. Ее осаждали еще энергичнее. Многочисленные приезжие желали лично говорить с двумя восседавшими там мужами в изысканных смокингах, осведомлялись о заранее заказанных апартаментах, узнавали номера предоставленных им комнат и тут же заполняли «листки для приезжающих». Мне пришлось набраться терпения, прежде чем я подошел к столу; но в конце концов я все же очутился лицом к лицу с одним из двух директоров — еще довольно молодым человеком в пенсне, с закрученными кверху усиками на землисто-бледном лице, не знающем свежего воздуха.
— Вам угодно номер? — осведомился он, так как из скромности я не заговорил первым.
387
— О нет, нет, господин директор, — улыбаясь, отвечал я. — Я здешний служащий, если мне дозволено будет уже сейчас так называть себя. Мое имя Круль, Феликс Круль. Я явился сюда, чтобы, согласно договоренности между господином Штюрцли и моим крестным, профессором Шиммельпристером, выполнять любую работу, которая будет на меня возложена.
— Отойдите в сторону, — быстрым шепотом приказал он. — Вон туда, подальше!
При этих словах его землистое лицо порозовело и он тревожно огляделся вокруг; казалось, появление перед публикой нового служащего без ливреи, в обычном своем человеческом обличье, привело его в сильнейшее замешательство. И правда, глаза нескольких человек с любопытством обратились на меня. Некоторые даже перестали заполнять свои листки, чтобы получше в меня вглядеться.
— Certainement, monsieur le directeur!1 — вполголоса отвечал я и встал на почтительном расстоянии даже от тех, что пришли много позднее меня. Таких, впрочем, было немного, через две-три минуты приемная и вовсе опустела, на короткий срок вероятно.
— Ну, где вы там, — обратился ко мне господин с землисто-серым лицом.
— L'employé volontaire2 Феликс Круль, — отвечал я, не двигаясь с места; я хотел, чтобы он попросил меня подойти.
— Подойдите же сюда, — раздраженно проговорил он. — Или вы полагаете, что я буду перекрикиваться с вами на таком расстоянии?
— Я отошел подальше согласно вашему приказанию, господин директор, — ответил я, приблизившись, — и дожидался нового распоряжения.
— Я должен был вам это приказать, — возразил он. — Что вам здесь нужно? И как вам вообще взбрело на ум явиться сюда через парадный ход и, здорово живешь, смешаться с нашими клиентами?
— Тысячу раз прошу прощения за этот промах, —< 12 ЗЬ
388
с виноватым видом отвечал я. — Я не нашел другой дороги, кроме как через вестибюль. Но да будет мне дозволено заметить, что меня не отпугнул бы самый трудный, темный и окольный путь, лишь бы предстать перед вами, господин директор.
— Это еще что за манера выражаться! — рассердился он, и нежный румянец снова проступил на его бледном лице.
Мне его способность краснеть почему-то понравилась.
— Не пойму, дурак вы или не в меру интеллигентны, — добавил он.
— Надеюсь, — возразил я, — в кратчайший срок доказать своему начальству, что моя интеллигентность не выходит за пределы положенного.
— Сомневаюсь, чтобы вам была предоставлена эта возможность. В настоящее время, насколько мне известно, у нас вакантных мест не имеется. — Тем не менее я позволю себе заметить, — напомнил я, — что относительно меня существует твердая договоренность между господином Штюрцли и его другом юности, а моим крестным отцом. Я не осмелился беспокоить господина Штюрцли, ибо хорошо понимаю, что он не сгорает от нетерпения увидеть меня, и не тешу себя надеждой в скором времени или вообще когда-либо увидеть господина Штюрцли. Но дело не в этом. Все мои помыслы и попечения, monsieur le directeur, были направлены на то, чтобы представиться вам и от вас, и только от вас, получить указания, где, когда и какого рода службой я смогу принести посильную пользу отелю «Сент-Джемс энд Олбани».
— Mon Dieu, mon Dieu!1 — донеслось до меня. Тем не менее он подошел к стенному шкафу, достал оттуда объемистую книгу и, чуть послюнявив указательный и средний пальцы, стал досадливо листать в ней. Видимо, найдя то, что ему было нужно, он обернулся ко мне.
— Так или иначе, но сейчас живо убирайтесь
389
туда, где вам надлежит находиться! Вы будете приняты в штат, в этом пункте вы правы…
— Но это наиболее существенный пункт, — заметил я.
— Mais oui, mais oui!1 Боб, — окликнул он одного из мальчиков-посыльных, которые сложа руки сидели на скамейке в глубине комнаты, ожидая поручений. — Покажите вот этому дортуар номер четыре в верхнем этаже. Поедете на багажном лифте! Завтра утром вы получите соответствующее распоряжение,— бросил он мне напоследок. — Марш!
Веснушчатый паренек, видимо англичанин, пошел впереди меня.
— Хорошо, если бы вы немножко понесли мой чемодан, — обратился я к нему по дороге. — У меня, честное слово, уже руки онемели.
— А что вы мне за это дадите? — полюбопытствовал он.
— У меня ничего нет.
— Ладно, тогда я и так снесу. Не радуйтесь, что вас назначили в четвертый дортуар! Скверное помещение! Нам тут всем неважно живется. И пища плохая, и жалованье грошовое. Но о забастовке нечего и думать. Слишком много охотников поступить на наши места. Надо бы послать к черту всех этих эксплуататоров вместе с их заведением. Я, надо вам сказать, анархист, voilà ce que je suis2.
В нем было что-то очень милое и ребячливое.
Мы вместе поднялись на лифте в верхний этаж, где он, предоставив мне уже самому нести чемодан, показал на какую-то дверь в слабо освещенном коридоре с ничем не покрытым полом и пожелал bonne chance3.
Надпись на двери и вправду гласила: дортуар номер четыре. Из осторожности я постучался, но ответа не последовало; спальня, хотя шел уже одиннадцатый час, оказалась совершенно пустой и темной. Вид
390
этого помещения, когда я повернул выключатель и на потолке зажглась лампа без абажура, не слишком меня порадовал. Восемь коек с серыми байковыми одеялами и плоскими подушками в давно не стираных[67] наволочках были укреплены попарно, одна над другой, между ними во всю вышину стен были устроены открытые шкафы, на полках которых стояли чемоданы и баулы здешних обитателей. Никакой другой мебели в этой комнате с единственным окном, видимо выходившим во двор, замкнутый стенами, не было, да для нее и не нашлось бы места: ширина комнаты настолько уступала длине, что посередине оставался лишь узкий проход. Значит, даже одежду на ночь приходилось класть либо в ногах кровати, либо на свой чемоданчик в стенном шкафу.
«Ну-ну, — подумал я, — и зачем, спрашивается, я положил столько трудов, чтобы избежать казармы! Там обстановка, наверно, не более спартанская». Правда, я уже давно не почивал на розах — с того самого времени как прахом рассыпался мой веселый отчий дом, и, кроме того, я знал, что человек и обстоятельства, даже если они поначалу очень суровы, в конце концов все же сливаются в более или менее стройный аккорд и что есть даже такие счастливые натуры, что умеют придавать обстоятельствам известную гибкость, основанную не на одном только умении приспособляться. Одна и та же обстановка не для всех одинакова: общие условия под воздействием личности весьма значительно видоизменяются.
Да простится это отступление уму, направленному на осмысление миропорядка, уму, всегда склонному останавливаться не на уродливых и суровых, а, напротив, на приятных и тонких явлениях жизни. Один из стенных шкафов был пуст, из чего я заключил, что и одна из восьми кроватей должна быть вакантной, только я не знал, какая именно, и очень об этом сожалел, так как изрядно устал с дороги и мой молодой организм жаждал сна. Но, делать нечего, надо было дожидаться прихода товарищей по комнате. Я попытался скоротать время, обследуя примыкавшую к дортуару умывальную, дверь туда стояла открытой.
391
В этой комнатке было пять скверных умывальных столиков со всеми принадлежностями, как то: таз, ведро и кувшин, — пол был застлан линолеумом. Зеркал и в помине не было. Вместо них на двери и стенах, так же, впрочем, как и в спальном помещении, там, где только находился свободный кусочек стены, кнопками были прикреплены вырезанные из журналов портреты всевозможных красавиц. Не слишком утешенный своим обследованием, я вернулся в спальню и, чтобы хоть чем-нибудь заняться, решил достать из чемодана ночную рубашку, но наткнулся на шкатулочку, которая при таможенном досмотре так легко в него скользнула, и, обрадованный, тут же занялся ею.
Возможно, что любопытство и желание поскорее узнать, что же составляет содержимое этой шкатулки, все время жило у меня в подсознании и ночная рубашка была только предлогом для того, чтобы поскорее с ним ознакомиться, — вопрос этот я оставляю открытым. Усевшись на одну из нижних коек и поставив шкатулку на колени, я, страстно надеясь, что никто мне не помешает, принялся ее обследовать. На шкатулке, правда, имелся замочек, но не запертый: она была закрыта только на крючок. Нельзя сказать, что я обнаружил там сказочные сокровища, но вещи, в ней хранившиеся, оказались премилыми, иные даже восхитительными. С самого верху, во вставном открытом ящичке, как бы разделявшем внутренность шкатулки на два этажа, лежало ожерелье из нескольких рядов крупных топазов в чеканной оправе, равного которому по красоте я не видел ни в одной витрине, да и не удивительно — оно было старинной, очень старинной работы. Ожерелье это показалось мне олицетворением роскоши; чарующее мерцанье золотисто-прозрачных, точно мед, камней привело меня в такой восторг, что я долго не отрывал от него глаз и даже с некоторой неохотой поднял вставной ящичек, чтобы заглянуть в нижнее отделение. Оно оказалось глубже верхнего, и все там лежавшее не заполняло его так, как заполняло ящичек топазовое ожерелье. Но и внизу были прелестные вещицы, которые мне и сейчас по-
392
мнятся вплоть до малейших деталей. Блистающей кучкой лежала там длинная цепочка из мелких бриллиантов в платиновой оправе; далее, прекрасный черепаховый гребень с серебряной инкрустацией, осыпанный множеством бриллиантиков; брошь — две скрещенные золотые палочки с платиновыми переплетами, увенчанные крупным, как горошина, сапфиром, окруженным десятью бриллиантами; вторая брошь из матового золота в виде изящной корзиночки с виноградом; платиновый браслет, имеющий форму дуги, с пружинной застежкой, ценность которого значительно увеличивалась благодаря вделанной в него великолепной белой жемчужине в резном венчике из бриллиантов. Кроме того, там лежали два или три прехорошеньких кольца — одно с серой жемчужиной посреди двух больших и двух маленьких бриллиантов, другое с темным треугольным рубином в бриллиантовой рамке. Я поочередно клал на ладонь каждую из этих милых безделок и любовался благородной игрой камней в скудном свете голой лампочки под потолком. Но как описать мое смятение, когда, углубленный в это занятие, я вдруг услыхал сверху голос, сухо заметивший:
— А вещички-то у тебя недурные!
Если человек, воображавший себя в полном одиночестве, вдруг обнаруживает, что это не так, он неизбежно испытывает чувство стыда, а в этих особых обстоятельствах я и подавно смешался, даже вздрогнул, но тут же овладел собой, без излишней поспешности закрыл шкатулку, снова вложил ее в чемодан и лишь тогда поднялся, чтобы, слегка отступив, взглянуть наверх, откуда исходил неведомый голос. И правда, над койкой, на которой я сидел, лежал какой-то человек и, опершись на локоть, смотрел вниз. Значит, я слишком бегло оглядел комнату, если не заметил его присутствия. Скорее всего он в ту минуту лежал, натянув одеяло на голову. Это был молодой человек, которому очень и очень не мешало бы побриться, так как, не считая бачков, вся его физиономия беспорядочно заросла черными волосами; я успел
393
заметить, что у него славянский разрез глаз. Лицо этого молодого человека было красно от жара, и хотя я отлично понял, что он болен, но досада и замешательство побудили меня задать ему нелепый вопрос:
— Что вы делаете там наверху?
— Я? — удивился он.
— Скорее мне надо было бы спросить, чем это ты занимаешься там внизу.
— Будьте любезны меня не тыкать, — огрызнулся я.
— Насколько мне известно, мы с вами не родственники и в доверительных отношениях не состоим.
Он засмеялся и вполне резонно заметил:
— Ну, положим, того, что я видел, достаточно, чтобы считать наши отношения довольно-таки доверительными. Вряд ли твоя мамаша сунула тебе на дорогу эти штучки. А ну, покажи-ка свои руки, интересно посмотреть, какой они длины, или ты умеешь делать их длинными по мере надобности?
— Не говорите глупостей, — отвечал я. — Я не обязан отчитываться перед вами в своем имущественном положении только потому, что вы не сочли нужным предупредить меня о своем присутствии и стали за мной подглядывать. Это, сударь, очень дурной тон…
— Ты еще будешь разговаривать! — возмутился он. — Брось ты эти церемонии, у меня, знаешь ли, тоже губа не дура. А в общем могу тебе сказать, что я только сейчас глаза продрал. У меня инфлюэнца, и я валяюсь здесь уже второй день, голова прямо разламывается. Я проснулся и, ни слова не говоря, решил поглядеть, чем это он там забавляется, милый мальчик? Ты ведь очень недурен собой, надо тебе отдать справедливость. Будь у меня такая рожица, я бы далеко пошел!
— Моя рожица не основание для того, чтобы тыкать меня. Я с вами больше слова не скажу, если вы будете продолжать в том же духе.
— Ах, бог ты мой, уж не прикажете ли мне называть вас «ваше высочество»? А ведь мы с тобой, видно, коллеги. Ты что, новичок?
— Да, меня направили сюда из дирекции, с тем чтобы я занял свободную кровать. Завтра я при-
394
ступлю к исполнению своих обязанностей в этой гостинице.
— В качестве кого?
— Это еще не решено.
— Странно! Я работаю на кухне, вернее — в буфете, по холодным закускам. Кровать, на которую ты уселся, занята. А вот верхняя койка, через одну от тебя, та свободна. Ты откуда родом?
— Я сегодня приехал из Франкфурта.
— А я — хорват, — объявил он, — из Загреба. Там я тоже работал на кухне, в ресторане. Да вот уж три года живу в Париже. Ты как? В Париже разбираешься?
— Что это значит—«разбираешься»?
— Полно притворяться. Я спрашиваю, знаешь ли ты, где сбыть эти штуки по сходной цене?
— Найду.
— Сам не найдешь. А долго таскаться с такой находкой тебе несподручно. Если я тебе укажу надежного человека, возьмешь меня в долю, исполу?
— Странные вещи вы говорите. Исполу! И только за то, что вы мне укажете адрес!
— Который тебе, желторотому, нужен, как хлеб насущный. Поразмысли-ка хорошенько. Я тебе скажу, что одна только бриллиантовая цепочка…
Но тут нас прервали. Дверь распахнулась, и в комнату вошли несколько человек, закончивших свой рабочий день: молоденький лифтер в серой ливрее с красными галунами, два мальчика-рассыльных в синих курточках со стоячими воротниками, двумя рядами пуговиц и золотыми лампасами на брюках, рослый парень в синей полосатой блузе, с только что снятым передником в руках, видимо судомойщик или что-то в этом роде. Почти тотчас же вслед за ними явился парнишка, похожий на Боба, и еще какой-то малый, судя по белому кителю с черными брюками, ученик или помощник кельнера. Они то и дело говорили: «Merde!»1[68] а немцы, оказавшиеся среди них: «Фу, дьявол!» и «Черт бы все это побрал!» — восклицание,
395
видимо, относившееся к только что
законченной работе, затем, взглянув вверх, на больного, заметили: «Ну что,
Станко, дело дрянь, а?» — начали громко зевать и все разом принялись
раздеваться. Мной они нимало не заинтересовались, кто-то, впрочем, пошутил, сделав
вид, что меня здесь ожидали: «Ah, te
voilà! C
Несколько будильников почти одновременно затрещали и зазвонили еще в потемках — было только шесть часов, — и те из моих соседей, что первыми выскочили из постелей, зажгли лампочку. Не отозвался на этот звон и треск только Станко, продолжавший лежать неподвижно. Сон очень освежил и ободрил меня, так что противная толкотня в узких проходах между койками всех этих парней — растрепанных, громко зевающих, потягивающихся и стаскивающих через голову ночные рубашки, не подействовала на меня угнетающе. Даже спор из-за мытья — пять умывальников на семь человек — не омрачил моего веселого настроения, хотя воды не хватало и то один, то другой нагишом выскакивали в коридор, чтобы наполнить кувшин под водопроводным краном. Не говорю о том, что мне досталось совершенно мокрое полотенце, непригодное для вытиранья. Зато я получил разрешение взять для бритья немного горячей воды из той, что лифтер и ученик кельнера сообща разогрели на спиртовке. Привычными движениями водя бритвой по щекам, верхней губе и подбородку,
396
я гляделся в осколок зеркала, который они умудрились пристроить на подоконнике. — Hé, beauté1, — изрек Станко, когда я, со свежевымытым лицом и приглаженными волосами, возвратился в спальню, чтобы, как все другие, застелить свою койку. — Как тебя звать-то? Ганс или Фриц?
— Феликс, с вашего позволения, — отвечал я.
— Тоже недурно. Так вот, не будете ли вы так добры, Феликс, после завтрака принести мне из столовой чашку кофе с молоком? А не то я до обеда, когда есть надежда поесть протертого супу, буду сидеть вовсе без еды.
— С удовольствием, — отозвался я. — Я принесу кофе, а потом еще раз зайду, узнать, не надо ли вам чего-нибудь.
Такую заботливость я проявил по двум причинам. Во-первых, потому, что мой чемодан не запирался, а Станко не внушал мне доверия. Во-вторых, мне хотелось вернуться к вчерашнему разговору и на более или менее подходящих условиях получить от него адрес, который он посулил мне.
В просторной столовой для служащих, в самом конце коридора, было тепло, уютно и пахло кофе, который буфетчик и его супруга, очень дородная и добродушная женщина, разливали из двух блестящих кипятильников. Сахар уже лежал в чашках, буфетчица подливала в них молока и на каждое блюдце клала по сдобной булочке. Здесь толклось множество отельной прислуги из разных дортуаров, в том числе несколько кельнеров в синих фраках с голубыми пуговицами. Почти все ели и пили стоя, хотя в зале имелось несколько столиков. Памятуя о своем обещании, я попросил у добродушной буфетчицы кофе «pour le pauvre malade de numéro quatre»2. Она немедленно подала мне полную чашку, с улыбкой, которая обычно появлялась на лицах тех, к кому я обращался.
397
— Pas encore équipé?1 — осведомилась она.
В немногих словах я объяснил ей свое положение. Затем поспешил отнести кофе Станко и повторил ему, что в скором времени зайду еще раз. Он насмешливо хихикнул мне вслед, так как отлично понял причины моей заботливости.
Вернувшись в столовую, я, в свою очередь, выпил кофе, которое пришлось мне очень по вкусу, — я давно уже не имел во рту ничего горячего, — и закусил сдобной булочкой. Было уже семь часов, и столовая быстро опустела. Поэтому я пристроился за одним из покрытых клеенкой столиков, подле пожилого кельнера, который неторопливо достал из кармана пачку сигарет и закурил. Мне достаточно было улыбнуться и чуть-чуть подмигнуть ему, чтобы тоже получить сигарету. Мало того, после нескольких слов, которыми мы обменялись, я и ему рассказал о своем все еще неопределенном положении, а он, уходя, презентовал мне добрый десяток сигарет, остававшихся в пачке.
Затянуться после кофе черным пряным табаком было очень приятно, но я не мог долго сидеть здесь и наслаждаться, так как мне надо было спешить к своему подопечному. Он встретил меня с явно наигранной брюзгливостью.
— Ты опять тут? Что тебе надо? Я в твоем обществе не нуждаюсь. Мне не до болтовни, голова у меня так и не прошла, и горло тоже болит.
— Так вам, значит, не лучше? — отвечал я.— Очень жаль. А я как раз собирался спросить, не почувствовали ли вы себя бодрее после кофе, которое я вам принес из товарищеских побуждений.
— Я-то знаю, почему ты мне принес кофе, да только не хочу мешаться в твои дурацкие дела. От такого олуха только и жди беды.
— Это вы первый заговорили о делах, — заметил я. — Не знаю, почему бы мне независимо от каких бы то ни было дел не составить вам компанию, раз вы тут лежите в полном одиночестве. В ближайшие часы
398
никто мной интересоваться не станет, и времени у меня хоть отбавляй… Это, однако, не значит, что я, со своей стороны, откажусь от вашей помощи.
Я сел на кровать под его койкой, но с нее мне было его не видно. «Так ни до чего не договоришься»,— решил я и поневоле опять встал. — Хорошо хоть ты признался, что я тебе нужен, а не ты мне. — Если я вас правильно понял, — отвечал я, — вы намекаете на предложение, которое вы мне вчера сделали. Очень любезно с вашей стороны снова вспомнить о нем. Но, с другой стороны, это указывает и на вашу заинтересованность.
— Ну, моя-то заинтересованность невелика. А ты, шут гороховый, без меня ни за грош спустишь свою рухлядь. Как к тебе вообще попали эти штуки?
— Совершенно случайно. Просто выдалась такая счастливая минута.
— Ясное дело. А может быть, ты и впрямь родился в сорочке? Что-то в тебе такое есть. Покажи-ка мне еще разок свои игрушки. Надо прикинуть, какую цену за них спросить.
Я хоть и был рад, что он так явно смягчился, но ответил:
— Мне бы не хотелось этого, Станко. Кто-нибудь может войти, и мы еще наживем себе неприятностей.
— Да, не стоит, — согласился он. — Я их вчера довольно-таки подробно рассмотрел. Ты только не очень воображай насчет топазового ожерелья. Оно…
Хорошо, что я был готов к неожиданным вторжениям. Поломойка с ведром, тряпками и веником вошла и направилась наводить порядок в умывальной. Все время, пока она там орудовала, я молча сидел на нижней койке. И только когда она удалилась, стуча деревянными башмаками, я спросил, что, собственно, он хотел сказать.
— Я? — Он снова начал притворяться. — Ты хотел что-то от меня услышать, а я ничего говорить не собирался. Разве предупредить тебя, чтобы ты не слишком надеялся на топазовое ожерелье, которым ты
399
вчера битый час любовался. Такая штуковина дорого стоит, если ее покупать у Фалине или Тиффани, а при продаже шиш за нее выручишь.
— А что в данном случае значит шиш?
— Сотня-другая франков.
— Это неплохо.
— Ты, дурья башка, верно, на все говоришь «неплохо!». В том-то и беда! Если б я мог с тобой пойти и взять все дело в свои руки!
— Ну, что вы, Станко, это было бы безответственно с моей стороны! У вас температура, и вам ни в коем случае нельзя вставать с постели.
— Ладно. Конечно, дворянской вотчины даже мне из такой брошки да гребня не выколотить. И из аграфа тоже, несмотря на сапфир. Самое верное дело — цепочка, за нее всякий выложит тысяч десять франков. За кольца тоже можно взять хорошие денежки, во всяком случае за рубиновое и еще за то, с серой жемчужиной. Словом, на глазок, тысяч восемнадцать все эти штучки стоят.
— Я тоже так считал, приблизительно, конечно.
— Скажите пожалуйста! Значит, и ты что-то кумекаешь в этом деле?
— Более или менее. Во Франкфурте моим любимым занятием было рассматривать витрины ювелирных магазинов. Но вы же не хотите сказать, что мне будет причитаться восемнадцать тысяч?
— Нет, золотце, этого я сказать не хочу. Но если ты сумеешь хоть немножко постоять за себя и не будешь все время твердить свое «неплохо», то половина тебе, безусловно, достанется.
— Следовательно, девять тысяч франков.
— Десять. Столько, сколько, по правде говоря, стоит одна эта бриллиантовая цепочка. Если ты не вовсе баба, то за меньшее не уступай.
— А куда вы мне посоветуете обратиться?
— Ага! Теперь красавчик ждет от. меня подарочка. Уж не воображаешь ли ты, что я тебе отдам то, что знаю, за твои прекрасные глаза?
— Кто об этом говорит, Станко! Конечно, я готов выказать вам свою признательность. Но ваше вче-
400
рашнее требование насчет половины, право же, кажется мне чрезмерным.
— Чрезмерным? Да половинная доля в таком деле самая что ни на есть справедливая дележка, так даже и в писании сказано. Ты, верно, забыл, что без меня ты как рыба без воды, а вдобавок я еще могу выдать тебя дирекции. И ты жалеешь несколько несчастных тысяч франков?
— К этому вопросу, собственно говоря, все и сводится. Я бы считал справедливым уделить вам треть из тех десяти тысяч, которые, по вашему мнению, я смогу выручить. Вам следовало бы хвалить меня за то, что я умею постоять за себя: теперь вы можете поверить, что я буду стоек и с кровопийцей-торговцем.
— Поди сюда, — сказал он и, когда я подошел, тихо, но отчетливо проговорил:
— Quatre-vingt-douze1, улица Небесной Лестницы.
— Quatre-vingt-douze улица…
— …Небесной Лестницы. Ты что, оглох?
— Какое странное название!
— Она уже сотни лет так называется. Может, оно даже к добру, это название! Очень почтенная старая улочка, далековато только, где-то за Монмартрским кладбищем. Ты сначала добирайся до Сакре-Кёр, тут уж не заблудишься, затем иди через сад между церковью и кладбищем и дальше на улицу Дамремон в направлении бульвара Нея. Не доходя до угла, там где Дамремон упирается в Шампьоне, налево будет улочка Разумных Дев, а от нее уже пойдет твоя Лестница. В общем, не заблудишься.
— Как зовут этого человека? — Не важно[69]. Он называет себя часовщиком и среди прочих дел занимается и этим. Иди, да смотри не будь овцой! Я сказал тебе адрес, просто чтобы от тебя отвязаться и полежать спокойно. Что же касается моей доли, так запомни, я в любую минуту могу тебя выдать. И он повернулся ко мне спиной.
401
— Я вам очень обязан, Станко, — сказал я. — И можете быть уверены, у вас не будет оснований жаловаться на меня в дирекцию.
С этими словами я ушел, повторяя про себя адрес, Я вернулся в совсем уже пустую столовую; так как деваться мне было некуда, приходилось ждать, пока там, внизу, вспомнят обо мне. Битых два часа я просидел за одним из покрытых клеенкой столиков, не позволяя себе даже испытывать нетерпение, курил свои сигареты и думал. Стенные часы в столовой показывали уже десять, когда я услышал в коридоре чей-то голос, выкликнувший мое имя. Не успел я подойти к двери, как посланный за мной мальчишка уже распахнул ее.
— Феликса Круля — к главноуправляющему.
— Это я, друг мой. Разрешите мне пойти с вами. У меня сейчас достанет храбрости предстать даже перед президентом республики.
— С чем вас и поздравляю, — довольно дерзко ответил он на мое любезное обращение и смерил меня холодным взглядом. — Можете идти за мной, если вам угодно.
Мы спустились на четвертый этаж, где были гораздо более широкие коридоры, устланные красивыми красными дорожками; он вызвал лифт, которого нам пришлось немного подождать.
— Как это так вышло, что носорог желает самолично с тобой разговаривать? — спросил он меня.
— Вы имеете в виду господина Штюрцли? Знакомство. Личные связи. Но почему вы его называете носорогом?
— C’est son sobriquet1. Прошу прощенья, не я его выдумал.
— Не за что! Напротив, я благодарен за любую информацию, — отвечал я.
Лифт, освещенный электричеством и красиво отделанный деревянной панелью, был даже снабжен красной бархатной скамейкой. Его обслуживал юнец в песочного цвета ливрее с красными галунами. Он
402
остановил машину сначала слишком высоко, потом слишком низко, так что нам пришлось прыгать в нее как бы с высокой ступеньки.
— Tu n’apprendras jamais, Eustache,—заметил ему мой проводник, — de manier cette gondole1. — Pour toi je m’échaufferai!2 — грубо ответил тот.
Мне это не понравилось, и я не удержался, чтобы не сказать:
— Людям подначальным не следовало бы обдавать друг друга презрением. Это вряд ли может укрепить их позицию в глазах власть имущих.
— Tiens, — воскликнул одернутый мною лифтер, — un philosophe!3
Мы уже спустились вниз. Проходя по вестибюлю, мимо приемной и дальше, я обратил внимание на то, что мой провожатый искоса на меня поглядывает. Мне всегда было приятно, если я производил впечатление не только своей приятной внешностью, но и своими духовными качествами.
Кабинет главноуправляющего находился позади приемной; двери напротив него вели, как я успел заметить, в читальню и бильярдную. Мальчишка несмело постучался; в ответ на послышавшееся изнутри хрюканье он открыл дверь и, прижимая шапку к бедру, с поклоном впустил меня.
Господин Штюрцли, человек тучности необычайной, с седой остроконечной бородкой, казалось, не нашедшей себе прочного пристанища на его огромном двойном подбородке, сидел за письменным столом, перелистывая какие-то бумаги, и поначалу[70] не обратил на меня ни малейшего внимания. Внешность г-на Штюрцли сразу объяснила мне насмешливую кличку, которой наградил его персонал гостиницы, ибо его спина образовывала могучую выпуклость, затылок, казалось, был до отказа нашпигован салом, а кончик носа украшала торчащая наподобие рога бородавка, что окончательно убедило меня в меткости этого
403
прозвания. При всем том руки, которыми он выравнивал бумаги, заталкивая их в стопку то с узкой, то с широкой стороны, были удивительно изящны и малы по сравнению со всей громадой его фигуры, впрочем, отнюдь не неуклюжей, но, как это подчас замечается даже у самых отчаянных толстяков, не лишенной известной элегантности в осанке.
— Итак, вы, — сказал он по-немецки с легким швейцарским акцентом, все еще занимаясь приведением в порядок бумаг, — тот самый рекомендованный мне молодой человек, Круль, если не ошибаюсь, c'est ça, который выразил желание у нас работать?
— Так точно, господин главноуправляющий, — отвечал я, почтительно приближаясь, что дало мне возможность — не в первый и не в последний раз — наблюдать своеобразный феномен. После того как господин Штюрцли взглянул на меня, на лице его появилось брезгливое выражение, бесспорно относившееся к тогдашней моей юношеской красоте. Мужчины, которых волнуют только женщины, — а господин Штюрцли со своей предприимчивой бородкой и элегантной тучностью, несомненно, принадлежал к таковым, — ощущают своего рода обиду, когда чувственно привлекательное предстает перед ними в мужском обличье, и это, надо думать, объясняется тем, что границу между чувственностью общего характера и чувственностью в более узком ее значении провести очень нелегко, природа же такого человека всеми силами противится воздействию этого второго значения и связанных с ним ассоциаций, отчего на его лице и появляются подобные рефлекторные гримасы. Разумеется, здесь речь идет о весьма поверхностном рефлексе, и человек справедливый, испытавший на себе такое смещенье чувственных представлений, поставит это в вину скорее себе, чем тому, кто явился невольной причиной его краткого замешательства, и не будет с него за это взыскивать. Так, конечно, поступил и господин Штюрцли, тем паче что из уважения к его рефлексу я тотчас же скромно потупился. Он отнесся ко мне благосклонно и спросил:
494
— Что поделывает мой старый приятель Шиммельпристер, ваш дядюшка?
— Прошу прощения, господин главноуправляющий, — отвечал я, — господин Шиммельпристер мне не дядюшка, а крестный, что, пожалуй, еще больше. Благодарю вас, насколько мне известно, крестный пребывает в полном здравии. Как художник он пользуется большой известностью во всей Рейнской области и даже за ее пределами.
— Да, да… В самом деле? Имеет успех? Тем лучше, тем лучше… В свое время мы были большие приятели.
— Не стоит говорить, — продолжал я, — как я благодарен профессору Шиммельпристеру за то, что он замолвил за меня словечко перед господином главноуправляющим.
— Да, да! Так он ко всему еще и профессор? Как это так вышло? Mais passons1[71]. Он мне писал о вас, и я не хотел огорчить его отказом, мы ведь с ним немало вместе проказничали. Но должен вам сказать, друг мой, что дело обстоит не так-то просто. На какую должность вас пристроить? Вы, насколько я понимаю, не имеете ни малейшего понятия о работе в отеле и ничему еще не обучены…
— Я думаю, что с моей стороны не будет самонадеянностью,— возразил я, — заверить господина главноуправляющего, что прирожденные способности быстро возместят мне отсутствие специальной подготовки и приведут к должному успеху.
— Разве что у хорошеньких женщин, — отозвался он.
Сказал он это, как мне показалось, по следующим трем причинам. Во-первых, всякий француз, а господин Штюрцли давно уже стал таковым, обожает выражение «хорошенькая женщина», оно доставляет удовольствие и ему самому, и всем окружающим. «Une jolie femme»2 — самое ходовое словцо во Франции, на которое живо откликаются все сердца.
403
Приблизительно такой же эффект производит в Мюнхене упоминание о пиве. Достаточно сказать «пиво», чтобы вызвать всеобщее оживление. Это во-первых. Во-вторых, шутливо упомянув о хорошеньких женщинах и о моем предполагаемом успехе у них, Штюрцли стремился побороть свое смятение, в известном смысле отвязаться от меня и, так сказать, сдать меня на руки прекрасному полу. Это я отлично понял. Но в-третьих, и, пожалуй, вразрез с этим стремлением, он хотел заставить меня улыбнуться, что, конечно, привело бы к повторному приступу брезгливости. Однако в своем неразумии он именно этого и домогался. Я не мог отказать ему в улыбке, хотя знал, что из этого выйдет, и поспешил сопроводить ее словами:
— Не сомневаюсь, что в этой области, как, впрочем, и во всякой другой, я сильно отстаю от вас, господин главноуправляющий.
Мне не стоило затруднять себя столь учтивым оборотом, так как господин Штюрцли пропустил его мимо ушей; он видел только мою улыбку, и лицо его. опять искривила гримаса неудовольствия. Но раз уж он свое получил, мне оставалось только вновь целомудренно потупиться.
— Все это хорошо, молодой человек, — сказал он, — но вы ведь ни в какой мере не подготовлены к предстоящей вам карьере. Вы свалились к нам в Париж, как снег на голову. По-французски-то вы хоть говорите?
Это лило воду на мою мельницу. В душе я возликовал, разговор явно оборачивался в мою пользу. Здесь будет вполне уместно сказать несколько слов о моей способности к языкам, способности почти невероятной и таинственной. Мне не надо было изучать иностранные языки, ибо, космополит по самой своей природе, я носил в себе возможности всех народов, и стоило только чужеземной речи коснуться моего слуха, как я уже мог бойко воспроизвести ее, причем всегда говорил с такой подчеркнуто национальной манерой, что это граничило уже с комедиантством[72]. Этот дар подражания, который не только не заставлял усомниться в моих языковых познаниях, но, напротив, придавал
406
им величайшее правдоподобие, объяснялся тем, что я вдохновенно, экстатически вживался в дух чужого языка, вернее даже будет сказать, что этот дух вселялся в меня, а в состоянии транса, в свою очередь подстрекавшем меня на еще более дерзкое пародирование, слова, к моему собственному удивлению, один бог знает откуда слетались ко мне. Впрочем, что касается французского языка, то здесь беглость моей речи была несколько менее мистического происхождения.
— Ah, voyons,
monsieur le directeur général, — аффектированно
затараторил я, — vous me demandez
sérieusement, si je parle français? Mille fois pardon, mais cela
m’amuse! De fait, c’est plus ou moins ma langue maternelle —ou plutôt paternelle,
parce que mon pauvre père — qu’il repose en paix! — nourrissait dans son
tendre coeur un amour presque passionné pour Paris et profitait de toute
occasion pour s’arrêter dans cette ville magnifique dont les recoins les
plus intimes lui étaient familiers. Je vous assure: il connaissait des
ruelles aussi perdues c
Hirondelles de ma patrie.
De mes amours ne me parlez-vous pas?1
407
— Да замолчите вы, — оборвал он мой речевой каскад.— И чтоб
я больше не слышал стихов! Не терплю поэзии, от нее у меня желудок сводит. У
нас в большом зале во время файф-о-клока иногда выступают французские поэты,
те, у кого есть что надеть. Дамам это нравится, но я стараюсь забиться куда-нибудь
подальше. Стихи меня в холодный пот вгоняют.
— Je suis
désolé, monsieur le directeur général. Je suis
violemment tenté de maudir la poésie1.
— Хватит. Do you speak English?2
Говорил ли я по-английски? Нет, конечно, но мог притворяться минуты три, что говорю: на этот срок хватало того, что уловил мой слух в Лангеншвальбахе и Франкфурте от тональности английской речи и тех крох словарного запаса, которые я подобрал там и сям. Сейчас важно было из ничего сделать нечто ослепительное, хотя бы на мгновение. Поэтому я прожурчал одними кончиками губ, не осклабившись и не артикулируя ртом, как невежды предста-
408
вляют себе речь детей Альбиона, а надменно задрав нос:
— I certainly do, Sir. Of course, Sir, quite naturally I do.
Why shouldn’t I? I love
to, Sir. It’s a very
nice and c
— Зачем вы крутите носом в воздухе? Это лишнее. И ваши
теории мне тоже не нужны. Я интересуюсь только, насколько вы владеете языками. Parla italiano?2
В ту же секунду я превратился в итальянца: никакой
изысканности и журчания — огонь и страсть накатили на меня. Пламенным цветом
распустилось во мне все, что я слышал из уст крестного Шиммельпристера, нередко
и подолгу гостившего в этой солнечной стране. И я, то поводя рукой с плотно
сжатыми пальцами перед самым своим носом, то вдруг широко их растопыривая, певуче
затараторил: . — Ma Signore, che
cosa mi d
409
— Стоп! — крикнул он. — Вы уже опять, впали в поэзию, хотя
знаете, что мне от нее становится дурно. Неужели вы не можете помолчать?
Человеку, служащему в хорошем отеле, это просто не подобает. Впрочем, выговор у
вас неплохой и кое-какие лингвистические познания имеются. Даже большие, чем я
ожидал. Что ж, попробуем вас, Кноль…
— Круль, господин главноуправляющий. — Ne me corrigez pas!1 По мне, можете называться Кналем. А ваше крестное имя?
— Феликс, господин главноуправляющий. — Это меня не устраивает. Феликс — звучит необычно и слишком претенциозно. Вы будете зваться Арман…
— Перемена имени доставит мне величайшее удовольствие…
— Последнее не существенно. Арманом звали лифтера, который по случайному стечению обстоятельств сегодня от нас уходит. Завтра можете вступить в его должность. Попробуем вас в качестве лифтера.
— Смею вас заверить, господин главноуправляющий, что я сумею зарекомендовать себя на этой работе и свои обязанности буду выполнять лучше, чем Ёсташ.
— А чем плох Ёсташ?
— Подает машину или слишком низко, или слишком высоко, приходится делать головоломные прыжки. Но это, конечно, когда он возит, так сказать, «своего брата». С клиентами гостиницы, насколько я понял, Ёсташ более обходителен. Такая неровность в выполнении служебных обязанностей, по-моему, отнюдь не похвальна.
— При чем тут ваши похвалы? Вы что, социалист?
— Ни в какой мере, господин главноуправляющий. Общество,
такое, как оно есть, представляется мне восхитительным, и я горю желанием
снискать его благосклонность. Я только полагаю, что свое дело
410
надо выполнять добросовестно, даже если оно тебе не по душе.
— Социалистов мы в своем предприятии не потерпим.
— Ça va sans dire, monsieur le…1
— Можете идти, Круль! Подыщите себе на складе в подвальном этаже ливрею по росту! Ливрея выдается администрацией, но обувь у служащих своя… а я должен заметить, что ваши башмаки…
— Это случайный промах, господин главноуправляющий. Не позднее завтрашнего утра он будет полностью исправлен. Я понимаю, какие обязательства накладывает на человека служба в таком почтенном предприятии, и смею заверить, что мой внешний вид будет безупречен. Ливрея, если мне будет позволено это заметить, меня очень и очень радует. Крестный Шиммельпристер любил наряжать меня во всевозможные костюмы и всегда хвалил меня за то, что в каждом я чувствовал себя так, словно век носил его, хотя, собственно, прирожденное дарование вряд ли заслуживает похвалы. Но форму лифтера мне еще надевать не случалось.
— Не беда, — отвечал он, — если в этой ливрее вы будете производить впечатление на хорошеньких женщин. До свидания, сегодня вы здесь не понадобитесь. Погуляйте вечерком по Парижу. А завтра с утра пусть Ёсташ или кто-нибудь другой поездит с вами несколько раз вверх и вниз, приглядитесь к обращению с механизмом. Это штука несложная, и вы быстро ее освоите.
— Я буду бережно обращаться с лифтом, — последовал мой ответ, — и не успокоюсь, покуда он не будет останавливаться точно на уровне площадки. Du reste, monsieur le directeur général, — добавил я, и мои глаза увлажнились, — les paroles me manquent pour exprimer…2
411
— C’est bien, c’est
bien1, я занят, — пробормотал он
и отвернулся; брезгливая гримаса опять промелькнула на его лице. Но меня это не
огорчило. Я бегом бросился вниз по лестнице — мне ведь необходимо было еще
утром побывать у вышеупомянутого часовщика, — без труда разыскал дверь с
надписью «склад» и постучался. Маленький старичок в очках читал газету в
помещении, походившем на лавку старьевщика или театральную костюмерную, столько
там было развешано ливрей всех цветов и оттенков. Я сказал ему, в чем дело, и
оно тут же было улажено.
— Et c
Он окинул меня беглым взглядом, снял с вешалки одну из ливрей — штаны и куртку песочного цвета с красной оторочкой — и повесил все это мне на руку.
— Не лучше ли было бы примерить? — спросил я.
— Ни к чему, ни к чему. Раз я даю, значит, точно по мерке. Dans cet emballage la marchandise attirera l’attention des jolies femmes3.
Старику, право же, пора было думать о чем-нибудь другом. Но он произносил это безотчетно, и я так же безотчетно опять подмигнул ему и, назвав его «mon oncle»4, побожился, что ему одному буду обязан своей карьерой.
Из подвала я в лифте поднялся на пятый этаж. Я торопился,
так как на душе у меня было неспокойно — не подберется ли Станко, пока я
отсутствую, к моему чемоданчику? По дороге нас останавливали звонки. Господам,
при входе которых я скромно
412
жался к стенке, требовался лифт. Уже в вестибюле вошла дама (ей нужно было на второй этаж), в бельэтаже — чета, говорившая между собой по-английски, чтобы подняться на третий. Дама, вошедшая первой, возбудила мое внимание; да, слово «возбудила» здесь очень и очень уместно, ибо я смотрел на нее с бьющимся, даже сладостно бьющимся сердцем. Эту даму я знал. Хотя сегодня на ней была не шляпа-клеш с перьями цапли, а другое, широкополое, отделанное атласом произведение дорогой модистки, на которое был наброшен белый вуаль, завязанный под подбородком бантом, с длинными, ниспадающими на пальто концами, и хотя пальто тоже было другое — более легкое и светлое, с большими, обвязанными по краям пуговицами, я ни на минуту не усомнился, что это моя соседка по таможенному досмотру, дама, с которой меня роднило обладание шкатулкой. Прежде всего, я узнал ее по манере широко раскрывать глаза, удивившей меня во время ее объяснения с таможенным чиновником, но, очевидно, вошедшей в привычку, так как она и сегодня это проделывала уже без всякого повода. Да и вообще ее сами по себе некрасивые черты явно имели склонность нервозно искажаться. Больше я ничего не заметил в облике этой сорокалетней брюнетки, что заставило бы меня пожалеть о тех деликатного свойства узах, которые связали нас с ней. Маленькие темные усики на верхней губе были ей к лицу, а золотисто-коричневые глаза всегда нравились мне у женщин. Если б только она то и дело не таращила их! Мне казалось, что я сумел бы мягко отговорить ее от этой назойливой привычки.
Итак, мы остановились в одном отеле, — если только к моему случаю можно было применить слово «остановиться». Чистая случайность помешала мне встретиться с ней в приемной у стола легко краснеющего господина. Близость ее в тесном пространстве лифта будоражила мои чувства. Не зная обо мне, никогда меня не видев, да и сейчас меня не замечая, она носила в себе мой безликий образ с того самого
413
мгновения, когда вчера вечером или сегодня утром при распаковке чемодана обнаружила пропажу шкатулки. Я невольно приписывал этим розыскам самый враждебный для меня смысл. Что ее мысли и расспросы обо мне должны были принять форму направленных против меня шагов, что она, быть может, как раз и возвращается оттуда, где эти шаги уже были предприняты, — такая догадка почему-то лишь бегло промелькнула в моем уме, не утвердилась в нем в качестве правдоподобного предположения и не смогла побороть очарования ситуации, когда ищущая и вопрошающая не подозревает, что тот, о ком она расспрашивает, от нее так близок. Как я сожалел, благосклонный читатель, сожалел за нее и за себя, что эта близость будет столь краткосрочна — только до второго этажа! Выходя, дама, в мыслях которой я царил, сказала рыжеволосому лифтеру:
— Merci, Armand.
Такая обходительность не могла не броситься мне в глаза, ведь она совсем недавно прибыла и уже знает имя этого субъекта. Но, может быть, он давно ей известен, может быть, она частая гостья отеля «Сент-Джемс». Но еще больше меня поразило самое это имя и то, что как раз Арман везет нас. Словом, краткое пребывание в лифте было очень насыщенным.
— Кто эта дама? — спросил я из-за спины рыжего, когда мы поехали дальше. Но этот остолоп не удостоил меня ответа. Тем не менее, выходя на четвертом этаже, я еще раз обратился к нему с вопросом:
— Скажите, вы тот самый Арман, что сегодня вечером уходит с должности?
— Не твое собачье дело, — нахально отрезал он.
— В какой-то мере все-таки мое, — отвечал я. — Теперь я — Арман. Я наследую вашу должность, но, разумеется, не вашу хамскую неотесанность.
— Imbécile!1 — отплатил он мне, захлопывая дверцу лифта у меня перед носом.
414
Станко спал, когда я снова вошел в дортуар номер четыре. С величайшей торопливостью я проделал следующее: взял из шкафа свой чемодан, снес его в умывальную, вынул шкатулку, которую честный Станко, слава богу, оставил нетронутой, сняв пиджак и жилет, надел на шею прелестное топазовое ожерелье, не без труда застегнув его на затылке. Затем я снова оделся и рассовал по карманам остальные, менее громоздкие драгоценности, в том числе и бриллиантовую цепочку. Покончив с этим, я поставил на место чемоданчик, повесил свою ливрею в шкаф около двери в коридор, надел куртку, шапку и побежал вниз по лестнице — наверно, из нежелания опять встретиться с Арманом, — чтобы тотчас же пуститься на розыски улицы Небесной Лестницы.
Хотя мои карманы были набиты драгоценностями, у меня не нашлось даже нескольких су на омнибус. Волей-неволей я потащился пешком, что было очень нелегко, так как приходилось все время спрашивать дорогу, да и ноги мои вскоре отяжелели из-за того, что улицы поднимались в гору. Мне понадобилось не менее сорока пяти минут, чтобы добраться до Монмартрского кладбища — пункта, о котором я и расспрашивал прохожих. Зато оттуда, поскольку сведения Станко оказались вполне достоверными, я быстро дошел до улицы Дамремон и переулка Разумных Дев, а повернув в него, уже через несколько шагов оказался у цели.
Такой гигантский город как Париж состоит из множества кварталов и приходов, по которым лишь в редких случаях можно догадаться о величии целого. За роскошным фасадом, ослепляющим иностранцев, метрополия укрывает мещанские провинциальные улицы, самодовольно живущие своей собственной жизнью. Из обитателей улицы Небесной Лестницы многие, вероятно, годами не видели сияния авеню Оперы и всесветной сутолоки Итальянского бульвара. Меня окружало идиллическое захолустье. На узкой мостовой играли дети. Вдоль мирных тротуаров рядком стояли незатейливые дома, в нижнем этаже некоторых из них помещались такие
415
же незатейливые лавки колониальных товаров, мясная, булочная, чуть подалее — мастерская седельника. Где-то тут должна была быть и лавка часовщика. Номер девяносто два я нашел без труда. «Пьер Жан-Пьер, часовых дел мастер» — прочитал я на двери подле окна, в котором были выставлены всевозможные хронометры, карманные часы, мужские и дамские, жестяные будильники и дешевые каминные часы.
Я нажал ручку и вошел под звон колокольчика, приведенного в действие открывшейся дверью. Хозяин лавки, вставив в глаз лупу в деревянной оправе, сидел за стойкой, верх которой представлял собою стеклянный ящик, где тоже были разложены всевозможные часы и цепочки, углубленный в созерцание механизма карманных часов, надо думать, немало досадивших своему владельцу. Многоголосое тик-так наполняло помещенье.
— Здравствуйте, хозяин, — проговорил я. — Я, видите ли, хотел приобрести карманные часы с хорошенькой цепочкой.
— Кто же вам мешает это сделать, мой мальчик?— отвечал он, вынимая линзу из глаза. — Золотые вам, вероятно, не потребуются?
— Не обязательно, — отвечал я. — Блеск и мишура для меня значения не имеют. Мне важно качество часов и точность хода.
— Правильный взгляд на вещи. Так показать вам серебряные? — сказал он, раздвигая внутреннюю стенку стеклянного ящика, вынул оттуда несколько образцов своего товара и положил их передо мной.
Это был сухонький старичок с желто-серыми волосами и бакенбардами, из тех, что начинают расти прямо под глазами и уныло свисают с той части лица, где бакенбардам положено закругляться. Такие унылые физиономии, к сожалению, встречаются довольно часто.
Держа в руках серебряные часы, которые он особенно горячо рекомендовал мне, я спросил, сколько они стоят. Он назвал цену — двадцать пять франков.
416
— Кстати, почтеннейший, — сказал я, — мне бы не хотелось покупать эти часы, которые мне, безусловно, по вкусу, за наличный расчет. Я предпочел бы вернуться к более старинной форме торговли — меновой. Взгляните-ка на это кольцо! — И я вытащил перстень с серой жемчужиной, который заранее переложил в потайной карманчик, нашитый на внутреннюю сторону правого кармана куртки.
— Мне хотелось бы, — пояснил я, — продать вам эту прелестную вещичку и получить от вас разницу между ее стоимостью и ценой часов, иными словами, оплатить часы из той суммы, которую я выручу за кольцо, или, еще по-другому, просить вас вычесть стоимость часов, на мой взгляд, совершенно правильную, из тех, ну скажем, двух тысяч франков, которые вы мне, без сомнения, дадите за мою вещь. Что вы скажете относительно такой комбинации?
Прищурившись, он впился глазами в кольцо у меня на ладони и затем так же пронзительно посмотрел мне в лицо, его уродливые щеки при этом слегка дрогнули.
— Кто вы такой и откуда у вас это кольцо? — спросил он сдавленным голосом. — За кого вы меня считаете и как вы смеете предлагать мне подобную сделку? Убирайтесь сейчас же вон — я человек честный.
Я грустно опустил голову и после краткого молчания мягко сказал:
— Господин Жан-Пьер, вы находитесь в заблуждении. И это заблуждение вызвано недоверием, которое мне следовало предвидеть; но вас от него все же должно было бы предохранить ваше знание людей. Вы смотрите на меня — ну и что? Похож я на… на того, за кого вы меня принимаете? Что у вас поначалу промелькнула такая мысль, вполне естественно, и мне обижаться не приходится. Но теперь, когда вы ко мне присмотрелись, я, правда же, буду удивлен, если вы не перемените своего мнения.
Он продолжал, то быстро вскидывая, то снова опуская голову, попеременно рассматривать мое кольцо и меня.
417
— Откуда вы знаете мою фирму? — поинтересовался он наконец.
— От одного товарища по работе и по комнате, — отвечал я. — В настоящее время он не совсем здоров. Если угодно, я передам ему ваш поклон и пожелание скорейшего выздоровления. Звать его Станко.
Он все еще колебался и с трясущимися щеками смотрел то на меня, то на кольцо. Но я уже отлично видел, что желание завладеть драгоценностью берет у него верх над осторожностью. Оглянувшись на дверь, он взял кольцо у меня из рук и торопливо вернулся на свое место за стойкой, чтобы рассмотреть его в лупу.
— Здесь имеется один дефект, — объявил он, исследовав жемчужину.
— Это для меня новость, — отвечал я.
— Охотно верю. Такой дефект может обнаружить только специалист.
— Ну, столь незаметный дефект вряд ли может играть роль при оценке вещи. А разрешите спросить, как обстоит дело с бриллиантами?
— Ерунда, осколки, розочки, словом, дрянь, просто так, для декорации. Сто франков, — объявил он и бросил кольцо на стойку, впрочем ближе ко мне, чем к себе.
— Я, вероятно, ослышался?
— Если вы туги на ухо, молодой человек, то забирайте этот мусор — и скатертью дорожка!
— Но в таком случае я не куплю часов.
— Je m'en fiche1, — отвечал он. — Всего наилучшего.
— Послушайте, господин Жан-Пьер, — снова начал я. — Вы уж простите меня за невежливость, но я должен сказать вам, что вы свои дела ведете спустя рукава. Из-за чрезмерного скряжничества прерываете переговоры, которые мы еще только начали, и совершенно упускаете из виду, что кольцо, как бы оно ни было ценно, возможно, не составляет и сотой доли того, что я собираюсь вам предложить. И это, замечу
418
вам, не фантазия, а факт, почему я и советовал бы вам в общении со мной этим фактом руководствоваться.
Он пристально посмотрел на меня, и его противные щеки затряслись еще сильнее. Бросив опять взгляд на дверь, он кивнул головой и процедил сквозь зубы:
— Поди сюда! Затем он взял кольцо, пропустил меня за стойку, открыл дверь в душное помещение без окон и зажег там ярко все осветившую газовую лампу над круглым столом, покрытым плюшевой, а поверх нее еще и вязаной скатертью. В комнате стояли safe, или несгораемый шкаф, и маленький секретер, так что она представляла собой нечто среднее между гостиной мелкого буржуа и конторой.
— А ну выкладывай, что там у тебя есть! — приказал часовщик.
— Разрешите мне сначала раздеться, — возразил я, снимая куртку. — Так-то оно лучше. — И я начал, раз за разом, вытаскивать из карманов черепаховый гребень, аграф с сапфиром, брошку в виде корзиночки с фруктами, браслет с жемчужиной, рубиновое кольцо и в качестве козырного туза — бриллиантовое колье, аккуратно раскладывая все эти вещи на вязаной скатерти. Под конец, скинув с разрешения хозяина пиджак, я снял с шеи топазовое ожерелье и приложил его к остальным сокровищам.
— Ну, что скажете? — горделиво спросил я.
Я заметил, что у него блеснули глаза, и он невольно причмокнул губами, но поспешил сделать вид, что ждал большего, и сухо осведомился:
— Это все?
— Все? — переспросил я. — Ей-богу, почтеннейший, вы напрасно стараетесь изобразить, будто вам каждый день приносят такие коллекции.
— А тебе, видно, приспичило разделаться с этой коллекцией?
— Не переоценивайте пылкость моего желания,— нашелся я. — Но если вы меня спросите,
419
готов ли я отдать ее за разумную цену, то я отвечу утвердительно.
— Молодец, — отвечал он, — тебе благоразумия, видно, не занимать стать.
С этими словами он придвинул к столу одно из ковровых кресел, уселся и стал рассматривать каждую вещь в отдельности. Не дожидаясь приглашения, я тоже сел на стул, положил ногу на ногу и принялся наблюдать за ним. У него явственно дрожали руки, когда он брался за очередной предмет, обследовал его и затем не столько клал, сколько швырял обратно на стол. То была, несомненно, дрожь алчности, хотя он недоуменно пожимал плечами, в особенности когда — а это он сделал два раза, — повесив на руку бриллиантовую цепочку и дохнув на камни, начинал медленно пропускать ее между пальцами. Тем нелепее прозвучало его заявление, после того как он символически обвел рукой все лежащее на столе:
— Пятьсот франков.
— Позвольте спросить, за что именно?
— За все.
— Вы шутите.
— Нам, молодой человек, сейчас обоим не до шуток. За пятьсот можешь оставить мне свой улов. Говори, да или нет.
— Нет, — отвечал я, вставая. — И не подумаю, С вашего разрешения я забираю свои сувениры, так как вижу, что меня здесь хотят надуть самым недостойным образом.
— Что и говорить, достоинство тебе к лицу, — съязвил он. — И характер у тебя сильный, не по возрасту. А так как это заслуживает поощрения, то я дам тебе шестьсот франков.
— Выказывая такую щедрость, вы, несомненно, продолжаете шутить. Я, милостивый государь, выгляжу моложе своих лет, но, обращаясь со мной, как с ребенком, вы ничего не добьетесь. Мне известна реальная стоимость этих вещей, и хотя я не настолько наивен, чтобы предположить, что смогу выручить за них настоящую цену, но и предложений просто без-
420
нравственных тоже не потерплю. В конце концов конкуренция существует также и на этом поприще, и я найду к кому обратиться.
— У тебя язык хорошо подвешен, вдобавок к прочим твоим талантам. Но как тебе не приходит в голову, что конкуренты, которыми ты мне угрожаешь, в сговоре и держатся одних и тех же принципов.
— Весь вопрос, Жан-Пьер, сводится к тому, купите вы мои вещи или это сделает кто-нибудь другой.
— Я не прочь приобрести их, и, как мы уже говорили, по вполне разумной цене.
— Которая составляет…
— Семьсот франков — это мое последнее слово.
Я молча принялся рассовывать по карманам свое добро и прежде всего спрятал бриллиантовую цепочку. Он смотрел на меня, и щеки у него тряслись.
— Дурак, — не выдержал он, — не умеешь ценить своего счастья. Ты только подумай, какая это куча денег — семьсот или восемьсот франков: для меня, который их выложит, и для тебя, который их положит в карман! Чего-чего только ты не приобретешь на… ну, скажем, на восемьсот пятьдесят франков: красивых женщин, одежду, билеты в театр, великолепные обеды, — а ты, дурень несчастный, вместо этого хочешь и дальше таскать эти штуки в кармане. Ты уверен, что за дверью тебя уже не ждут полицейские? И мой риск тоже надо принять во внимание.
— Какой риск? — спросил я и на всякий случай добавил: — Вы что, в газетах читали об этих драгоценностях?
— Пока еще не читал.
— Вот видите! Хотя здесь дело идет не меньше чем о восемнадцати тысячах франков! Ваш риск нечто чисто теоретическое. Тем не менее я его приму во внимание, как если бы он действительно существовал, ибо в настоящее время испытываю денежные затруднения. Дайте мне половину стоимости этих вещей — девять тысяч, и я признаю сделку справедливой.
Он нарочито расхохотался, и мне пришлось с величайшим неудовольствием созерцать огрызки
421
испорченных зубов у него во рту. Потом визгливым голосом несколько раз повторил ту же цифру и наконец заявил:
— Ты с ума сошел.
— Названную цифру я считаю вашим первым словом после последнего, сказанного ранее. Но вам и ее придется пересмотреть.
— Послушай-ка, малец, это ведь первая сделка, которую ты заключаешь.
— Ну, и что с того? — отвечал я. — Отнеситесь с уважением к дебюту нового таланта! Не отталкивайте его от себя нелепой скаредностью, а, напротив, постарайтесь привлечь его широтой, подумайте о том, сколько раз еще он сможет быть вам полезен, этот человек, которого вы отсылаете к другим скупщикам, более прозорливым.
Он смотрел на меня, опешив, и, без сомнения, взвешивал в своем закоснелом сердце слова, которые я сказал ему. Я поспешил воспользоваться минутой и добавил:
— Какой нам смысл, господин Жан-Пьер, спорить и заниматься торгом и переторжкой. Надо набраться терпения и оценить эту коллекцию в целом.
— Что ж, я не прочь, — ответил он. — Давайте произведем подсчет.
Но тут я допустил грубейшую ошибку. Разумеется, при оптовой цене я бы тоже никогда не выторговал у него девяти тысяч франков, но борьба за оценку каждой вещи в отдельности, которая началась, покуда мы сидели за столом и часовщик записывал в блокнот свои гнусные расчеты, принудила меня к излишней уступчивости. Продолжалась эта история долго, не менее сорока пяти минут. Меж тем в лавке зазвенел колокольчик, и Жан-Пьер пошел отворять, шепотом приказав мне:
— Сиди и не дыши!
Он скоро пришел обратно, и торг продолжался. Цену за бриллиантовую цепочку я довел до двух тысяч франков, но если это и была победа, то, безусловно, единственная. Тщетно призывал я небеса в свидетели удивительной красоты топазового оже-
422
релья, ценности сапфира, украшавшего собой аграф, белой жемчужины из браслета, рубина и дымчатого жемчуга. За кольца мы сошлись на полутора тысячах. Все остальное, исключая цепочки, после долгой борьбы было оценено не ниже пятидесяти и не выше трехсот франков. Общая сумма составила четыре тысячи четыреста пятьдесят франков, и этот мошенник еще ужасался и уверял, что теперь пойдет по миру он и вся его семья. Вдобавок он еще объявил, что если так, то серебряные часы, которые я покупаю, будут стоить не двадцать пять, а пятьдесят франков, то есть столько, сколько он собирался заплатить за прелестную брошку-корзиночку. По такому счету мне причиталось четыре тысячи четыреста франков. «А Станко?» — подумал я. Мой доход был обременен большим долгом. И тем не менее мне оставалось только произнести свое «entendu»1. Жан-Пьер отпер железный сейф, под моим скорбным прощальным взглядом упрятал туда свою добычу и выложил на стол кредитные билеты — четыре тысячных и четыре сотенных. Я покачал головой.
— Не будете ли вы добры дать мне купюры помельче, — сказал я, пододвигая к нему тысячные кредитки.
— Браво, браво! — воскликнул он. — Я хотел испытать твое чувство такта. Ты не хочешь пускать пыль в глаза, когда пойдешь за покупками. Мне это нравится. Да ты мне и вообще-то нравишься, — продолжал он, разменивая тысячные билеты на сотенные с добавлением нескольких золотых монет и кучки серебряных, — я бы никогда не пошел на такую преступно расточительную сделку, если бы ты не внушил мне доверия. Сам видишь, что я хочу поддерживать с тобой связь. Из тебя, безусловно, может выйти толк. Ты весь какой-то солнечный. Кстати, как тебя зовут?
— Арман. — Ну, Арман, приходи опять и докажи этим, что ты умеешь быть благодарным. Вот твои часы.
423
А цепочку к ним я тебе дарю. (Она ломаного гроша не стоила). До свидания, мой мальчик! Не забывай меня. Пока мы тут обделывали дело, я, можно сказать, в тебя влюбился.
— Вам прекрасно удалось совладать со своим чувством.
— Ничуть не удалось.
Так мы расстались. Я поехал в омнибусе до бульвара Османа и в одном из ответвлявшихся от него переулков разыскал обувной магазин, где и приобрел себе пару отличных башмаков солидного вида и в то же время красиво облегающих ногу, в которых я остался, заметив продавцу, что на старые больше и смотреть не хочу. Рядом, в универсальном магазине «Весна», бродя из отделения в отделение, я накупил разных необходимых мелочей: три или четыре воротничка, галстук, шелковую рубашку, мягкую фетровую шляпу вместо своей шапки, которую я просто засунул в карман куртки, зонт в футляре, превращавшем его в трость — он мне страшно понравился, — замшевые перчатки и бумажник из кожи ящерицы. Затем я прошел в отдел готового платья, где недолго думая приобрел очень приятный костюм из мягкой и теплой шерстяной материи, точно на меня сшитый; в сочетании с крахмальным воротничком и синим галстуком в белый горошек он был мне очень к лицу. Костюм мне тоже не захотелось снимать, я попросил выслать мне мою старую оболочку и шутки ради оставил адрес: «Пьер Жан-Пьер, номер девяносто два, улица Небесной Лестницы».
Я превосходно себя чувствовал, выходя из «Весны» в этом новом обличье, с тростью и пакетом, перевязанным красным шнурочком, в руках, обтянутых замшевыми перчатками, с мыслью о женщине, которая носит в душе мой безликий образ и расспрашивает обо мне теперь, как мне казалось, более достойном ее расспросов. Конечно же, она порадовалась бы вместе со мной тому, что отныне мой изящный вид лучше соответствует нашим отношениям! Но за всеми этими хлопотами день уже стал клониться к вечеру, и я почувствовал голод. В одном из трактиров средней
424
руки я заказал себе отнюдь не пиршественный, но сытный обед: рыбный суп, хороший бифштекс с гарниром, сыр, фрукты и две кружки пива. Утолив голод, я решил часок-другой провести так, как проводили время те, на кого я с завистью смотрел вчера из окна омнибуса: а именно — посидеть под навесом кафе на Итальянском бульваре, любуясь на суету и сутолоку парижской улицы. Так я и сделал. Усевшись за столиком поближе к теплу жаровни, я закинул ногу за ногу, закурил и, попивая ликер, стал смотреть то перед собой на шумливое пестрое шествие жизни, то вниз на свою ногу в красивом, с иголочки, башмаке, которой я небрежно помахивал в воздухе. Так я сидел с добрый час и, вероятно, просидел бы и дольше, если бы под моим столиком и вокруг него не столпилось слишком много «ползунов», подбирающих отбросы. Я потихоньку сунул франк оборванному старику и десять су какому-то мальчишке в лохмотьях, которые подняли с полу мои окурки. Они были вне себя от радости, но это привлекло к моему столику такое количество их собратьев, что я, поскольку одному человеку все равно невозможно насытить всех алчущих, вынужден был обратиться в бегство. Тем не менее я должен признаться, что возможность оказать людям посильное вспомоществование, о котором я думал еще накануне вечером, сыграла известную роль в моей тяге к подобному времяпрепровождению.
Вообще же, покуда я там сидел, меня главным образом одолевали финансовые заботы, не выходившие у меня из головы и позднее, уже за другими занятиями. Как быть со Станко? Передо мной был нелегкий выбор, ибо мне предстояло либо признаться ему, что я оказался слишком неловким и ребячливым, чтобы получить за свой товар цену, хотя бы приблизительно равную той, которую он так уверенно назначил, и, расписавшись в этой постыдной неудаче, вручить ему тысячу пятьсот франков, либо, выгоднейшим для него образом отстаивая свою честь, наврать, что я выторговал сумму, близкую к той, на которую он рассчитывал, и отдать ему вдвое больше денег, но в таком случае у меня на руках осталось бы нечто
425
весьма жалкое и смахивающее на то, что Жан-Пьер имел наглость по началу предложить мне. На что решиться? В глубине души я уже чувствовал, что моя гордость, или, вернее, тщеславие, возьмет верх над корыстью.
Что касается моего времяпрепровождения после кафе, то за весьма умеренную входную плату я получил возможность полюбоваться великолепнейшей панорамой, где на фоне кругового ландшафта виднелись объятые пламенем деревни и поле битвы под Аустерлицем, кишевшее русскими, австрийскими и французскими войсками; панорама была выполнена так хорошо, что невозможно было провести границу между нарисованным в дальней перспективе и подлинным на переднем плане, где валялось брошенное оружие, ранцы и куклы, изображавшие павших воинов. Император Наполеон, окруженный свитой, стоя на холме, наблюдал в подзорную трубу за ходом сражения. Взволнованный этим зрелищем, я решил посетить еще одно — паноптикум, где на каждом шагу, объятый радостным испугом, ты сталкиваешься с монархами, отважными контрабандистами, великими мастерами искусств и знаменитыми женоубийцами, да так, что, кажется, вот-вот они с тобой заговорят. Аббат Лист с длинными седыми волосами и натуральнейшей бородавкой на щеке сидел там за роялем, одной ногой нажимая педаль, воздев взоры к небу и восковыми руками касаясь клавиш; а рядом с ним генерал Базен подносил к виску револьвер, но курка так и не спускал. Захватывающие впечатления для юного ума, но моя способность восприятия, несмотря на Листа и Лессепса, еще не истощилась. Настал вечер, суля новые и новые впечатления. Париж, как вчера, осветился пестрыми, то угасающими, то вновь вспыхивающими огнями реклам, и я, еще пошатавшись по улицам, зашел часа на полтора в варьете, где морские львы жонглировали зажженными керосиновыми лампами; фокусник толок в ступке чьи-то золотые часы, а потом в целости и сохранности вытаскивал их из заднего кармана ни в чем не повинного зрителя в одном из последних рядов партера; бледная как по
426
лотно певица в черных перчатках до локтя замогильным голосом бросала в лицо зрителям мрачные непристойности, и какой-то господин мастерски занимался чревовещанием. Я, впрочем, не дождался конца этой роскошной программы, так как хотел еще выпить где-нибудь чашку шоколада, а домой мне надо было поспеть прежде, чем наш дортуар наполнится народом.
По авеню Оперы и улице Пирамид я вернулся на ставшую мне уже родной Сент-Оноре и, не доходя до отеля, снял перчатки, так как подумал, что вместе с обновленным туалетом они придадут мне слишком уж вызывающий вид. Впрочем, пока я поднимался до четвертого этажа в лифте, все время переполненном, никто не обратил на меня внимания. Зато Станко вытаращил глаза, когда я, пройдя еще один пролет пешком, предстал перед ним в тусклом свете дортуарной лампочки.
— N
— Недурно, — отвечал я, раздеваясь и подходя к его койке. — Очень недурно, Станко, хотя и не совсем так, как мы надеялись. Этот тип все же оказался не из худших; он довольно обходителен, если, конечно, сумеешь к нему подойти и держать ухо востро. До девяти тысяч я доторговался. А теперь разрешите мне выполнить свое обязательство. — И, став на край нижней койки обутыми в щегольские ботинки ногами, я вынул из своего новенького, битком набитого бумажника три тысячи франков, пересчитал их и положил ему на байковое одеяло. — Мошенник! — воскликнул он. — Ты с него получил двенадцать тысяч.
— Клянусь вам, Станко…
Он расхохотался.
— Не горячись, голубок! Я знаю, что ты не заработал ни двенадцати, ни даже девяти тысяч франков, а от силы пять. Я хоть и лежу еще в постели, но жар у меня прошел, а в такие минуты человек от слабости
427
становится добрым. Поэтому я тебе сознаюсь, что я и сам не выжал бы у него больше четырех, в лучшем случае пяти тысяч. На вот, получай тысячу обратно. Мы оба люди добропорядочные, так ведь? Я в восторге от нас с тобой. Embrassons-nous! Et bonne nuit1.
Право же, ничего нет легче, как быть лифтером. Тут и учиться-то почти ничему не надо, а так как я очень нравился себе в новой ливрее, и не только себе, а, судя по некоторым взглядам, и моей великосветской клиентуре, и к тому же ощущал прилив бодрости от существования под новым именем, то поначалу я искренне радовался своей работе. Впрочем, сама по себе пустячная, эта служба, если выполнять ее с краткими перерывами от семи утра почти до полуночи, становится изрядно утомительной, и после такого дня человек влезает на верхнюю койку сломленный морально и физически. Шестнадцать часов подряд, за вычетом тех скудно отмеренных минут, когда персонал гостиницы завтракает, обедает и ужинает, кстати сказать, из рук вон плохо, в тесном помещении между залом ресторана и кухней; кстати сказать, малыш Боб, к сожалению, был совершенно прав, пища, которую нам давали, настраивала на ворчливый лад и состояла из всевозможных неаппетитно приготовленных остатков. Мне лично эти сомнительные рагу и фрикассе, к которым подавалось немного кислого petit vin du pays2, всегда казались жизнеопасными; должен прямо заметить, что более безрадостно мне приходилось питаться только в тюрьме. Итак, проводя шестнадцать часов на ногах, в пропитанной духами тесной кабине, вертя ручку, то и дело взглядывая на доску с выскакивающими на ней по звонку номерами этажей, впуская и выпуская пассажиров, ежеминутно останавливая машину при
428
подъеме и при спуске, я только
удивлялся дурацкому нетерпению постояльцев, которые непрерывно трезвонили из
вестибюля, не понимая, что я не могу в мгновенье ока слететь к ним с четвертого
этажа, если на каждой площадке мне приходится выходить, чтобы с учтивым
поклоном и любезнейшей улыбкой впустить торопящихся вниз пассажиров.
Я непрерывно улыбался, говорил: «M’sieur et dame»1 и «Watch your step»2, что
было уж вовсе бессмысленно, так как к концу первого же дня я научился
останавливать лифт точно вровень с площадкой или по крайней мере мгновенно его
выравнивать. Пожилых дам я учтиво поддерживал под локоть, словно выход из лифта
был невесть каким трудным делом, и нередко получал в награду слегка
сконфуженный, а иногда и меланхолически-кокетливый взгляд, которым отцветшая
жизнь поощряет учтивую молодость. Другие, напротив, подавляли в себе чувство
невольного восхищения или даже не подавляли, так как их сердца давно очерствели
и кроме классового высокомерия в них ни для чего не оставалось места. Иногда я
оказывал те же услуги молодым женщинам; они слегка краснели и бормотали
благодарность за внимание, что несколько разнообразило мою унылую работу. Но
думал я лишь об одной, и беглое заигрывание с другими было только репетицией желанной
встречи с нею. Я ждал ту, которая зримо жила в моих мыслях и в своих носила мой
незримый образ; я говорю о владелице шкатулки, дарительнице башмаков,
зонта-трости и выходного костюма, ту, с которой меня связывала сладостная
тайна. И я знал, что недолго буду ждать ее, если только она внезапно не уехала
из гостиницы.
И правда, на следующий день под вечер, часов в пять, когда Ёсташ
со своей подъемной машиной тоже находился внизу, она появилась в вестибюле с вуалью
поверх шляпы, такой, какою я уже однажды ее видел. Мы оба, мой невзрачный
коллега и я, стояли
429
перед раскрытыми дверьми своих
лифтов; напротив нас она замедлила шаг и, увидев меня, широко раскрыла глаза,
даже чуть покачнулась, не зная, какой лифт ей выбрать. Ее, несомненно, потянуло
к моему, но так как Ёсташ уже отступил от двери и сделал пригласительный жест,
то она, вероятно подумав, что теперь его очередь везти пассажиров, вошла в
кабину, еще раз широко раскрыв глаза, глянула на меня через плечо и унеслась
ввысь. Больше ничего в тот раз не произошло, если не считать, что при новой
встрече внизу с Ёсташем я узнал от него ее имя — мадам Гупфле из Страсбурга. «Impudemment riche, tu sais»1, — добавил Ёсташ. Но я осадил его
холодным: «Tant mieux pour elle»2. На другой день, в тот же самый час,
когда остальных лифтов на месте не было и только я еще стоял, дожидаясь
пассажиров, она снова прошла через вертящуюся дверь, на сей раз в норковом
полудлинном пальто и в берете из того же прекрасного меха; она, верно, ездила
по магазинам, так как в руках у нее было несколько небольших элегантного вида
пакетов, а одну какую-то коробку она прижимала к себе локтем. Завидя меня, она
удовлетворенно кивнула, улыбкой ответила на мой возглас: «Мадам!» — сопровожденный
учтивым поклоном и скорее походивший на приглашение к танцу, шагнула и оказалась
вместе со мной в ярко освещенной комнатке, тут же взмывшей кверху. В эту
секунду послышался звонок с четвертого этажа. — Deuxième, n’est-ce pas, Madame?3
— осведомился я, ибо она не дала мне никаких указаний. — Mais oui, deuxième, — подтвердила
она. — C
430
— К вашим услугам, мадам.
— Ну что ж, это приятная замена.
— Trop aimable,
Madame1.
У нее был мягкий, нервно вибрирующий альт. Но не успел я это
подумать, как она заговорила о моем голосе.
— Мне хочется похвалить вас за приятный голос. Слова консисториального
советника Шато!
— Je serais
infiniment content, Madame,— отвечал я, — si ma voix n'offensait pas votre oreille!2
Сверху опять позвонили. Мы были на втором этаже. Она вдруг
добавила:
— C'est en effet
une oreillie musicale et sensible. Du reste, l'ouïe n'est pas le seul de
mes sens qui est susceptible3.
Удивительная женщина! Я поддержал ее под локоть, словно ей
грозила какая-то опасность, и сказал:
— Разрешите, мадам, освободить вас наконец от этого груза и
донести его до вашей комнаты!
С этими словами я стал брать у нее из рук один пакет за
другим и, бросив свой лифт на произвол судьбы, пошел за ней по коридору. Мы
сделали не больше двадцати шагов. Она открыла двадцать третий номер по левой
руке и вошла впереди меня в спальню, откуда распахнутая дверь вела в гостиную.
Это была роскошная спальня с паркетным полом, устланным персидским ковром, с
мебелью вишневого дерева, сверкающим туалетным прибором, с широкой
металлической кроватью, покрытой стеганым атласным одеялом, и серой бархатной
качалкой. На эту качалку и на стеклянную доску маленького столика я положил
пакеты; мадам в это время снимала берет и расстегивала шубку.
431
— Моя камеристка не знает, что я пришла, ее комната этажом
выше. Не будете ли вы и дальше так любезны и не поможете ли мне снять пальто?
— С величайшим удовольствием,— отвечал я, принимаясь за
дело. Покуда я снимал с ее плеч подбитый шелком мех, еще хранивший тепло ее
тела, она повернула ко мне голову с пышными каштановыми волосами и волнистой
седой прядью, задорно выбивавшейся на лоб и казавшейся еще светлее по сравнению
с копной темных волос, широко раскрыла глаза, потом мечтательно зажмурила их —
и вот что она сказала:
— Ты раздеваешь меня, отважный холоп?
Невероятная женщина, и как это было сказано! Ошарашенный, я
все же сумел собраться с духом для ответа:
— Если бы богу было угодно, мадам, и если бы время
позволило, я с наслаждением продолжал бы это прелестное занятие.
— У тебя нет времени для меня?
— Увы, мадам, в настоящую минуту нет. Лифт стоит на втором
этаже с открытой дверью. Его требуют снизу и сверху, да и здесь перед ним,
наверно, собралось уж немало народа. Я потеряю место, если тотчас же не вернусь
к своим обязанностям…
— Но у тебя нашлось бы время для меня, будь у тебя время?
— Да, и бесконечно много, мадам!
— Когда у тебя будет время для меня? — настойчиво спросила
она. Глаза ее широко открылись, приняли хмельное выражение, и она вплотную
подошла ко мне в своем серо-голубом, облегающем фигуру английском костюме.
— В одиннадцать моя работа кончается, — тихо сказал я.
— Я буду тебя ждать, — так же тихо ответила она. — Вот тебе
залог! — И прежде чем я успел опомниться, моя голова оказалась между ее
ладоней, а рот ее прижался к моему для поцелуя, такого проникновенного, такого
глубокого, что он доподлинно стал связующим нас залогом.
432
Наверно, я был несколько бледен, когда
положил на качалку ее жакет, который все еще держал в руках, и направился к
двери. У лифта, действительно в полном недоумении, стояли три человека, перед
которыми я поспешил извиниться не только за свое отсутствие, но и за то, что,
прежде чем везти их вниз, мне пришлось подняться с ними на четвертый этаж,
откуда вызывали лифт и где уже никого не оказалось. Внизу мне наговорили немало
грубостей за учиненный мной беспорядок, но я тотчас пресек их, объяснив, что
одна дама внезапно почувствовала приступ слабости и мне пришлось проводить ее
до ее номера.
Мадам Гупфле — и слабость? Женщина прыти необыкновенной!
Правда, что этой прыти немало способствовали существенная разница в возрасте и
мое подчиненное положение, которое она охарактеризовала так необычно и
высокомерно. «Отважный холоп», — назвала она меня. Особа с несомненной
поэтической жилкой! «Ты раздеваешь меня, отважный холоп?» Неотвязное слово, оно
весь вечер не шло у меня из головы, все те шесть часов, которые надо было
прожить, прежде чем у меня «будет время для нее». Оно немножко уязвило меня,
это слово, но, с другой стороны, преисполнило гордости — я гордился отвагой,
которой, собственно, не обладал, но которую она навязала, можно даже сказать,
продиктовала мне. Так или иначе, но сейчас у меня ее было в избытке. Она вдохнула
в меня отвагу — и прежде всего через тот связующий залог.
В семь часов я вез ее вниз к обеду. Она вошла ко мне в
кабину, где уже было несколько пассажиров в вечерних туалетах, спускавшихся в
ресторан из верхних этажей, в восхитительном платье из белого шелка с коротким
шлейфом, с кружевами и вышитой туникой, перетянутой в талии черным бархатным
поясом; на шее у нее было колье из молочно-белых мерцающих и безупречно ровных
жемчужин, которое на ее счастье — и
на горе часовых дел мастера Жан-Пьера — не лежало в шкатулке. Я был поражен ее
высокомерным невниманием ко мне — и это после столь проникновенного поцелуя! И
тотчас же отомстил ей,
433
поддержав за локоть не ее, а
разряженную и похожую на призрак старуху. Мне почудилось, что она смеется над
моей милосердной галантностью.
В котором часу вернулась она в свою комнату, я так и не
узнал. Но время близилось к одиннадцати, к часу, когда продолжала работать уже
только одна подъемная машина, а два других лифтера получали свободу. Сегодня я
был одним из этих двух. Чтобы после дневных трудов освежиться для этого
нежнейшего из всех свиданий, я прошел сначала в нашу умывальню и затем
спустился по лестнице во второй этаж, коридор которого, устланный заглушавшими
шаг красными дорожками, в это время уже был погружен в тишину и спокойствие. Я
счел нужным постучаться в дверь гостиной мадам Гупфле под номером двадцать
пять, но мне никто не ответил. Тогда я открыл дверь двадцать третьего номера,
ее спальни, вошел в маленькую прихожую, легонько стукнул во внутреннюю дверь и
приложил к ней ухо.
В ответ послышалось вопросительное и даже слегка удивленное
«entrez»1 Я воспользовался разрешением, пропустив
мимо ушей его удивленный оттенок. Комната покоилась в красноватом полумраке,
освещенная только лампочкой на ночном столике. Мой быстро оценивший положение
взгляд обнаружил ее отважную обитательницу (я с удовольствием и по праву
переношу на нее эпитет, который она приложила ко мне) в кровати под пурпурным
шелковым одеялом, в роскошной кровати, стоявшей изголовьем к стене, неподалеку
от плотно занавешенного окна. Да, там лежала моя путешественница, закинув руки
за голову, в батистовом ночном одеянии, с короткими рукавами и глубоким
вырезом, вокруг которого пенились кружева. На ночь она заплела косы и венком
изящно и непринужденно уложила их вокруг головы. Седая вьющаяся прядь была
откинута с ее лба, уже тронутого морщинками. Едва успев затворить за собой
дверь, я услышал, как защелкнулся замок, соединенный с кроватью автоматическим
устройством.
434
Она широко раскрыла золотистые глаза, на одно мгновенье, как обычно. Но налет какой-то нервозной лживости еще лежал на ее лице, когда она воскликнула:
— Как? Это еще что такое? Слуга, поденщик, мальчишка из простонародья врывается ко мне в час, когда я уже легла спать?
— Это было ваше желание, мадам, — отвечал я, подходя к ее ложу.
— Мое желание? Да неужто? Ты говоришь — «желание», вместо того чтобы сказать «приказ», который дама отдала слуге, мальчику-лифтеру, и в невероятной своей дерзости, в своем бесстыдстве подразумеваешь под этим «вожделение», «влечение пламенное и страстное», да, именно такой смысл бесцеремонно и безоглядно вкладываешь ты в это слово, потому что ты молод и красив, так молод, так красив, так нахален… «Желание!» Но слушай, предмет моих желаний, мечта моя, миньон в ливрее, сладостный илот, скажи, отважишься ли ты, при всей своей дерзости, хоть немного разделить со мной это желание?
Она потянула меня за руку, и я поневоле опустился на металлическую кромку кровати; чтобы сохранить равновесие, мне пришлось опереться оспинку, так что я оказался склоненным над ее наготой, едва прикрытой тончайшим батистом и кружевами. На меня пахнуло душистым теплом. Слегка уязвленный (не могу не признаться в этом) ее настойчивым подчеркиванием моего низкого положения — зачем это было ей нужно и чего она этим хотела добиться? — я молча нагнулся еще ниже и прижал свои губы к ее губам, и она ответила мне поцелуем, еще более проникновенным, чем тот, предвечерний. Стоит ли говорить, что я отозвался на него. Сняв мою руку с опоры, она сунула ее за вырез своей сорочки, под груди, они пришлись мне как раз по руке, и стала водить ею так, что мучительно восстало, и от нее это не укрылось, мое мужское естество. Растроганная[74], она сострадательно, радостно и нежно проворковала:
— О милая юность, насколько же ты лучше того тела, которому выпало счастье разжечь тебя!
435
И обеими руками с неимоверной быстротой стала расстегивать крючки и пуговицы на моей куртке.
— Прочь, прочь, зачем это, и вот это тоже, — слетали с ее
губ торопливые слова. — Снимай, сбрасывай, сбрасывай, я хочу тебя видеть, хочу
видеть бога! Да не мешкай же! C
Никогда я не встречал женщины, так владеющей словом. То, что
она восклицала, было песней, музыкой, и она продолжала непрерывно говорить,
пока я оставался с ней. Такая уж у нее была манера — все облекать в слова. В
своих объятиях она сжимала питомца и предпочтенного ученика суровой Розы. Он
дарил ее счастьем и слышал из ее уст подтвержденье этому.
— О сладчайший! О ты, ангел любви, исчадье страсти! А-а-а,
дьявол, ладный мальчик, как ты это делаешь! Мой муж ни на что не способен,
совсем, совсем ни на что! О, будь благословен! Ты меня убиваешь! Мне нечем
дышать от счастья, мое сердце разрывается, я умру от твоей любви! — Она укусила
меня в губы, в шею. — Говори мне «ты», — вдруг простонала она уже в последних
содроганиях. — Называй меня на «ты», не церемонься,
унижай меня! J’adore d’être
humiliée! Je l’adore! Oh, je t’adore, petit esclave stupide qui me
déshonore…4
436
Она изошла. Я тоже. Я отдал ей все! Наслаждаясь сам,
по-честному расплатился с ней. Но разве мог я не сердиться на то, что в
последний миг она бормотала об унижении, называла меня глупым маленьким рабом?
Мы лежали, еще сплетенные, еще в тесном объятье. Но задетый этим «qui me déshonore», я не
отвечал на ее благодарные поцелуи. Прильнув ртом к моему телу, она еле слышно
шептала:
— Скажи мне «ты», живо! Я еще не слышала твоего «ты». Мы
здесь лежим и любимся, а ведь ты простой слуга. Какое чудное бесчестье! Меня
зовут Диана. Но ты, ты должен называть меня шлюхой. Скажи совсем отчетливо:
милая моя шлюха!
— Милая Диана!
— Нет, скажи «шлюха». Дан мне упиться, услышав от тебя это
слово.
Я высвободился из ее рук. Мы лежали рядом, и наши сердца еще продолжали усиленно биться. Я сказал:
— Нет, Диана, таких слов ты от меня не услышишь. И не жди. Должен тебе сознаться, мне очень горько, что ты в моей любви видишь унижение…
— Не в твоей, — воскликнула она, притягивая меня к себе. — В моей! В моей любви к вам, ничтожные мальчишки! Ах, дурачок, ты этого не понимаешь.
Она схватила мою голову и несколько раз, в своего рода любовном отчаянии, стукнула ею о свою.
— Имей в виду, что я писательница, интеллектуальная женщина,
Диана Филибер. Гупфле — мой муж, c’est
du dernier ridicule;1 я
печаталась под своей девичьей фамилией — Филибер, sous se n
437
и она еще сильнее стукнула мою голову
о свою, — ну откуда тебе это понять! Интеллект томится по антидуховному,
осязаемо красивому dans sa
stupidité1,
влюбляется до безумия, до самоотрицания и самоотречения, влюбляется в красоту,
в божественную глупость, падает ниц перед нею, молится на нее в сладострастном
порыве самозабвения и самоуничижения, пьянеет от счастья, когда его оскорбляют.
— Ну, милое мое дитя, — я все-таки решился прервать ее, — за
такого уж простака ты меня все же не считай, пусть я не читал твоих романов и
стихов…
Она не дала мне договорить, придя в восторг, для меня отнюдь
не желательный.
— Ты назвал меня «милое мое дитя»? — крикнула она, бурно меня обнимая и зарываясь ртом в мою шею. — Ах, как это хорошо! Еще лучше, чем «милая шлюха»! Это блаженство во сто крат большее, чем то, которое ты, кудесник любви, заставил меня пережить! Голый маленький лифтер лежит со мной в постели и называет меня «милое дитя», меня, Диану Филибер! C’est exquis… ça me transporte! Armand, chéri2, я не хотела тебя огорчить. Не хотела сказать, что ты как-то особенно глуп. Красота всегда глупа, потому что она просто бытие, то есть то, что нуждается в возвышении через интеллект. Дай мне посмотреть на тебя, на всего тебя, господи, до чего же ты красив! Грудь, сладостная нежной и чистой суровостью! Стройные руки! Ребра какие прелестные! Впалые бедра, и ах, ах, ноги, как у Гермеса…
— Ну что ты несешь, Диана. Как раз наоборот, меня твоя красота…
— Вздор! Это вы себе внушили. Мы, женщины, должны быть счастливы, что вам так нравится наш набор округлостей. Божественная прелесть, перл творения, эталон красоты — это вы, молодые, совсем еще юные мужчины, с ногами, как у Гермеса. А знаешь ты, кто такой Гермес?
438
— Должен тебе признаться, что в настоящую минуту…
— Céleste!1 Диана Филибер отдается человеку, никогда не слыхавшему о Гермесе! Какое сладостное унижение для интеллекта! Сейчас, бедняжка ты мой, я тебе объясню, кто такой Гермес. Это юркий бог воров.
Я смешался и покраснел. На секунду у меня мелькнуло смутное подозрение, но я взглянул на нее — и оно рассеялось. Да и слова, которые она, прижимаясь губами к моему локтю, то шептала, то, взволнованно возвышая голос, произносила нараспев, меня вполне успокоили.
— Веришь ли, любимый, что с тех пор, как я научилась
чувствовать, я любила только тебя, тебя одного. Ну, не тебя, конечно, но идею
такого, как ты, сладостный миг, который в тебе воплотился. Можешь считать это
извращенностью, но мне противен мужчина в летах, с бородой и волосатой грудью,
зрелый, быть может, даже значительный человек. Affreux!2 Какая
гадость! Значительна я сама, и я считаю извращением de me coucher avec un h
— Двадцать, — отвечал я.
— Ты выглядишь моложе. Для меня ты уже чуть староват.
— Я? Для тебя староват?
— Ладно, ладно, такой, какой ты есть, ты мое блаженство! Сейчас я тебе скажу… Может быть, эта страсть объясняется тем, что я никогда не была матерью, матерью сына. Я бы его боготворила, будь он не вовсе дурен собой, но где уж там — сын Гупфле… Может быть, эта моя страсть — неутоленное материнство, тоска по сыну… Ты говоришь, извращенность?
439
А вы-то, вы-то? Что для вас наши
груди, которые вас вскормили, наше лоно, которое вас породило! Разве вы не
жаждете снова стать грудными младенцами? Разве не мать вы так непозволительно
любите в женщине? Извращенность? Любовь — извращенное, насквозь извращенное
чувство, и другой она быть не может. Хоть зондом прощупай ее, и везде, везде ты
только извращение и обнаружишь… Но грустно, конечно, до боли грустно женщине
любить мужчину лишь в юноше, в мальчике. C’est un amour tragique, irraisonnable1,
любовь непризнанная, непрактическая. Для жизни она не годится и для брака тоже.
За красоту замуж не выйдешь. Я вышла за Гупфле, богача-фабриканта, чтобы писать под защитой его
богатства, писать книги qui sont
énormément intelligents2.
Мой муж ни на что не способен, я уж тебе сказала, во всяком случае со мной. Il me tr
440
ночь, но мне и в смертный час страстей не превозмочь! И мы, mon bien-aimé, уснем с тобою оба свинцовым вечным сном под черной крышкой гроба. Но юношей краса из мира не уйдет, и тот же стон сердец пронзит небесный свод.
— Что ты такое говоришь?
— Как? Тебя удивляет, что я воспеваю в стихах то, чем ты так страстно восхищаешься? Tu ne connais pas donc le vers alexandrin — ni le dieu voleur, toi-même si divin!
Сконфузившись, как маленький мальчик, я покачал головой. Она была вне себя от умиления, и должен сознаться, что все эти хвалы и славословия, вылившиеся в стихи, под конец сильно меня возбудили. И хотя жертва, которую я принес первому нашему объятию, полностью меня опустошила, Диана убедилась, что я снова готов к любви, убедилась с характерным для нее смешением растроганности и восторга. Мы снова слились воедино. И что же? Отказалась она от того, что называла самоотрицанием духа, от этой болтовни об унижении? Нет!
— Арман,— зашептала она мне на ухо, — будь строже со мной. Ведь я твоя раба! Обойдись со мной как с последней девкой. Я не заслуживаю другого обхождения, для меня это будет блаженством!
Я ее не слушал. Мы опять впали в истому. Но она и в истоме что-то измышляла.
— Послушай, Арман.
— Что тебе?
— Накажи меня! Я хочу сказать, выпори меня как следует. Меня, Диану Филибер. Право же, я этого стою и буду тебе только благодарна. Вон твои подтяжки, возьми их, любовь моя, переверни меня и отстегай до крови.
— И не подумаю. За кого ты меня считаешь? Я не из таких любовников…
— Ах, как жаль! Высокопоставленная дама внушает тебе почтение?
441
Тут мне снова пришла мысль, однажды уже у меня мелькнувшая. Я сказал:
— Послушай лучше ты, Диана! Я сейчас тебе кое-что открою, и, может быть, это тебя вознаградит за то, в чем я, просто в силу своих вкусов, вынужден тебе отказать. Скажи, когда ты, приехав сюда, распаковала или велела распаковать свой чемодан, самый большой, ты не обнаружила никакой пропажи?
— Пропажи? Нет. Ах, да, да! Откуда ты знаешь?
— Пропала шкатулка?
— Шкатулка, да! С драгоценностями? Но как ты мог узнать?
— Я ее взял.
— Взял? Когда?
— На таможне мы стояли рядом. Ты занялась разговором, а я взял ее.
— Ты ее украл? Ты — вор? Mais[75] ça c’est suprême!1 Я лежу в постели с вором! C’est une humiliation merveilleuse, tout à fait excitante, un rêve d’humiliation!2 Не только холоп, но еще и вор вдобавок!
— Я знал, что тебя это обрадует. Но тогда-то я ведь этого не думал, и я обязан попросить у тебя прощения. Не мог же я предвидеть, что мы будем любить друг друга. Я бы, конечно, избавил тебя от страха и огорчения лишиться дивных топазов, бриллиантовой цепочки и всего остального.
— Страх? Огорчение? Милый! Жюльетта, моя камеристка, наверно, с полчаса искала шкатулку. Но я? Да я и двух минут не огорчалась из-за этой ерунды. Что мне эти украшения? Ты их украл, любимый, значит они твои. Оставь их себе. А что ты мог с ними сделать? Ах, да мне все равно. Мой муж, завтра он за мной приедет, набит деньгами! Его фабрика, да будет тебе известно, делает унитазы. А этот товар, как ты сам понимаешь, нужен каждому. Страсбургские унитазы фирмы Гупфле — спрос на них огромный, их экспортируют во все концы света.
442
Он осыпает меня драгоценностями — из-за нечистой совести, конечно — и купит мне куда более красивые вещи, чем те, что ты украл. Ах, насколько же мне вор дороже уворованного! Гермес! Ты Гермес! Хоть ты и не знаешь, кто он такой! Арман?
— Что ты хочешь сказать?
— У меня замечательная идея.
— Что за идея?
— Арман, ты должен меня обокрасть. Сейчас, на моих глазах! То есть нет, я закрою глаза и притворюсь, что сплю. Но украдкой буду наблюдать, как ты крадешь. Вставай, не надо одеваться, и иди воровать, бог воров. Ты стащил еще далеко не все, что я взяла с собой, а я на эти несколько дней до приезда мужа ничего не сдала на хранение. Там, в угловом шкафчике, на верхней полке справа, лежит ключ от комода. А в комоде, под бельем, ты найдешь уйму всякой всячины. И деньги тоже. Иди, иди воровать, ступай неслышно, как кошка! Ведь не откажешь же ты своей Диане в таком удовольствии!
— Но, милое дитя, — я называю тебя так, потому что тебе это приятно, — милое дитя! Это было бы уж очень не gentlemanlike1 после всего, что произошло между нами.
— Глупый! Это же будет воплощенная мечта моей любви!
— Но завтра явится monsieur Гупфле! Что он скажет…
— Мой муж? А что ему говорить? Я расскажу ему между прочим, с самым спокойным видом, что в дороге меня обворовали. Такие вещи случаются. Богатая женщина может себе позволить быть немного рассеянной. Что пропало, то пропало, и вора искать уже поздно. Нет уж, будь покоен, с мужем я как-нибудь договорюсь.
— Но, дорогая моя Диана, у тебя на глазах…
— Ах, ты не понимаешь, какая прелесть мой замысел! Хорошо, я не буду на тебя смотреть. Я тушу свет.
443
И правда, она выключила лампочку под красным абажуром, и нас окутал мрак.
— Я не стану на тебя смотреть, я хочу только слышать, как паркет будет поскрипывать у тебя под ногами, слышать твое дыхание, когда ты откроешь комод, и то, как добыча тихонько звякнет у тебя в руках. Иди, бережно высвободись из моих объятий, крадись, найди и возьми! Это апофеоз моей любви…
Я повиновался. Осторожно встал с постели и взял все, что оказалось под рукой, впрочем, это было нетрудно сделать: в вазочке на ночном столике лежали кольца, а чуть подальше на стеклянную доску стола, возле кресла, было брошено жемчужное ожерелье, которое она надевала к обеду. Несмотря на полную темноту, я тотчас же нашел в угловом шкафчике ключ от комода, почти неслышно открыл верхний ящик и, сунув руку под белье, нащупал драгоценности: подвески, браслеты, аграфы и несколько кредитных билетов. Все это я добропорядочно снес к ней на кровать, но она прошептала:
— Что ты делаешь, дурачок? Это
ведь добыча возлюбленного-вора. Сунь эти вещи к себе в карман, оденься и
удирай, как положено вору. Живо, живо беги отсюда! Я все слышала, слышала, как
ты дышишь, совершая кражу, и сейчас я позвоню в полицию. Или не стоит этого
делать? Как по-твоему? Ну, как ты там? Уже готов? Надел уже свою ливрею со всей
любовно-воровской добычей? Надеюсь, ты не стащил мой крючок для ботинок, нет,
вот он здесь… Прощай, Арман! Не забывай свою Диану, ибо в ней ты пребудешь
вечно. Пройдут века. Когда le temps
t’a détruit, ce cœur te gardera dans ton m
КНИГА ТРЕТЬЯ
Надеюсь, читатель поймет и даже одобрит, что я не только посвятил этому необычному эпизоду целую главу, но и не без торжественности закончил ею вторую часть моей исповеди. Подобное событие, конечно, навсегда остается в памяти, и потому страстные мольбы героини этой ночи помнить о ней были совершенно излишни. Такую, в полном смысле слова, оригинальную женщину, как Диана Гупфле, и такую странную встречу не забываешь. Этим я хочу сказать, что ситуация, в которой читателю довелось нас увидеть, как таковая не повторялась в моей жизни. Конечно, путешествующие в одиночестве дамы, да еще дамы на возрасте, отнюдь не всегда приходят в негодование, обнаружив ночью у себя в спальне молодого человека, и не всегда в таких случаях единственным их импульсом бывает — звать на помощь. Но если я впоследствии и оказывался в подобных положениях (а я в них оказывался), то по значительности и своеобразию они все же многим уступали той встрече, и я, даже рискуя расхолодить интерес читателя к дальнейшей моей исповеди, должен сознаться, что в будущем, как бы высоко я ни поднимался по общественной лестнице, никто уже не разговаривал со мной александрийским стихом. За любовно-воровскую добычу, оказавшуюся в моих руках благодаря причуде поэтессы, я получил шесть тысяч франков от мсье Жан-Пьера, который
445
без устали хлопал меня по плечу. Но так как Гермес изъял из комода Дианы еще и четыре тысячефранковых билета, спрятанных под бельем, то вместе с тем, что у меня уже было, я стал обладателем капитала в 12 350 франков. Разумеется, я постарался недолго носить его в карманах и, оставив себе сотни две или три франков на мелкие расходы, в первую же свободную минуту снес свои деньги в «Лионский кредит», где мне открыли текущий счет на имя Армана Круля.
Читатель, надо думать, сочтет похвальным такое мое поведение. Ведь нет ничего легче, как представить себе молодого вертопраха, который, получив благодаря искусительным проискам фортуны в свое распоряжение довольно значительные средства, ушел бы с неоплачиваемой работы, снял уютную холостяцкую квартирку и пожил бы на славу — благо Париж щедро дарит своих гостей всеми видами удовольствий, — пока в срок — увы, вполне обозримый — не исчерпались бы его ресурсы. Я ни о чем подобном не думал, а если и думал, то с благонравной решительностью спешил отогнать от себя эту мысль. К чему привело бы осуществление таковой? Куда бы я делся, растратив раньше или позже, в зависимости от моей житейской прыти, все, что у меня имелось за душой? Мне слишком памятны были слова крестного Шиммельпристера (с которым я время от времени обменивался коротенькими открытками) о прямых и окольных путях к прекрасному будущему, открытых перед тем, кто служит в большом отеле. Посему, не желая оказаться неблагодарным и пренебречь тем, что мне предоставили его интернациональные связи, я быстро справился с искушением. Впрочем, по правде говоря, я, хотя и твердо держался этой своей «исходной точки», но совсем, или, вернее, почти совсем, не помышлял о «прямом пути» и в мечтах не видел себя ни метрдотелем, ни портье, ни даже главноуправляющим гостиницы. Зато тем более влекли меня «окольные дорожки», и я только помнил, что мне надо остерегаться, как бы доверчиво не принять первый попавшийся тупичок за такую ведущую к счастью тропинку.
446
Итак, даже сделавшись обладателем чековой книжки, я продолжал оставаться лифтером в отеле «Сент-Джемс». И, право же, была известная прелесть в том, чтобы на фоне тайного материального благополучия разыгрывать эту роль: ведь таким образом и моя эффектная ливрея становилась не более как «костюмом») одним из тех, в которые меня обряжал крестный Шиммельпристер. Мое сокровенное богатство — ибо таковым представлялись мне точно во сне свалившиеся на меня деньги — делало и самую ливрею и службу, которую я нес в этой ливрее, своего рода мо́роком лишним подтверждением моей способности быть «оборотнем». И если в дальнейшем я с потрясающим успехом выдавал себя за нечто большее, чем я был, то в ту пору мне приходилось выдавать себя за меньшее, и я даже затрудняюсь сказать, какая игра меня больше веселила и завлекала своей волшебной сказочностью.
Конечно, в этом доме, столь изобильном и щедром для богатых гостей, на мою долю доставались плохая пища и жесткое ложе, но, по крайней мере, то и другое я имел даром и потому, еще не получая жалованья, мог не трогать своих денег и даже понемногу приумножать их благодаря тем пустякам, которые мне и моим коллегам-лифтерам перепадали от проезжающих в виде pourboires1, или, как я бы предпочел сказать, douceurs2. Желая быть вполне точным, скажу, что мне, как правило, давали несколько больше и с более любезной миной, чем остальным — франк, два или три, иногда пять, а в случаях исключительной, стыдливо скрываемой тароватости — даже десять франков, в чем, конечно, сказывалось чутье к благородному материалу; и характерно, что в моих простоватых товарищах это даже не вызывало чувства зависти или недоброжелательства. Это делали дамы, отъезжающие или долго здесь живущие, и даже мужчины, подстрекаемые к тому своими благоверными. Мне вспоминаются супружеские
447
сценки, которых я не должен был
замечать и, разумеется, делал вид, что не замечаю, подталкивание локтем
спутника, шепот вроде: «Mais donnez donc quelque
chose à ce garçon, give him s
Иногда мы уходили вместе со Станко; он давно уже выздоровел
и вернулся на свой пост изготовителя всевозможных лакомых блюд для буфета,
торгующего холодными закусками. Он хорошо ко мне относился, да и я к нему
неплохо, и не без удовольствия посещал вместе с ним кафе и разные
увеселительные заведения, хотя и не считал, что такой компаньон служит мне к
украшению. Из-за его пристрастия к ярким тонам и крупным клеткам вид его в
партикулярном платье был очень уж вызывающе экзотичен; куда более приятное
впечатление он производил в белом рабочем халате и высоком поварском колпаке.
Это было так, и здесь уж ничего не поделаешь. Рабочему люду не к чему «выряжаться»
по образцу буржуа-горожанина. Он этого делать не умеет и от такого наряда становится
только непригляднее. Я не раз слышал, как в этом смысле высказывался крестный
Шиммельпристер, и вид Станко всякий раз напоминал мне его слова. «Какая
жалость,— говаривал он, — что народ унижает себя претензиями на изящество,
равняясь по нормам, распространившимся в мире благодаря влиянию буржуазии.
Праздничный наряд крестьянской женщины,
448
несомненно, больше к лицу дородной служанке, нежели шляпа с перьями и шлейф, нацепив которые, она пытается по воскресеньям разыгрывать изящную даму, так же как цеховое платье больше пристало рабочему, нежели пиджачный костюм. Но поскольку канули в вечность времена, когда сословия таким живописным образом блюли собственное достоинство, то лучше бы уж в обществе, не знающем сословных различий, где нет ни дам, ни служанок, ни изящных джентльменов, ни топорных парней, все одевались одинаково». Золотые слова — и вполне в моем духе! Я и сам, думалось мне, ничего бы не имел против такого костюма: рубашка, штаны, пояс — и все. Мне бы он был к лицу, да и Станко выглядел бы в нем лучше, чем в своем псевдоизящном наряде. Да и вообще человеку идет все кроме абсурдного, глупого и полупочтенного.
Но это только заметка на полях, небольшое à propos1. Итак, мы со Станко время от времени посещали кабаре, кафе на вольном воздухе, иногда даже кафе «Мадрид», где во время театрального разъезда царит большое оживление, наблюдать за которым весьма поучительно. Но однажды мы забрели на гала-представление в цирк Студебеккера, уже с месяц гастролировавший в Париже. О нем-то я и хочу сказать здесь несколько слов, ибо с моей стороны было бы непростительным упущением лишь бегло и бесцветно упомянуть об этом столь красочном вечере.
Знаменитый цирк раскинул широкий круг своего шатра на сквере Сен-Жак, неподалеку от театра Сары Бернар и набережной Сены. Толпа сюда стеклась огромная, ибо сегодня ей, видимо, предлагалось нечто превосходившее все то, что обычно предлагается на этом поприще отважного и высокодисциплинированного haut-goût2. И правда, как возбуждает наши чувства, нервы, сладострастные инстинкты эта непрерывная смена номеров в быстро
449
разворачивающейся программе, номеров, основанных на сальто-мортале, но граничащих с невозможным и тем не менее выполняемых с веселой улыбкой и воздушными поцелуями; ведь все эти артисты, в бесконечной своей смелости, грациозно играют со смертью и увечьем под гром низкопробной музыки, которая, соответствуя чисто физическому характеру всего представления, не соответствует его высокому совершенству и тем не менее заставляет нас холодеть от ужаса, возвещая приближение того немыслимого, что все же совершается на наших глазах.
Быстрым кивком (в цирке поклоны не приняты) артист благодарит за овацию толпу, заполняющую обширный амфитеатр, совсем особую публику — своеобразное смешение жадной до зрелищ черни и грубовато-изысканных любителей конского спорта. В ложах — кавалерийские офицеры в заломленных набекрень фуражках; гладко выбритые молодые бездельники с моноклем в глазу, с гвоздиками и хризантемами в петлицах широких желтых пальто; кокотки вперемежку с любопытными дамами из аристократических предместий, за стульями которых сидят знатоки-кавалеры в серых сюртуках и таких же цилиндрах, с биноклями, по-спортивному болтающимися на груди, словно на скачках в Лонгшане. И ко всему этому дурманящая, возбуждающая толпу плотски ощутимая жизнь арены — роскошные яркие костюмы, ослепительная мишура, насквозь пропитавший цирк острый запах конюшен, нагие тела — мужские и женские. Все вкусы удовлетворены, все вожделения раззадорены обнаженными грудями и спинами, понятной каждому красотой, буйной прелестью человеческого тела, совершающего подвиги в угоду грозно жаждущей этих подвигов толпе.
Наездницы из пушты, с дикими телодвижениями, под хриплые выкрики вскакивающие на бешено несущихся, косящих глазом неоседланных коней, сводят с ума толпу страшным искусством вольтижировки. Гимнасты в подчеркивающих стройность фигуры туго облегающих трико телесного цвета, могучие безволосые руки атлетов, на которые женщины смотрят со
456
странно холодным выражением лица, и прелестные мальчики. Труппа прыгунов и эквилибристов в спортивных костюмах, ничего общего не имеющих с фантастическими одеяниями других циркачей, произвела на меня очень приятное впечатление еще и тем, что прежде нежели приступить к очередному головоломному упражнению, они как бы потихоньку совещались между собой. Лучший из них и, по-видимому, любимец всей труппы был мальчик лет пятнадцати; подброшенный трамплином, он делал в воздухе два с половиной сальто-мортале, а затем, даже не пошатнувшись, опускался на плечи своего старшего брата, что, впрочем, удалось ему только на третий раз. Дважды он пролетал мимо и падал. И надо сказать, что то, как он улыбался и покачивал головой на свою неловкость, производило не менее очаровательное впечатление, чем иронически галантный жест, которым брат призывал его вернуться на трамплин. Возможно, что все это была игра, ибо когда в третий раз, сделав сальто-мортале, он стал ему на плечи, уже действительно не покачнувшись, толпа разразилась тем более громкими аплодисментами и криками браво, перешедшими в бурную овацию, после негромкого «me voila»1, с которым он протянул к ней руки. Но, конечно, в момент этой преднамеренной или наполовину случайной неудачи опасность переломить себе позвоночник была больше, нежели при его триумфальном прыжке. Что за люди эти артисты! Да и люди ли они? Клоуны, например, эти говорящие на тарабарском языке странные шутовские создания с красными ручками, маленькими ножками в мягких туфлях, с рыжим вихром под конусообразной войлочной шляпой, которые ходят на руках, вечно на что-то натыкаются, падают, бессмысленно мечутся по арене, стараясь помочь всем и каждому, и заставляют публику покатываться со смеху при виде их до ужаса неудачных попыток подражать своим более положительным коллегами, скажем, в хождении по проволоке. Люди
451
ли они, эти малорослые и безвозрастные сыны глупости, над которыми так потешались мы со Станко (я, правда, не без меланхолического восхищения), с их мучнисто-белыми, до абсурда размалеванными лицами — треугольные брови, вертикальные черточки под красными глазами, носы, не существующие в природе, уголки рта, задранные кверху в идиотической улыбке, — словом, маски, находящиеся в немыслимом противоречии с великолепием костюмов, иногда, например, черно-атласных, затканных серебряными мотыльками, — не костюм, а мечта. Разве они люди, мужчины, человеческие особи, имеющие свое место в социальном и природном мире? Я полагаю, что пустая сентиментальность утверждать, будто они «тоже люди», с человеческими чувствами, да еще, пожалуй, с женами и детьми. Нет, я только оказываю им честь, защищая их против гуманной пошлости и говоря: они — не люди, они — отщепенцы, чудища, над которыми смеются до колик в животе, удалившиеся от жизни схимники абсурда, кривляющиеся гибриды человека и дурацкого искусства.
Для заурядности все должно быть «человеческим». Иные еще
считают себя невесть какими сердцеведами, усматривая человека под такой личиной.
Была ли «человеком» Андромаха — «La
fille de l’air»1, как
она называлась в длинной бумажной программке? Еще и сегодня она — моя мечта, и
хотя Андромаха и ее сфера бесконечно далеки от шутовства, я именно ее имел в
виду, распространяясь здесь о клоунах. Она была звездой цирка, гвоздем
программы и работала на трапеции под куполом, не зная себе равных. Причем — и
это было сенсационное нововведение, неслыханное в истории цирка, — работала без
сетки вместе со своим партнером, очень умелым акробатом, хотя его умение ничего
общего не имело с ее виртуозным искусством; он, собственно, только подавал ей
руку и подготавливал все необходимое для ее сверхотважных и выполняемых с
удивительным совершенством эволюций в воздушном пространстве между двумя
452
сильно раскачанными трапециями. Сколько ей было лет? Двадцать? А может быть, больше? Или меньше? Кто знает! Черты лица у нее были строгие и благородные. И, как ни странно, их не только не безобразила, но, напротив, делала еще чище и обаятельнее резиновая шапочка, которую она, перед тем как приступить к работе, надевала на свои стянутые в пышный узел каштановые волосы, так как без этого они бы неминуемо рассыпались во время ее воздушной страды. Ростом чуть выше среднего, она была одета в нечто вроде облегающего панциря, с опушкой из мелких белых перьев и с крылышками на плечах, вероятно, в подтверждение ее титула «Дочь воздуха». Словно они могли помочь ей в полете! Грудь у нее была маленькая, таз узкий, мускулатура рук, само собой разумеется, более выпуклая, чем то обычно бывает у женщин, цепкие кисти, правда, не очень большие и все же не вовсе исключавшие подозрения, что она — прости меня господи! — переодетый юноша. Но нет, женские формы груди были несомненны, так же как и бедер, несмотря на всю их поджарость. Она почти не улыбалась. Ее прекрасные губы были приоткрыты, и ноздри греческого, чуть загнутого книзу, носа слегка раздувались. Она презирала какое бы то ни было заигрывание с публикой. И после tour de force1, отдыхая на деревянной перекладине трапеции и держась одной рукой за проволоку, другой делала лишь едва заметный приветственный жест. При этом ее суровые глаза безучастно смотрели прямо перед собой из-под ровных не нахмуренных, но недвижных бровей.
Я молился на нее. Она встала на трапеции, с силой оттолкнулась, потом отделилась от нее и, пролетев мимо своего партнера к другой трапеции, пущенной ей навстречу, схватила своими не мужскими и не женскими руками ее округлую перекладину, вытянувшись в струну, проделала на ней так называемую мертвую петлю, удающуюся лишь немногим из воздушных гимнастов, и, набрав инерцию для обратного
453
полета, вновь пронеслась по воздуху мимо партнера, к только что оставленной ею трапеции, успев на лету еще проделать сальто-мортале под самым куполом, ухватила ее, подтянулась — при этом мускулы осязаемо напряглись на ее руках — и села на перекладину, приветственно вытянув руку, все с тем же невидящим взглядом.
Это было неправдоподобно, несвершаемо, и тем не менее она это свершила. У тех, кто ее видел, дыхание занялось от восторга и холодок подкатил к сердцу. Толпа не разразилась бурными рукоплесканиями, она молитвенно благоговела перед нею, так же как и я; благоговела в мертвой тишине, вызванной тем, что музыка смолкала каждый раз, когда эта женщина проделывала опаснейшие свои трюки. Что жизнь здесь зависела от скрупулезно точного расчета, понятно само собой. С точностью до малой доли секунды должна была подлететь к ней оставленная партнером трапеция и ни на йоту не изменить положения, когда она, после своего гигантского броска и сальто-мортале, возвращалась на нее. Если бы эта перекладина не оказалась на месте, если бы ее дивные руки схватились за пустоту, она низверглась бы, вероятно, вниз головой из своей стихии — воздуха— на низменную землю, которая для нее означала смерть. При мысли об этих с абсолютной непреложностью рассчитанных условиях мороз подирал по коже.
Но я еще раз спрашиваю, было ли в Андромахе что-то человеческое? Проявлялось ли в ней оно вне манежа, независимо от ее граничившего со сверхъестественным профессионального умения? Представить ее себе женой, матерью — просто нелепица; жена, мать или вообще кто-нибудь из людей не висит вниз головой на трапеции, не раскачивается на ней, чуть ли не перекувыркиваясь вверх ногами, чтобы внезапно от нее отделиться, перелететь по воздуху к партнеру, который схватывает ее за руки, раскачивает в воздухе и после сильнейшего толчка отпускает, для того чтобы она, проделав свое пресловутое воздушное сальто, возвратилась на другую трапецию. Такова
454
была ее манера общения с мужчиной; да иную нельзя было себе и вообразить, ибо сразу становилось ясно, что это суровое тело отдает своему фантастическому искусству те силы, которые другие отдают любви. Она не была женщиной, но не была и мужчиной, а следовательно, не была человеком. Она была суровым ангелом отваги с приоткрытым ртом, с трепещущими ноздрями, неприступной амазонкой воздушного пространства, высоко взнесенной над толпой, которая, застыв в немом благоговении, телесно уже не алкала ее.
Андромаха! Когда этот номер давно уже кончился и другие артисты заступили ее место, она все еще стояла у меня перед глазами, и я испытывал возвышенную боль. Шталмейстеры и униформисты выстроились шпалерой, и на арену с двенадцатью вороными жеребцами выступил директор цирка Студебеккер — элегантный седоусый господин спортивного склада в вечернем костюме с ленточкой Почетного легиона в петлице, держа в руке хлыст и, как говорили, подаренный ему шахом персидским шамберьер с инкрустированной рукояткой, которым он щелкал просто на диво. Его блестящие, как зеркало, лакированные туфли зарывались в песок арены, когда он что-то нашептывал то одному, то другому из своих великолепных питомцев с белой уздой на гордой голове, которые под четкие звуки музыки проделывали разные па, преклоняли колена, крутились и наконец, встав на задние ноги, могучим кольцом окружили своего повелителя, державшего хлыст в высоко поднятой руке. Прекрасное зрелище, но я думал об Андромахе. «Великолепные звери! Однако между зверем и ангелом, — размышлял я, — стоит человек. Конечно, ближе к зверю, эту оговорку сделать необходимо. И только она — та, на которую я молился, вся — плоть, но плоть просветленная, надчеловеческая — стоит отдельно от людей, подле ангелов».
После этого номера арену обнесли решеткой и выкатили клетку со львами; чувство трусливой безопасности должно было сообщить еще большую острогу зрелищу, обещанному толпе. Наконец укротитель,
455
мсье Мустафа, мужчина с золотыми серьгами в ушах, обнаженный до пояса, в красных шароварах и в красной же феске, вошел через поспешно открытую и столь же поспешно захлопнутую за ним решетчатую дверь в клетку, где его ожидали пять львов. Едкий запах крупных хищников, исходивший от них, мешался с запахом конюшни. Они отпрянули от Мустафы, но, повинуясь повелительным окрикам, нехотя и мешкотно взобрались на пять расставленных кругом табуретов, отвратительно сморщив носы, зафыркали и стали на него замахиваться лапами, возможно, не без дружелюбия, но сдобренного яростью, ибо они знали, что сейчас, наперекор своей природе, будут вынуждены прыгать через обручи, под конец даже через горящие. Два из них потрясли воздух громовым рыком, от которого в лесных дебрях трепещет и бежит все живое. Укротитель ответил на него выстрелом в воздух из револьвера, и они, фыркая, смирились, уразумев, что их естественное грозное рычание ничто перед этим звонким щелчком. Мустафа для пущей важности закурил сигарету, на что они тоже взирали с глубокой досадой, и, проговорив какое-то имя — Ахилл или Нерон, — тихим голосом, но крайне решительно потребовал, чтобы первый из них приступил к представлению. Одна за другой, нехотя, соскакивали царственные кошки со своих табуретов, чтобы продемонстрировать публике прыжок — туда и назад — через высоко поднятый укротителем обруч и под конец, как я уже говорил, через пылающее смоляное кольцо. Хорошо или плохо, а они прыгали через огонь, и это им было нетрудно, но оскорбительно. Ворча, возвращались львы на свои табуреты, что уже само по себе было обидно, и как завороженные смотрели на человека в красных штанах, который все время легонько поводил головой, чтобы встретить своими томными глазами зеленый от страха и какой-то преданной ненависти взгляд каждого зверя в отдельности. Он круто оборачивался, почуяв беспокойство у себя за спиной, и наводил порядок одним только, словно удивленным, взглядом да тихо, но твердо произнесенным именем.
456
Всякий чувствовал, в сколь неучтивой и вовсе неподобающей компании пребывает там, внутри клетки, укротитель, и это было тем щекочущим нервы ощущением, за которое платил деньги зритель, в полной безопасности сидевший по другую ее сторону. Каждый сознавал, что револьвер Мустафе не поможет, если эти пятеро гигантов вдруг пробудятся от наваждения — быть кротко покорными — и начнут рвать его на куски. Мне казалось, что стоит ему как-нибудь пораниться, а им завидеть его кровь, и это неминуемо случится. Я понял еще и то, что полуобнаженным он входил к ним в угоду черни, чтобы потешить ее трусливое любопытство видом тела, по которому — кто знает, может ведь и такое случиться, — они вдруг ударят своими страшными лапами. Но так как я все время думал об Андромахе, то вдруг почувствовал искушение (отчасти же мне это показалось правдоподобным) представить ее себе возлюбленной Мустафы. Ревность кинжалом вонзилась в мое сердце; при одной этой мысли у меня буквально перехватило дыхание, и я поторопился подавить свое фантастическое измышление. Товарищи по игре со смертью, но не любовники, нет, нет, это бы для них добром не кончилось! Львы, прознав о его прелюбодействе, отказали бы ему в повиновении. А она упустила бы трапецию — я был уверен, если б ангел отваги вдруг унизился до того, чтобы стать женщиной, упустила бы — и постыдно мертвой рухнула на землю.
Что же нам еще показывали до и после того в цирке Студебеккера? Очень много, пропасть всяких гимнастических чудес. Но, право же, ни к чему все это припоминать. Знаю только, что я время от времени искоса поглядывал на Станко, который, как и нее вокруг, впал в расслабленно-блаженное состояние от вида этой ослепительной ловкости, этого нескончаемого красочного каскада обольстительных, опьяняющих трюков и лиц. Но не так чувствовал себя я, не такова была моя манера воспринимать окружающее. Правда, ничто не ускользало от моего внимания, я пытливо воспринимал каждую деталь, и это было самозабвенное созерцание, но в то же
457
время — как бы это выразить — и какое-то строптивое: я гордо выпрямлялся, моя душа — опять не знаю, как тут выразиться — вырабатывала противоядие этим штурмующим ее впечатлениям, какая-то злоба — это, конечно, не то слово, но почти то — овладела мной от напряженного восприятия всех этих трюков, фокусов, подвигов. Толпа вокруг меня волновалась и распалялась сладострастием, я же чувствовал себя в какой-то мере сторонним ей, словно человек, причастный к тому, что здесь происходило, словно профессионал. Не цирковой профессионал, причастный, конечно, не к этой сальто-мортальной профессии, но в более общем смысле — утешитель человечества, доставляющий радость ближним. Поэтому-то я и ощущал себя разобщенным с толпой, которая была не более как самозабвенной жертвой очарования, далекой от мысли помериться с ним силами. Она только упивалась зрелищем, а упоение — пассивное состояние, которым не может довольствоваться тот, кто рожден действовать, проявлять себя.
Такие мысли, разумеется, никогда не приходили в голову моему соседу, простодушному Станко, и уже потому наши приятельские отношения не могли укрепиться. Когда мы бродили по улицам, он ничего не замечал, а я, как с птичьего полета, видел великолепие этого города, его нескончаемые перспективы, невероятное благородство и роскошь очертаний, и мне невольно вспоминалось расслабленно счастливое: «Magnifique! Magnifique»1 — моего бедного отца, едва только он заговаривал о Париже. Впрочем, вслух я своего восхищения не высказывал, и потому Станко вряд ли сознавал разность нашей душевной чувствительности. А ведь ему следовало бы мало-помалу замечать, что наша дружба не становится крепче, что настоящей доверительности между нами не возникает и что объясняется это прежде всего моей врожденной замкнутостью, скрытностью, настойчивой внутренней потребностью в одиночестве, в дистанции, о чем я уже говорил однажды; и тут уж я при всем
458
желании ничего не мог изменить: такова была основная предпосылка моей натуры.
Иначе и быть не могло. Смутное чувство, не столько гордое, сколько, напротив, продиктованное смиренным приятием судьбы, что ты не такой, как все, неизбежно создает вокруг тебя пустоту, ледяную ограду, о которую, может быть, тебе самому не на радость, разбиваются все посягательства на дружбу и приятельские отношения. Так было и со Станко. Он с открытой душой приблизился ко мне, но вскоре убедился, что я хотя и отношусь к нему терпимо, но платить ему той же монетой не в состоянии. Так, однажды, когда мы сидели в бистро за стаканом вина, он поведал мне, что до своего приезда в Париж отбывал у себя на родине годичное тюремное заключение за какую-то кражу со взломом, причем «засыпался» он не по своей вине, а вследствие неловкости и глупости сообщника. Я с живейшим участием отнесся к его рассказу, и никакого отпечатка на мое к нему отношение это неожиданное признание не наложило. Но в следующий раз он пошел дальше, и я понял, что его откровенность вызвана известным расчетом. Это мне, по правде говоря, уже не понравилось. Он видел во мне удачливого пролазу, с которым стоит поработать на пару, и по своей убогости не разобравшись в том, что я вряд ли рожден быть его сотоварищем, сделал мне предложение относительно какой-то виллы в Нейи, которую он высмотрел и где мы вдвоем с легкостью и почти без всякого риска могли обстряпать неплохое дельце. Увидев, что я отношусь к его предложению с уклончивым безразличием, он вышел из себя и раздраженно спросил, чего ради мне вздумалось корчить из себя недотрогу, ведь ему хорошо известно, что я собой представляю. Так как я всегда с презрением относился к людям, воображавшим, что они меня раскусили, то ограничился пожатием плеч и заметил, что, помимо всего, просто не желаю этим заниматься. В ответ на что он обозвал меня то ли дураком, то ли идиотом.
И хотя это недоразумение между нами не привело к немедленному разрыву, но наши отношения день
459
ото дня становились все холоднее и под конец сами собой распались, так что мы, отнюдь не сделавшись врагами, перестали вместе проводить свободные вечера.
Всю зиму я прослужил лифтером, и, несмотря на доброе отношение часто сменяющихся постояльцев гостиницы, эта работа уже стала порядком докучать мне. У меня были основания опасаться, что обо мне просто-напросто позабыли и я до конца своих дней буду водить подъемную машину. То, что я слышал от Станко, меня не утешало, а заставляло еще больше тревожиться. Он, со своей стороны, усиленно хлопотал о переводе на главную кухню, с двумя большими печами и четырьмя плитами, мечтая со временем достичь там положения если не шефа, то хотя бы вицешефа, который принимает заказы от кельнеров и передает их целому отряду поваров. Впрочем, он и сам полагал, что на такую карьеру особенно рассчитывать не приходится, так как здесь стараются выжать все соки из человека на том месте, на которое он однажды попал. Мне Станко тоже пророчил, что я до скончания века буду служить на той же должности и видеть жизнь гостиницы только из кабины лифта.
Это меня и страшило. Я чувствовал себя узником шахты, где вверх и вниз сновала моя машина, узником, которому никогда не удастся, или разве только случайно, взглянуть на дивную картину файф-о-клока в большом зале, когда там звучит приглушенная музыка, декламаторы и танцовщицы в греческих туниках развлекают избранных гостей, которые за изящно сервированными столиками вкушают золотистый напиток, пети-фур и маленькие изысканные сандвичи, чуть слышно всплескивают руками, чтобы стряхнуть крошки с пальцев, и на устланной коврами царственной лестнице, что ведет к утопающей в цветах площадке, среди пальм, вздымающихся из украшенных барельефами мраморных ваз, приветствуют друг
460
друга, заводят знакомства, с таинственной улыбкой авгуров обмениваются шутками и весело смеются. Как мне хотелось работать там или, еще того лучше, подавать чай дамам в комнате для бриджа и обеды в большом зале, куда я спускал на лифте мужчин во фраках, сопровождающих своих осыпанных бриллиантами жен. Одним словом, я стал беспокоен. Мне необходимо было расширить рамки своего существования, получить больше возможностей общения с высшим светом. И что же? Благосклонная судьба даровала мне эту радость. Мое желание освободиться от вечного «вверх и вниз» и в новом облачении начать новую деятельность, открывающую передо мной более широкие горизонты, сбылось; на пасху я вступил в должность кельнера. Сейчас расскажу, как все это произошло.
Наш метрдотель, некий мсье Махачек, в неизменно блестящей, свежей манишке, с достоинством носивший по залу свой шарообразный живот, был личностью весьма заметной. Гладко выбритые жиры его лунного лика излучали сияние. Великолепнейшим движением руки — вверх и вдаль — этот властелин столов приглашал вошедших гостей занять места, а манера его одним только уголком рта выговаривать кельнерам за какую-нибудь оплошность или ошибку была столь же сдержанна, сколь и язвительна. Итак, однажды утром, видимо получив указание от дирекции, он велел мне явиться к нему в маленький кабинетик, примыкавший к роскошному залу.
— Круль? — спросил он. — По имени Арман? Voyons, voyons1, я слышал о вас не столь уж плохие отзывы и довольно правильные, как мне теперь кажется, по крайней мере на первый взгляд. Впрочем, с первого взгляда можно и ошибиться. Вы, наверно, сами понимаете, что обязанности, которые вы до сих пор выполняли, — детская игра. В качестве лифтера вы, конечно, не можете проявить свои способности, даже если они у вас имеются. Vous consentez?2 Здесь,
461
в ресторане, из вас можно будет
что-нибудь сделать, si c’est
faisable1. Чувствуете ли вы
в себе призвание к изящной сервировке, известный талант, а вовсе не исключительный
и блистательный дар, как вы стараетесь меня уверить, — это уже самореклама,
хотя, с другой стороны, courage2 — свойство весьма полезное; так,
значит, — известный талант к изящной сервировке и предупредительному обхождению
с такой клиентурой, как наша? Что? Прирожденное дарование? Можно позавидовать,
сколько у вас, по вашему мнению, прирожденных дарований. Впрочем, повторяю,
здоровая самонадеянность — вещь полезная. Кое-какое знание языков у вас,
кажется, имеется? Я не сказал, глубокое знание, как вы изволите выражаться, а
лишь самое необходимое. Но это все вопросы второстепенные. Надеюсь, вы отдаете
себе отчет, что начинать вам придется снизу. Ваши обязанности на первых порах
будут состоять в том, чтобы сбрасывать остатки с тарелок, перед тем как
отправить их в судомойню. За такого рода деятельность мы вам положим сорок
франков в месяц — оклад, судя по выражению вашего лица, даже слишком высокий.
Вообще говоря, не принято улыбаться в разговоре со мной до того, как я сам не
улыбнусь: это я должен подать знак к улыбке. Bon!3 Белую
куртку для работы вам выдадут. В состоянии ли вы будете приобрести кельнерский
фрак, если вас со временем привлекут к работе в зале? По нашим правилам, эта
покупка производится за свой счет. Безусловно, в состоянии! Тем лучше. Я
вижу, для вас затруднений не существует. Необходимое белье и фрачные рубашки у
вас тоже имеются? Вы что, из состоятельной семьи? Более или менее? A la bonne heure4. Я полагаю, Круль, что через некоторое
время мы сможем повысить вам оклад до пятидесяти или даже шестидесяти франков.
Адрес портного, который шьет фраки нашим кельнерам, вы получите в бюро. К
работе можете
462
приступить хоть завтра. Нам нужны
люди, а на место лифтера имеются сотни претендентов. A bientôt, mon garçon1. Сейчас уже середина месяца. В
конце его вы получите двадцать пять франков, так как я, думаю, что для начала
мы вам положим шестьсот франков годовых. На этот раз ваша улыбка допустима,
потому что я опередил вас. Вот и все. Можете идти.
Так говорил со мной Махачек. Нельзя не признать, что
следствием этого многозначительного разговора на первых порах явилось известное
снижение моего жизненного уровня.
Я снес свою ливрею обратно на склад и взамен получил только белую куртку, к которой мне пришлось незамедлительно прикупить пару брюк, так как я ни в коем случае не хотел занашивать на работе брюки от своего парадного костюма. Эта работа — то есть предварительная очистка использованной посуды, заключавшаяся в том, что я сбрасывал остатки в большой чан, — была довольно неприятна по сравнению с моим прежним, как-никак, более благородным занятием и поначалу[76] вызывала во мне брезгливое отвращение. В мои обязанности входила и помощь судомойкам. Подвязавшись белым фартуком, я нередко участвовал в вытирании посуды, после того как она уже прошла разнообразные стадии мытья. Таким образом, я как бы стоял в самом начале и в самом конце этого восстановительного процесса.
Делать bonne mine2 по отношению к неподобающей
работе и держаться на равной ноге с теми, кому она вполне подобает, нетрудно,
если ты все время твердишь себе: «Это временно». Я же был так глубоко проникнут
органически свойственным человеку (несмотря на все домыслы о равенстве)
ощущением неравенства и естественной предпочтенности, так уверен в движущей
силе этого фактора, иными словами, до такой степени убежден, что долго меня не
продержат на должности, которую сперва заставили
463
занять из чисто формальных соображений, что в первую же свободную минуту после разговора с мсье Махачеком заказал себе костюм кельнера по образцу «Сент-Джемс» в специальном ателье, находившемся вблизи от нашего отеля. Это потребовало капиталовложения в семьдесят пять франков— стоимость, обусловленная между отелем и фирмой, которую люди неимущие постепенно выплачивали из своего жалованья, я же, само собой разумеется, заплатил наличными. Моя новая форма выглядела необыкновенно красиво на тех, кто умел ее носить: черные брюки и темно-синий фрак с бархатной оторочкой на воротнике, с золотыми пуговицами и с такими же пуговицами, только меньшего размера, на открытом жилете. Я всей душой радовался своему приобретению, повесил его в шкаф вместе с парадным костюмом и поспешил еще купить полагавшийся к нему белый галстук и эмалевые запонки для рубашки. Так вот и вышло, что когда после пяти недель возни с грязной посудой один из двух обер-кельнеров, то есть помощников господина Махачека, носивших черные фраки и черные же галстуки, сказал, что в зале требуется моя помощь и мне следует поскорее обзавестись костюмом, то я отвечал, что у меня все давно приготовлено и я в любую минуту могу быть к их услугам.
Итак, на следующий же день я в полной парадной форме дебютировал в зале, в этом огромном чертоге, торжественном, как храм, чертоге с каннелированными[77] колоннами, золотые капители которых поддерживали потолок, с пышными красными драпри на окнах, с красноватым светом бра и бесконечным множеством столиков, покрытых белоснежными скатертями и украшенных орхидеями, вокруг которых стояли белые лакированные стулья, обитые красным бархатом; столики сияли белизной салфеток, сложенных веером или пирамидкой, серебряными приборами и бокалами из тончайшего хрусталя, несшими почетный караул вокруг сверкающих ведерок или легких корзиночек с торчащими из них горлышками бутылок (вина подавались облеченными специальными полномочиями кельнерами с цепью на шее и в ма-
464
леньком фартучке). Задолго до того как начали появляться к завтраку первые гости, я уже был на месте, расставлял приборы, раскладывал меню и не упускал случая, в особенности когда отсутствовал ведавший определенным количеством столиков старший кельнер, к которому я был приставлен, с подчеркнутой радостью приветствовать гостей, пододвигать стулья дамам, вручать им карточки, наливать воду, словом, независимо от моей личной симпатии или антипатии, деликатно напоминать им о своем присутствии.
Но мои права и возможности в этом смысле были, увы, ограничены. Заказы принимал не я и не я приносил блюда из кухни; моим делом было только убирать грязную посуду после entremets1, а перед десертом при помощи щетки и плоского совочка сметать со стола крошки. Другие, более высокие обязанности были препоручены моему supérieur2 — человеку уже немолодому, с сонной физиономией, в котором я тотчас же узнал того кельнера, что сидел со мной за столом в первое утро и оставил мне свои сигареты. Он тоже вспомнил меня и, воскликнув: «Mais oui, c'est toi!»3, — сделал какой-то отстраняющий жест, ставший, как выяснилось впоследствии, характерным для его отношения ко мне. С самого начала он не столько командовал и руководил мной, сколько старался оттереть меня от работы, так как отлично видел, что клиенты, и в первую очередь дамы — старые и молодые, подзывают меня, а не его, чтобы спросить какую-нибудь приправу — английскую горчицу, уорчестерский соус, томатный кетчуп, то есть то, что в большинстве случаев являлось только предлогом подозвать меня, с удовольствием выслушать мое: «Parfaitement, madame, tout de suite, madame»4, наградить меня ласковым: «Merci, Armand»5 и тут же, без всяких видимых оснований, скользнуть по мне про-
465
сиявшим взглядом. Через несколько дней, когда я хлопотал около подсобного столика, помогая Гектору снимать с кости филе камбалы, он вдруг сказал:
— Они-то, конечно, хотели бы, чтобы ты им подавал приправу, au lieu de moi. Toute la canaille friande!1 Влюблены в тебя как кошки. Конечно, ты меня скоро выживешь и получишь эти столы. Ты ведь здешний аттракцион — et tu n’as pas l’air de l’ignorer2. Бонзы это уже смекнули и на все лады тебя выдвигают. Слышал ты — ну да, конечно, слышал, — как мсье Кордонье сказал шведской чете, с которой ты так мило разговаривал: «Joli petit charmeur, n’est-ce pas?» Tu iras loin, mon cher, mes meilleurs vœux, ma bénédiction3.
— Ты преувеличиваешь, Гектор, — отвечал я. — Мне надо еще многому от тебя научиться, прежде чем тебя оттеснять, если бы это вообще входило в мои намерения.
Но тут я сказал не полную правду. Ибо на следующий день в обеденное время, когда мсье Махачек, пододвинув ко мне свой живот, остановился подле меня таким манером, что наши лица оказались обращенными в разные стороны, и шепнул мне уголком рта:
— Недурно, Арман! Вы работаете недурно! Советую повнимательнее приглядываться к тому, как подает Гектор, если, конечно, в ваши интересы входит этому научиться.
Я ответил, тоже вполголоса:
— Очень вам благодарен, maître, но я уже сейчас могу самостоятельно обслуживать клиентуру, и лучше, чем он. Я этому обучен, прошу прощенья, от природы. Не смею вас просить устроить мне пробу. Но когда вам угодно будет это сделать, вы убедитесь, что я говорю правду.
— Blagueur!4 — сказал он с коротким смешком, от
466
которого его живот колыхнулся; при этом Махачек еще глянул на какую-то даму в зеленом платье с искусно зачесанными кверху белокурыми волосами, подмигнул ей одним глазом, мотнул головой в мою сторону и удалился своими мелкими, подчеркнуто эластичными шагами, на прощанье еще раз колыхнув животом.
Вскоре я с несколькими из моих коллег стал еще дважды в день обслуживать клиентов нижнего кафе. Затем на меня возложили обязанность там же сервировать вечерний чай. Так как Гектора тем временем приставили к другой группе столов в большом зале, а мне достались те, которые я сначала обслуживал как помощник, то работать мне приходилось, можно сказать, сверх сил, и вечерами после тяжкого и многообразного дневного труда, когда я подавал кофе, ликеры, соду-виски и липовую настойку, я себя чувствовал до такой степени усталым, что сердечность моего общения с клиентами как-то сникала, обаятельная упругость движений грозила размякнуть, а улыбка мало-помалу превращалась в болезненную и застывшую гримасу.
Но после ночного сна моя жизнеспособная натура вновь обретала радостную свежесть, и я неустанно бегал между малым залом ресторана, буфетной и кухней, торопясь разнести гостям, которые не требовали подачи в номер и не любили завтракать в постели, чай, овсяную кашу, засахаренные фрукты, печеную рыбу и блинчики с вареньем. Покончив с этим, я мчался в зал, чтобы вместе с приданным мне в помощь олухом накрыть свои шесть столов ко второму завтраку, то есть расстелить скатерти поверх сукна и расставить приборы. А с двенадцати часов я уже не выпускал из рук записной книжки, принимая заказы от начинавших стекаться гостей. Я прекрасно постиг искусство мягким, сдержанно скромным голосом, как и подобает кельнеру, давать советы колеблющимся и ставить на стол кушанья с таким внимательным, заботливым видом, словно я оказываю услугу близкому и дорогому мне человеку. Согнувшись и держа одну руку за спиной — традицион-
467
ная поза вышколенного кельнера, — я ставил на стол блюда, успевая между делом одной только правой рукой разложить в изящных и продуманных комбинациях для тех, кто любит такие услуги, ножи и вилки, и не раз замечал, что мои клиенты, и в первую очередь клиентки, с приятным удивлением смотрят на эту руку, столь не похожую на руку простолюдина.
Поэтому ничего не было удивительного в том, что меня, как выражался Гектор, «выдвигали», учитывая благосклонность к моей особе пресыщенной клиентуры этого заведения. Меня, так сказать, с головой выдали их благосклонности[78], предоставив мне самому усиливать ее льстивой услужливостью или же умерять скромной сдержанностью.
Для того чтобы не замутить воссоздаваемого в этих воспоминаниях представления о моем характере, я должен пояснить, к своей чести, что никогда в жизни не извлекал тщеславного и жестокого удовольствия из страданий тех, в ком моя особа возбуждала желания, которые я, в силу присущей мне житейской мудрости, отказывался удовлетворить.
Страсть, объектом которой мы становимся, не будучи сами ею затронуты, может внушить натурам, несхожим с моей, холодность и пренебрежение, ведущие к попранию чужих чувств. Но у меня все было по-другому. Я относился к таким чувствам с неизменным уважением, сознавая свою невольную вину, заботливо щадил тех, кого они поразили, старался их умиротворить, внушить разумную покорность. В подтверждение сказанного хочу привести два примера из того периода, о котором идет речь: случай с маленькой Элинор Твентимэн из Бирмингама и с лордом Килмарноком, отпрыском знатной шотландской семьи, — ибо обе эти драмы разыгрались одновременно и каждая на свой лад явилась для меня большим соблазном прежде времени свернуть с прямого пути на одну из тех боковых дорожек, о которых говорил мой крестный Шиммельпристер и которые, разумеется, требовали самого тщательного обследования и дознания, куда они ведут и где обрываются.
468
Семейство Твентимэн — отец, мать и дочь, а также сопровождающая их камеристка — уже больше месяца занимало апартаменты в «Сент-Джемсе», что уже само по себе свидетельствовало об их завидном материальном положении. Это подтверждалось и подчеркивалось еще и роскошными бриллиантами, в которых миссис Твентимэн появлялась к обеду. Увы, об этих бриллиантах оставалось только сожалеть, ибо их носительница была безрадостная женщина, безрадостная для тех, кто глядел на нее, да, вероятно, и для себя самой, так как она, надо думать благодаря деловому усердию своего супруга, поднялась из мелкобуржуазной среды на высоты, воздух которых заставлял ее цепенеть и внутренне сжиматься. Куда больше благодушия исходило от красной физиономии ее мужа, но и его жизнерадостность быстро выдыхалась из-за глухоты, затруднявшей ему общение с внешним миром, о чем красноречиво свидетельствовало вечно вслушивающееся выражение его водянисто-голубых глаз. Он прикладывал к уху черную слуховую трубку, когда супруга намеревалась что-то сказать ему — это, впрочем, случалось очень редко — или когда я советовал ему, какое блюдо выбрать. Их дочь Элинор, девушка лет семнадцати или восемнадцати, сидевшая напротив него за одним из моих столиков, время от времени, повинуясь его кивку, вставала, подходила к отцу и вела с ним через трубку не слишком затяжной разговор.
Он явно был нежным отцом, и это располагало в его пользу. Что касается миссис Твентимэн, то я, конечно, не собираюсь отрицать в ней материнские чувства, но они выражались не столько в теплых словах и взглядах, сколько в неустанном критическом наблюдении за дочерью. Для этой цели она часто подносила к глазам черепаховый лорнет и, найдя какой-нибудь изъян в прическе Элинор или в ее манере держаться, немедленно одергивала дочь: неприлично скатывать хлебные шарики, неприлично так обгрызать куриную ножку, неприлично с любопытством оглядываться по сторонам и так далее. Такой контроль, свидетельствовавший о воспитатель-
469
ной заботе, наверно, был в тягость мисс Твентимэн, но после моего, в свою очередь, тягостного опыта с нею я вынужден признать его вполне оправданным.
Это было белокурое создание, хорошенькая козочка с самой трогательной шейкой на свете, что я всякий раз отмечал, когда она вечером выходила к столу в открытом шелковом платьице. А так как я всю жизнь питал слабость к ярко выраженному англосаксонскому типу, то с удовольствием смотрел на нее во время обеда и файф-о-клока, когда Твентимэны поначалу садились за один из моих столиков. Я был внимателен к моей козочке, окружал ее заботой, как преданный брат: накладывал ей мяса на тарелку, приносил вторую порцию десерта, наливал гренадин, до которого она была большая охотница, после обеда бережно укутывал ее тонкие белые плечики вышитой шалью и, видимо, переусердствовав, нечаянно ранил это чувствительное сердечко. Я не учел особого магнетизма, который, хотел я того или не хотел, исходил от меня, воздействуя на любое не окончательно отупевшее существо, и продолжал бы исходить, я беру на себя смелость это утверждать, даже когда моя «бренная оболочка», как это называется, на склоне лет — то есть смазливая физиономия— стала бы менее привлекательной, ибо магнетизм — проявление глубоко скрытых сил, другими словами — обаяния.
Короче говоря, мне вскоре пришлось убедиться, что малютка по уши в меня влюбилась, и, конечно, то же самое выследил озабоченный лорнет миссис Твентимэн; мне это подтвердило шипенье, которое я однажды расслышал за своей спиной во время второго завтрака:
— Eleanor!
If you don't stop staring at that boy, I'll send you up to your ro
470
Увы, козочка плохо владела собой, вернее, ей просто не приходило в голову делать секрет из того, что на нее нашло. Ее голубые глаза все время следили за мной восторженно и томно, а когда они встречались с моими, она, вспыхнув до корней волос, опускала взгляд в тарелку, но тотчас же с усилием поднимала свое пылающее личико, словно не могла не смотреть на меня. Бдительность матери не заслуживала порицания, наверно она уже не раз имела случай убедиться, что это дитя благоприличных бирмингамцев тяготеет к необузданности чувств, к наивно-дикарской вере в право, более того, в долг человека открыто предаваться страсти. Разумеется, я нисколько не заигрывал с нею, напротив, щадя ее, даже не без известной наставительности, всячески старался стушеваться, никогда не выходил за рамки чисто служебной предупредительности и всей душой одобрил жестокое для Элинор и, без сомнения, придуманное матерью мероприятие: в начале второй недели Твентимэны ушли с моего стола и перебрались в противоположный конец залы, где их обслуживал Гектор. Но моя дикая козочка и тут не растерялась. Однажды, в восемь часов утра, она явилась ко мне вниз к petit déjeuner1, тогда как до сих пор всегда завтракала в номере вместе с родителями. Войдя, она сразу изменилась в лице, разыскала меня своими покрасневшими глазами и немедленно — в этот час в зале было еще почти пусто — уселась за один, из моих столиков. — Good morning, Miss Twentyman. Did you have a good rest?2 — Very little rest, Armand, very little3, — пролепетала она. Я сделал огорченное лицо и сказал: — Но в таком случае, может быть, разумнее было полежать еще немного и выпить чаю в постели;
471
я сейчас подам вам завтрак, но, право же, наверху вам было бы спокойнее. Ведь так приятно и уютно, лежа в постели…
И что же она ответила мне, эта девочка?
— No, I prefer to suffer1.
— But you are making me suffer, too2, — тихонько ответил я, указывая ей на карточке лучшее наше варенье.
— Oh, Armand, then we suffer together!3 —проговорила она, подняв на меня утомленные бессонницей и полные слез глаза.
Чем это могло кончиться? Я от души желал, чтобы она уехала, но они по-прежнему жили в «СентДжемсе», да и вполне понятно, неужели бы мистер Твентимэн стал сокращать свое пребывание из-за любовной прихоти дочки, о которой ему, вероятно, уже прокричали в черную трубку. И мисс Твентимэн аккуратно являлась каждое утро, пока ее родители еще спали, а они спали до десяти, так что, если бы мать зашла к ней, Элинор смело могла сказать, что горничная уже убрала посуду после ее завтрака; словом, я хлебнул с ней немало горя, стараясь прежде всего спасти ее репутацию и хоть как-нибудь скрыть от окружающих ее сомнительное поведение: попытки пожать мне руку и прочие шалые, легкомысленные выходки. Я уверял ее, что родители рано или поздно нападут на след и обнаружат тайну ее завтраков, но она оставалась глуха к моим предостережениям. Нет, нет, миссис Твентимэн всего крепче спит по утрам. И насколько же она, Элинор, больше любит ее спящую, чем бодрствующую, когда та по пятам ходит за дочкой! Мама ее не любит, только вечно выслеживает через лорнетку. Папа, тот в ней души не чает, но не принимает всерьез ее сердечных горестей, тогда как мама, хоть и досаждает ей, но все-таки лучше разбирается в ее душе:
— For I love you4.
472
Я сделал вид, что не слышу последних слов. Но, вернувшись с завтраком для Элинор, стал потихоньку ее уговаривать.
— Мисс Элинор, то, что вы сейчас сказали относительно «любви», просто самовнушение, pure nonsense1. Ваш папа совершенно прав, что не принимает этого всерьез, но, с другой стороны, права и ваша мама, не игнорируя этого nonsense и категорически вам его запрещая. Вы тоже не должны принимать это так уж всерьез, на свою и на мою беду. Прошу вас, найдите в себе хоть искорку юмористического отношения ко всей этой истории. Я-то отношусь к ней без всякого юмора, куда там! Но вам надо выработать в себе именно такое отношение. К чему все это приведет? Ведь это же противоестественно! Вы, дочь мистера Твентимэна. человека, достигшего богатства и высокого положения, остановились на какой-то срок в «Сент-Джемсе», где я, простой кельнер, вас обслуживаю. Ведь я всего только кельнер, мисс Элинор, низшее звено нашего общественного строя, к которому я отношусь с благоговейным уважением, вы же бунтуете против него, ведете себя неестественно. Вам следовало бы вовсе не замечать меня, как того по праву требует от вас ваша матушка, а вы, пока мирный сон удерживает родителей от того, чтобы встать на защиту общественного правопорядка, прокрадываетесь сюда и толкуете мне о «love»2. Ведь это же запретная «love». Я не смею отвечать на нее и обязан подавлять в себе радость от того[79], что вы отметили меня среди прочих. Мне можно отметить вас среди прочих и держать это в тайне. Но то, что вы, дочь миссис и мистера Твентимэн, заглядываетесь на меня, — никуда не годится и противно самой природе. Это один только обман зрения! Главным образом он объясняется этим фраком с бархатной отделкой и золотыми пуговицами, который лишний раз свидетельствует о моем низком социальном положении. Уверяю вас, что без этого фрака я никакого интереса
473
не представляю. Такая «love», как ваша, вдруг находит на человека во время путешествия, а потом он уезжает — вы тоже скоро уедете — и еще до первой станции забывает о ней. Предоставьте мне вспоминать о нашей здешней встрече, тогда она останется незабвенной, но не будет отягощать ваше сознание.
Мог ли я больше сделать для нее? И разве мои слова не были проникнуты истинно мужской заботой? Но она в ответ только плакала, так что я бывал радешенек, если столы вокруг пустовали, упрекала меня в жестокости, слышать ничего не хотела об естественном правопорядке и противоестественной влюбленности и каждое утро упрямо твердила, что если бы нам удалось остаться наедине для слова и дела, то все бы уж как-нибудь устроилось и мы были бы счастливы, при условии, конечно, что я ее хоть немножко люблю, — а я этого не отрицал и уж, во всяком случае, не отрицал благодарности за ее чувства ко мне. Но как устроить такое rendez-vous1, как остаться наедине для «слова и дела»? Этого она тоже не знала, но тем не менее продолжала настаивать и требовала, чтобы я изыскал такую возможность.
Одним словом, я хлебнул с ней немало горя. И надо же было, чтобы в это самое время разыгралась еще история с лордом Килмарноком! Испытание, пожалуй, куда более трудное, ибо здесь я столкнулся уже не с озорной влюбленностью маленькой упрямицы, а с личностью, чьи чувства немало весили на весах человеческих, так что я не мог советовать ему юмористически отнестись к ним или сам над ними подсмеиваться. Не знаю, как другие, но я этого не мог.
Лорд, проживавший у нас уже две недели и неизменно садившийся за один из моих столиков, был человек лет пятидесяти с небольшим, весьма аристократической внешности: среднего роста, стройный, необыкновенно аккуратно одетый, с еще густыми се-
474
деющими волосами, тщательно расчесанными на пробор, и с закрученными кверху тоже полуседыми усами над удивительно красивым ртом. Зато его толстый нос, что называется, «картошкой», отнюдь не отличался аристократизмом и как-то тяжело выступал вперед, образовывая сплошную линию с несколько косо очерченными бровями и серо-зелеными глазами, казалось, с трудом открывавшимися. Но если это и производило неприятное впечатление, то оно вытеснялось необыкновенно гладко, до последней мягкости выбритыми щеками и подбородком, слегка блестевшими от крема, которым лорд натирался после бритья. Платок свой он душил какой-то никогда мне больше не встречавшейся фиалковой водой, естественно и прелестно пахнувшей весенней свежестью. Когда он входил в зал, в нем[80] замечалась странная застенчивость, не вязавшаяся с важной и аристократической внешностью, но, по крайней мере, в моих глазах, ничуть ей не вредившая. Столько достоинства было в этом человеке, что такая его манера держаться заставляла разве что предполагать в нем какую-то странность, которая, по его ощущению, должна была привлекать к нему назойливое внимание. Голос у него был очень мягкий, и я старался еще мягче отвечать ему, лишь много позднее осознав, что это было нехорошо с моей стороны. Дымка меланхолической приветливости окружала этого, видимо, много выстрадавшего человека. Я не мог быть к нему жестокосердым. Я был очень приветлив, обслуживая его. Но ему это пошло во вред. Правда, он почти не смотрел на меня, и в то время как я подавал на стол, наши беседы ограничивались лишь краткими замечаниями о погоде или меню; он берег и свои взгляды, скупился на них, словно опасаясь, что они поставят его в неловкое положение. С неделю наши отношения сводились к учтивым пустым разговорам, но затем я с удовольствием, не чуждым тревоги, убедился, что он проявляет ко мне участливый интерес. Неделя — это тот минимум времени, который нужен человеку, чтобы заметить, что
475
в его ежедневном общении с кем-то произошли разительные перемены, в особенности если собеседник так бережливо расходует каждый свой взгляд.
Он стал расспрашивать, давно ли я служу, откуда родом, сколько мне лет, и, узнав мой возраст, пожал плечами с растроганным «Mon Dieu»1 или «God heavens»2 — он одинаково хорошо говорил по-французски и по-английски. Если я немец по происхождению, полюбопытствовал он, то почему ношу имя Арман? Я отвечал, что имя Арман присвоено мне по желанию начальства, на самом же деле я зовусь Феликс.
— Какое красивое имя! — воскликнул он. — Будь на то моя воля, я бы его возвратил вам.
И добавил — при его высоком положении мне это показалось признаком известной неуравновешенности, — что его при крещении нарекли Нектаном, по имени некоего короля пиктов, коренных обитателей Шотландии. Я изобразил на своем лице почтительный интерес, но тут же недоуменно спросил себя, на что мне, собственно, знать, что его зовут Нектан? Ведь я-то обязан называть его «милорд».
Мало-помалу я узнал, что он живет в Эбердине, в своем родовом замке, вместе с сестрой, женщиной уже немолодой и, увы, очень болезненной, что, кроме того, у него есть летняя резиденция на одном из озер шотландской возвышенности, в местности, где еще говорят на гэльском наречии (он тоже немного знает его) и где природа очень красива и романтична: отвесные склоны, пропасти, воздух, напоенный пряным ароматом вереска. Окрестности Эбердина, сказал он, тоже очень хороши. В самом городе имеются все виды развлечений для любителей развлекаться, и с моря всегда веет бодрящим соленым воздухом.
На следующий день он рассказал мне, что любит музыку и сам играет на органе, но в горной своей резиденции довольствуется фисгармонией.
Все эти сведения я почерпнул не из связного разговора, а исподволь, от случая к случаю; и, за исклю-
476
чением «Нектана», в них не было ничего излишнего, ничего, что не мог бы рассказать кельнеру любой одинокий путешественник, не имеющий других собеседников. Сообщал же он мне их главным образом за вторым завтраком, так как предпочитал, не спускаясь в кафе, сидеть за своим столиком в почти пустом зале, курить египетские сигареты и пить кофе. Кофе он, как правило, выпивал несколько чашечек, но, кроме него, ничего другого не пил и почти что не ел. Лорд вообще ел так мало, что оставалось только удивляться, чем он жив. С первого блюда он, правда, брал основательный разгон: консоме, суп из телячьей головы или бычьих хвостов быстро исчезали из его тарелки. Что касается всех остальных кушаний, которые я приносил ему, то, отведав кусочек-другой, он тотчас же закуривал сигарету, предоставляя мне уносить их почти нетронутыми. В конце концов я даже не удержался и с огорчением сказал:
— Mais vous ne mangez rien, Mylord. Le chef se formalisera, si vous dédaignez tous ses plats1.
— Что делать, нет аппетита, — отвечал он. — И никогда не было. Я всю жизнь испытывал отвращение к приему пищи. Возможно, это признак известного самоотрицания.
Я никогда не слышал этого слова, оно испугало меня и заставило из вежливости воскликнуть:
— Самоотрицания? О нет, милорд, тут никто с вами не согласился. Напротив, в этом случае каждый постарается вас опровергнуть!
— Вы полагаете? — спросил он, медленно поднимая глаза от тарелки и глядя мне прямо в лицо. В этом взгляде, как всегда, было что-то принужденное, преодоление чего-то мне неизвестного. Только на этот раз я видел, что усилие такого преодоления ему приятно. На губах его появилась меланхолическая усмешка, от этого еще резче выступил вперед тяжеловесный и несоразмерно большой нос.
«Подумать только, что у человека может быть
477
такой прекрасный рот, а нос картошкой», — промелькнуло у меня в голове.
— Да, — не без смущения подтвердил я.
— Возможно, дитя мое, — заметил он, — что самоотрицание способствует утверждению личности другого.
С этими словами он встал и вышел из зала. Погруженный в размышления, я остался у своего столика, который мне предстояло убрать и снова накрыть.
Не подлежало сомнению, что встречи со мной несколько раз на дню шли лорду во вред. Но я не мог отменить их, не мог сделать их безвредными, хотя изгнал из своего обращения оттенок ласковой предупредительности, стал холоден и официален, раня чувства, мною же возбужденные. Потешаться над ними я, конечно, не мог, раз уж я не потешался над чувствами маленькой Элинор, но тем более не мог принять их по существу. Итак, я переживал сложный, внутренний конфликт, грозивший превратиться в искус, когда лорд Килмарнок сделал мне неожиданное предложение, неожиданное, впрочем, только в смысле делового его содержания.
Случилось это к концу второй недели за послеобеденным кофе. Небольшой оркестр расположился у самого входа в зал за группой пальм. Вдали от него, на другом конце зала, лорд облюбовал себе столик, несколько на отлете, за который садился уже не впервые, и я немедленно подал ему кофе. Когда мне пришлось снова пройти мимо него, он спросил сигару. Я принес два ящика окольцованных и неокольцованных сигар. Взглянув на них, он спросил:
— Какие же мне выбрать?
— Фирма, — отвечал я, указывая на окольцованные, — особенно рекомендует вот эти, но я лично посоветовал бы другие. Сам того не желая, я спровоцировал его куртуазный ответ:
— В таком случае я последую вашему совету, — сказал он, но не взял у меня из рук ни того, ни другого ящичка, хотя и не отрывал от них взгляда.
478
— Арман, — тихо проговорил он, так тихо, что оркестр почти заглушил его голос.
— Милорд?
Он назвал мое другое имя:
— Феликс?
— Что угодно милорду, — с улыбкой отвечал я.
— Не хотели бы вы, — донеслось до меня, хотя он продолжал смотреть на сигары, — переменить вашу нынешнюю должность на должность камердинера?
Вот оно самое!
— То есть как, милорд? — отозвался я, притворяясь непонимающим.
Он предпочел услышать: «У кого?» — и, слегка передернув плечами, ответил:
— У меня. Все очень просто. Вы поедете со мной в Эбердин, в замок Нектанхолл. Сбросите эту ливрею и оденетесь в элегантный штатский костюм, что будет отличать вас от остальных слуг. В замке много разной прислуги; ваши обязанности сведутся только к обслуживанию моей особы. Вы всегда будете при мне — в замке и в моем летнем доме. Жалованье ваше, — добавил он, — раза в два или три превысит то, что вы получаете здесь.
Я молчал, и он ни единым взглядом не торопил мой ответ. Он даже взял у меня из рук оба ящичка и занялся сравнением того и другого сорта.
— Об этом надо серьезно подумать, милорд, — наконец пробормотал я. — Стоит ли говорить, что ваше предложение — большая честь. Но все это так неожиданно. Я попрошу себе небольшой срок на размышление.
— Для размышления, — отвечал он, — у вас мало времени. Сегодня пятница, я уезжаю в понедельник. Поедемте со мной! Я этого хочу.
Он взял одну из рекомендованных мною сигар, осмотрел ее, медленно поворачивая между пальцев, и поднес к носу. Ни один человек не мог бы догадаться, что он при этом сказал, а сказал он:
— Этого хочет мое одинокое сердце.
479
У кого достанет жестокости поставить мне в вину мое смятение? И все-таки я уже знал, что не решусь пуститься по этой боковой дорожке.
— Милорд, — пробормотал я, — даю слово, что я сумею добросовестно использовать срок, предоставленный мне на размышление. — И поспешил уйти.
«Он курит, — подумал я, — хорошую сигару и запивает ее кофе. В высшей степени уютное занятие, а уют — все же малый сколок счастья. Временами приходится им довольствоваться».
В этой мысли было подспудное желание прийти ему на помощь, и себе тоже. Но тут как раз наступили трудные дни, потому что после каждого завтрака, обеда, ужина, даже чая, лорд поднимал на меня взор и спрашивал: «Итак?» Я же либо опускал глаза долу и поднимал плечи, словно на них наваливали тяжелый груз, либо вдумчиво отвечал:
— Я еще не пришел к окончательному решению.
Его прекрасный рот кривила горькая усмешка. Но даже если бы хрупкая здоровьем сестра лорда не пеклась ни о чем, кроме его счастья, то подумал ли он о той жалкой роли, которую мне пришлось бы играть среди многочисленной прислуги, упомянутой им, и даже среди гэльского населения его родных гор? «Осыпать насмешками будут не прихотливого вельможу, — говорил я себе, — а игрушку его прихоти». И, сострадая ему в глубине души, я тем не менее мысленно обвинял его в эгоизме. И ко всему этому мне надо было еще постоянно заботиться об обузданье неукротимого стремления Элинор Твентимэн к уединенной встрече для «слова и дела».
В воскресенье во время обеда в зале пили много шампанского. Лорд, правда, к нему не притрагивался, но на другом конце, у Твентимэнов, пробки то и дело стреляли в потолок, и я всякий раз думал, как это плохо для Элинор. Вскоре моим опасениям суждено было подтвердиться. После обеда я, по обыкновению, сервировал кофе в нижнем кафе, из которого застекленная дверь с зелеными шелковыми занавесками вела в помещение библиотеки, где стояли кожаные кресла и длинный
480
стол посередине. Комната эта чаще всего пустовала; только иногда по утрам там сидело несколько человек, погруженных в чтение свежих газет. Газеты не полагалось выносить из читальни, но кто-то захватил с собой в зал «Журналь де деба» и, уходя, оставил его на стуле, возле своего столика. Из любви к порядку я аккуратно обернул его вокруг палки и понес в пустую читальню. Не успел я положить его на длинный стол, как в дверях показалась Элинор, всем своим видом свидетельствующая, что несколько бокалов «Моэ-Шандон» ее доконали. Она решительно направилась ко мне, дрожа как в лихорадке, обвила руками мою шею и залепетала:
— Armand, I love you so desperately and helplessly, I don’t[81] know what to do, I am so deeply, so utterly in love with you that I am lost, lost, lost… Say, tell me, do you love me a little bit, too?
— For
heaven's sake, miss Eleanor, be careful, s
— What do I care about danger! I love you, I love you, Armand, let's flee together, let's die together, but first of all kiss me… Your lips, your lips, I am parched with thirst for your lips…1
— Нет, дорогая моя Элинор, — сказал я, пытаясь без применения грубого насилия высвободиться из ее
481
объятий, — лучше не надо. Вы выпили шампанского, кажется, даже несколько бокалов, и если я теперь еще поцелую вас, вы окончательно захмелеете и вас уж ничем не вразумишь. Ведь столько раз я заботливо твердил вам, что не пристало дочке господ Твентимэнов, занимающих благодаря богатству видное положение в свете, влюбляться в первого встречного кельнера. Это же чистое безумие, и если даже вы питаете ко мне склонность, то вам надо побороть ее во имя естественного правопорядка и нравственности. Ну, вот-вот! Ведь, правда, вы уже стали опять умной послушной девочкой, вы сейчас отпустите меня и пойдете к вашей маме.
— О Арман, как вы можете быть таким холодным, таким жестоким, а еще уверяли, что немножко любите меня? Мама? Да я ее ненавижу, и она ненавидит меня, а вот папа меня любит, и я знаю, что все отлично устроится, когда мы поставим его перед свершившимся фактом. Нам просто надо убежать. Давайте убежим этой ночью на экспрессе, ну, скажем, в Испанию или в Марокко. Я затем и пришла, чтобы вам это предложить. Там мы укроемся, я подарю вам ребенка, это и будет свершившийся факт, и папа с нами примирится, когда мы вместе с ребенком кинемся ему в ноги. Он даст нам денег, и мы будем богаты и счастливы… Your lips!1
И шалая Элинор повела себя так, словно я тут же на месте должен был сделать ей ребенка. — Хватит уж, хватит, dear little Eleanor2, — сказал я и мягко, но решительно снял ее руки со своей шеи. — Все это пустые бредни! Ради них я не сверну с прямого пути и не пущусь по боковой дорожке. Очень нехорошо с вашей стороны, что вы меня здесь атакуете и, несмотря на все уверения в любви, стараетесь заманить в западню, а у меня и без вас хлопот не обобраться. Вы, доложу я вам, ужасная эгоистка! Но в конце концов все вы таковы, и я не сержусь, а, наоборот, благодарю вас и никогда не за-
482
буду малютку Элинор. А теперь мне надо идти исполнять свои обязанности.
— У-гу-гу! — расплакалась Элинор. — No kiss! No child! Poor, unhappy me! Poor little Eleanor, so miserable and disdained!1
Закрыв лицо ладошками и жалобно всхлипывая, она бросилась в кресло. Я хотел ласково погладить ее, прежде чем уйти. Но сделать это было суждено другому. Дверь открылась, в читальню кто-то вошел, — и не кто-то, а лорд Килмарнок собственной персоной. Вошел в безупречнейшем вечернем костюме, в туфлях, не лакированных, а из матовой мягкой замши, с лицом блестящим от крема и оцепенело торчащим вперед носом. Слегка склонив голову набок, он посмотрел из-под косо очерченных бровей на рыдавшую в кулачки Элинор, подошел к ее креслу и тыльной стороной пальца успокоительно погладил ее по щеке. Раскрыв рот от удивления, она взглянула на незнакомца полными слез глазами, вскочила со стула и, точно ласочка, умчалась через вторую дверь, ту, что находилась напротив застекленной. Он все так же задумчиво поглядел ей вслед. Затем важно, с отменным спокойствием повернулся ко мне.
— Феликс, — сказал он, — у вас больше нет времени для раздумья. Я еду завтра, с самого утра. Чтобы сопровождать меня в Шотландию, вам надо будет в течение ночи уложить свои вещи. Что вы решили?
— Милорд, — отвечал я, — я глубоко признателен вам. Прошу на меня не гневаться, но я не чувствую себя в силах справиться с должностью, которую вы мне предложили. Полагаю, что мне лучше будет заблаговременно от нее отказаться и не сворачивать со своего прямого пути. — Первое ваше положение, — возразил он, — я всерьез принять не могу, что же касается остального, — он бросил взгляд на дверь, в которую скры-
483
лась Элинор, — то у меня создалось впечатление, что здесь у вас с делами покончено.
Мне пришлось собраться с духом и сказать:
— Я должен покончить еще с одним делом, милорд, и мне остается только пожелать вашему лордству счастливого пути.
Он опустил голову и вновь медленно поднял ее только затем, чтобы, сделав над собой мучительное усилие, посмотреть мне в глаза.
— А вы не боитесь, Феликс, — проговорил он, — принять решение, которое роковым образом отзовется на всей вашей жизни?
— Я принял его, милорд, именно потому, что боюсь этого.
— Иными словами, вы боитесь не справиться с должностью, которую я вам предлагаю? Тем не менее я остаюсь в полной уверенности, что вы заодно со мной считаете, что вам подобает куда более высокое место. В моем предложении содержатся возможности, которых вы, видимо, недоучитываете, отвечая мне отказом. Существуют случаи адоптации… Вы могли бы однажды проснуться лордом Килмарноком и наследником всего моего состояния.
Это был сногсшибательный довод! Он пустил в ход все средства. Сотни мыслей зароились у меня в мозгу, но в единую мысль — взять назад свой отказ — они не складывались. Его предложение сулило мне жалкое лордство, жалкое в глазах людей и лишенное подлинного достоинства. Но не это было главное. Главное, что не ведающий сомнений инстинкт противился такой дареной и к тому же подмоченной действительности, предпочитая ей царство игры и мечты, то есть самовластие фантазии.
Когда я еще ребенком просыпался с твердым решением быть восемнадцатилетним принцем по имени Карл и наслаждался этим чистым и чарующим вымыслом ровно столько, сколько мне хотелось, — это было настоящее, а не то, что в своих попечениях обо мне предлагал лорд со своим оцепенелым носом.
484
Я очень быстро и кратко суммировал мысли, молниеносно проносившиеся у меня в мозгу, и твердо заявил:
— Прошу прощенья, милорд, если мой ответ вновь ограничится пожеланием вам счастливого пути.
Он побледнел, и я вдруг увидел, что у него дрожит подбородок.
Найдется ли человек, у которого достанет жестокости бранить меня за то, что и у меня покраснели, может быть, даже увлажнились глаза. Нет, нет, только чуточку покраснели. Участие участием, но подлец тот, кто бы в ответ не испытал благодарности.
Я сказал:
— Милорд, не принимайте это так близко к сердцу! Вы встретились со мной, изо дня в день меня видели, моя юность внушила вам участие, и я всей душой благодарен вам. Но ведь с этим участием дело обстоит очень случайно, — вы могли не менее участливо отнестись и к другому. Простите, мне не хотелось бы причинять вам боль или умалить честь, которую вы мне оказали, но пусть я такой, каков я есть, — каждый ведь бывает таким, каков он есть, и только однажды, — но вокруг миллионы людей одного со мной возраста и стати, и за исключением малой толики самобытности все мы одинаковы. Я знал женщину, в ней все мои сверстники гуртом возбуждали участие. По существу это и с вами так. А молодые люди есть везде и всюду. Сейчас вы вернетесь в Шотландию, да разве там они хуже представлены и разве именно я вам нужен для проявления участия? Там они ходят в клетчатых юбочках и с голыми ногами, ведь это же прелесть что такое! Из них вы сумеете выбрать себе великолепного камердинера, вы будете болтать с ним по-гэльски и под конец, возможно, усыновите его. Пусть поначалу это будет немножко нескладный лорд, потом он привыкнет, а все-таки он уроженец страны. Мне этот юноша представляется до того привлекательным, что я твердо уверен — знакомство с ним непременно заставит вас
485
позабыть о случайной встрече со мной. Пусть уж воспоминания о ней останутся на мою долю: так будет надежнее. Потому что, смею вас заверить, никакое время не изгладит из моей благодарной памяти дни, когда я вас обслуживал, давал вам советы, какие выбрать сигары, и радовался тому мимолетному участию, которое вы во мне приняли. И кушайте побольше, милорд, если мне позволено просить вас об этом! Ибо ни один человек на свете не в состоянии сочувствовать вам в вашем самоотрицании.
Вот что я говорил, и какое-то благотворное действие мои слова все же на него оказали, хотя при упоминании о юноше в пестрой юбочке он и качнул головой. Потом он улыбнулся своим прекрасным и печальным ртом точь-в-точь как в тот раз, когда я упрекнул его за самоотрицание, снял с пальца великолепный смарагд, которым я часто любовался на его руке и на который я смотрю и сейчас, когда пишу эти строки. Он не надел мне его на палец, — нет, этого он не сделал! — он протянул его мне и сказал очень тихим, надломленным голосом: — Возьмите это кольцо! Я так хочу. Благодарю вас. Будьте здоровы!
Затем он повернулся и ушел. У меня нет слов, чтобы описать деликатность и великодушие этого человека.
Вот и все об Элинор Твентимэн и лорде Килмарноке.
Мое внутреннее отношение к миру, или, вернее, к обществу я не могу назвать иначе как противоречивым. Несмотря на жажду взаимной теплоты, к этому моему отношению временами примешивалось нечто вроде задумчивого холодка, склонность к развенчивающему наблюдению, меня самого удивлявшая. Так, например, в ресторане или в нижнем кафе, когда у меня вдруг выдавалось несколько свободных минут и я, заложив за спину руку с салфеткой, стоял
486
и смотрел на публику в зале и суету синих фраков, всячески ее ублаготворявших, меня неотвязно преследовала мысль о взаимозаменяемости. Переменив костюм, многие из числа обслуживающего персонала могли с успехом сойти за господ, так же как многие из тех, что с сигарой в зубах сибаритствовали в глубоких плетеных креслах, вполне естественно выглядели бы в роли кельнеров[82]. То, что все было так, а не наоборот, — чистейшая случайность, случайность, порожденная богатством, ибо аристократия денег — это случайная, ряженая аристократия[83].
Такие мысленные эксперименты мне удавались часто, но не всегда, ибо, во-первых, привычка к богатству как-никак способствует внешней утонченности, и это, конечно, затрудняло мне игру, и, во-вторых, потому, что в лощеную чернь общества[84] порой бывала вкраплена настоящая, не денежная аристократия, хотя и обладавшая капиталом.
Иногда, для успеха затеи, не находя среди моих коллег-кельнеров подходящего, я сам мысленно менялся ролями с кем-нибудь из знатных посетителей ресторана. Так было и в случае с одним и вправду весьма приятным молодым человеком, отличавшимся обаятельной непринужденностью манер, который, не проживая в «Сент-Джемсе», раза два в неделю приходил к нам обедать и садился за один из моих столиков.
Сумев снискать особое благорасположение Махачека, он заранее ему телефонировал, и тот, показав глазами на столик, резервированный для молодого человека, многозначительно произносил:
— Le marquis de Venosta. Attention!1
Веноста, по виду мой ровесник, и со мной держался вполне непринужденно, я бы даже сказал — почти на дружеской ноге. Я с удовольствием смотрел, как он свободно и весело проходил по залу, пододвигал ему стул, если Махачек не успел этого сделать самолично, и с положенным мне оттенком почтительности отвечал на вопрос о том, как я поживаю:
487
— Et vous, monsieur le marquis?1
— C
— C
— Farceur!3 — смеялся он. — Что вы знаете о «моем случае»?
Красивым его нельзя было назвать: у него была элегантная осанка, изящные руки, очень густые каштановые кудри, но при этом слишком пухлые, по-детски румяные щеки и над ними плутоватые глазки, которые мне очень нравились тем, что своей явной веселостью сводили на нет его попытки, впрочем, не столь уж частые, казаться меланхоличным. — Вам легко так говорить потому, что вы ничего обо мне не знаете, mon cher Armand! Вы, надо думать, рождены для вашего ремесла и потому счастливы, а я так очень сомневаюсь, хватит ли у меня таланта для моего.
Он был художник, учился в Академии изящных искусств и писал обнаженную натуру в ателье своего профессора. Все это и многое другое я узнал из коротких, отрывочных бесед, начавшихся с его расспросов о том, кто я и как сюда попал; происходили эти беседы в то время, как я подавал на стол, накладывал жаркое или менял тарелки. Расспросы его свидетельствовали о том, что он не считал меня за проходимца; и я охотно отвечал на них, умалчивая, конечно, об отдельных подробностях, которые могли бы ослабить благоприятное впечатление. Он обменивался со мной этими отрывочными фразами то по-немецки, то по-французски. Немецкий он знал хорошо, ибо его мать — «ma pauvre mère»4 — происходила из знатной немецкой семьи. Он жил в Люксембурге, где его родители — «mes pauvres ра-
488
rents»1 —
неподалеку от столицы владели утопающим в зелени парка наследственным замком,
построенным еще в XVII веке. Этот замок, по его словам, выглядел точно так, как
английские castles2 на
тарелке с двумя кусками жаркого и гарниром, которую я как раз ставил перед ним.
Его отец, камергер великого герцога и «прочая и прочая», был к тому же, что,
пожалуй, всего существеннее, и крупный сталепромышленник, а следовательно,
«здорово богат», как с небрежным жестом, говорившим: «Могло ли быть иначе? Ну,
конечно же, “здорово
богат”», — добавлял его
сын и наследник. Словно об этом нельзя было догадаться но его образу жизни, по
массивному золотому браслету под манжетой и драгоценным жемчужным запонкам на
манишке!
Родители назывались «mes pauvres parents» не только по сентиментальному обыкновению, но
отчасти также из сочувствия к их несчастью иметь столь никчемного сына. Он,
собственно, должен был изучать юриспруденцию в Сорбонне, но бросил это скучное
занятие и с разрешения, вымоленного у расстроенных обитателей люксембургского
замка, занялся изящными искусствами, — и это при почти полном неверии в свою
пригодность к артистическому призванию. Из его слов явствовало, что он, не без
известного, впрочем, самодовольства, и вправду смотрит на себя как на
избалованного незадачливого сынка, причиняющего немало горя родителям. Не имея
ни малейшего желания что-либо в этом изменить, он отнюдь не оспаривал их мнения
о себе как о праздном кутиле и постепенно деклассирующем представителе
артистической богемы. Что касается последнего пункта, то, как вскоре
выяснилось, он здесь намекал не только на свою живопись, которой занимался
спустя рукава, но и на одну сомнительную любовную историю.
Время от времени маркиз приходил обедать не один. В таких случаях он заказывал Махачеку бо́льший
489
столик, требуя, чтобы тот с особым тщанием украсил его цветами, и в семь часов являлся в обществе прехорошенькой особы; я не мог не одобрить его вкуса, хотя это и был вкус к «beauté de diable»1, к быстро преходящей прелести. В те дни, в расцвете юности, Заза — так он называл ее — была очаровательнейшим созданием в мире: парижанка по крови, тип гризетки, но облагороженный вечерними туалетами от лучшего портного — белыми или цветными, которые, разумеется, заказывал ей маркиз, и редчайшими старинными драгоценностями, тоже, конечно, его подарками, стройная, хотя отнюдь не худая, брюнетка с дивными всегда обнаженными руками и оригинальной пышно взбитой прической, которую она иногда прикрывала чем-то вроде тюрбана с серебряной бахромой по бокам и опушкой из мелких перышек надо лбом; вдобавок, у нее были лукавые глаза, вздернутый носик и очаровательный болтливый ротик.
Обслуживать эту парочку было истинным удовольствием: так
мило и весело болтали они за бутылкой шампанского, с приходом Заза заменявшей
полбутылки бордо, которое пил Веноста в одиночестве. Было совершенно очевидно,—
да и не удивительно,— что он до самозабвения и полного безразличия ко всему на
свете влюблен в нее, околдован созерцанием ее аппетитного декольте, ее
болтовней, кокетством ее черных глаз. И она, само собой, благосклонно принимала
его любовь, отвечала на нее с радостью, всеми способами старалась ее разжечь,
ибо это был счастливый жребий, выпавший на ее долю, повод к мечтам о блистательном
будущем. Я величал ее «madame»,
но на четвертый или пятый раз отважился сказать «madame la marquise», чем достиг большого
эффекта. Она покраснела от радостного испуга и бросила на своего возлюбленного
вопросительно нежный взгляд, который вобрали в себя его веселые глаза, не без
смущения уставившиеся в тарелку.
490
Разумеется, она кокетничала и со мной, а маркиз притворялся ревнивцем, хотя на самом деле мог быть совершенно в ней уверен.
— Заза, ты доведешь меня до бешенства, tu me feras voir rouge1, если не перестанешь стрелять глазами в этого Армана. Или тебе нипочем взвалить на себя вину за двойное убийство, да еще самоубийство вдобавок?.. Признайся, ты бы ничего не имела против, если б он в смокинге сидел с тобой за столом, а я бы в синем фраке вам прислуживал?
Как странно, что он, сам от себя, вдруг облек в слова мой мысленный эксперимент, постоянно владевшую мной идею перемены ролей. Подавая каждому из них меню для выбора десерта, я набрался смелости и ответил вместо Заза:
— В таком случае вам досталась бы более трудная часть, господин маркиз, ибо быть кельнером — это труд, а быть маркизом — удел pure et simple2.
— Excellent!3 — смеясь, крикнула она, радуясь, как все люди ее расы, удачному словцу.
— А вы уверены, — полюбопытствовал он, — что этот удел pure et simple вам больше по плечу, чем мне ваш труд?
— Я полагаю, что было бы неучтиво и дерзко, — отвечал я, — приписать вам особую склонность к обслуживанию посетителей ресторана, господин маркиз.
Она от души веселилась
. — Mais il est
inc
— Твои восторги убьют меня, — воскликнул маркиз с театральным отчаянием.
— К тому же Арман уклонился от прямого ответа. Больше я в этот разговор не углублялся и отошел. Но вечерний костюм, в котором он воображал меня сидящим на его месте, с недавних пор уже висел вместе с другими моими вещами в маленькой комнате на тихой улочке, неподалеку от отеля; я ее снял не
491
затем, чтобы в ней ночевать, — это
случалось лишь изредка, — а чтобы держать там свой гардероб и иметь возможность
переодеться без соглядатаев, если мне хотелось провести свободный вечер на
несколько более высоком жизненном уровне, чем в компании со Станко. Дом, в
котором находилась эта комнатка, стоял в маленьком cité — уголке, отгороженном от мира
решетчатыми воротами, в который попадали тоже с очень тихой улицы Буаси д’Англэ. На ней не было ни лавок, ни
ресторанов, лишь несколько маленьких гостиниц и частных домов, из тех, где в
раскрытую дверь видна комната консьержки, сама толстая консьержка, занятая
хозяйственными хлопотами, ее муж за бутылкой вина и рядом с ним кошка. В одном
из этих домов я и снял комнатку «от жильцов» у одной весьма ко мне
расположенной немолодой вдовы, четырехкомнатная квартира которой занимала
половину второго этажа. Она сдала мне по сходной цене нечто вроде маленькой
спальни с мраморным камином и стоячими часами, с расшатанной мягкой мебелью и
линялыми бархатными занавесками на доходившем до полу окне, из которого виден
был тесный двор, а в его глубине — низкие застекленные крыши кухонных
помещений. Дальше теснились задние стены богатых домов предместья Сент-Оноре,
где в освещенных окнах буфетных и кухонь сновали лакеи, горничные и повара. В
одном из домов предместья проживал монакский князь, владелец этого мирного маленького
cité, за которое он,
явись у него такое желание, в любую минуту мог бы получить сорок пять
миллионов. В этом случае cité
было бы снесено с лица земли. Но он, видно, не испытывал нужды в деньгах, и я
до поры до времени оставался гостем этого монарха и великого крупье — мысль,
признаюсь, не лишенная для меня известного обаяния.
Мой изящный выходной костюм по-прежнему висел в шкафу возле дортуара номер четыре. Но последние приобретения — смокинг и крылатку, подбитую шелком, выбор которой для меня предопределило неизгладимое юношеское впечатление: Мюллер-Розе
492
в роли атташе и ловеласа, — далее,
матовый цилиндр и лакированные туфли, — я не мог хранить в отеле и держал их
наготове в cabinet de toilette
— чулане, прилегавшем к снятой мною комнате, где их защищала от пыли кретоновая
занавеска; белая крахмальная рубашка, черные шелковые носки и несколько
галстуков лежали там же, в комоде Louis
Seize. Визитка с атласными отворотами, сшитая не по моей мерке, — я
купил ее готовую и велел только немного переделать, — сидела на мне так
безупречно, что любой знаток поручился бы за то, что она сделана на заказ у
лучшего портного. Но для чего, спрашивается, я хранил в тайнике эту визитку и
другие красивые вещи?
Я ведь уже сказал: чтобы время от времени, как бы для самопроверки
и тренировки, вести жизнь более высокого полета, обедать в одном из элегантных
ресторанов на улице Риволи, на Елисейских полях или в отеле, таком, как мой, а
то и рангом повыше, вроде «Рица», «Бристоль», «Мерис», и вечером сидеть в ложе
Драматического театра, Комической оперы или даже Гранд-Опера. Это в известной
мере была уже двойственная жизнь, прелесть которой заключалась в том, что я и
сам точно не знал, в каком из двух обличий я был самим собой и в каком только
ряженым: тогда ли, когда я в качестве кельнера в ливрее угодливо суетился вокруг
постояльцев «Сент-Джемса»,
или когда в качестве изящного незнакомца, без сомнения имеющего верховую лошадь
и после обеда отправляющегося с визитами в лучшие дома Парижа, сидел за
столиком и другие кельнеры старались угодить мне; кстати сказать, ни один из
них, по моему разумению, не мог со мной сравниться в этой роли. Следовательно,
ряженым я был и в том, и в другом случае, а немаскарадная действительность,
подлинное мое бытие между этими двумя жизненными формами было неустановимо, ибо
фактически его не существовало. Не могу даже сказать, чтобы я отдавал
решительное предпочтение одной из этих двух ролей — роли изящного джентльмена.
Я служил так хорошо и так успешно, что не обязана-
493
тельно должен был чувствовать себя лучше на месте обслуживаемого, ибо для того и для другого прежде всего необходимо врожденное предрасположение… Но вскоре настал вечер, который самым неожиданным, счастливейшим, я бы даже сказал, упоительным образом направил все мои способности «оборотня» на исполнение роли джентльмена.
Однажды июльским вечером, за несколько дней до национального праздника, которым заканчивается театральный сезон, предвкушая удовольствие от свободного дня, предоставлявшегося мне администрацией гостиницы раз в две недели, я решил, уже не впервые, отобедать на уютной и разукрашенной лучшими садоводами террасе «Гранд отель дез амбасадер», что на бульваре Сен-Жермен.
С воздушных высот этой террасы, если смотреть поверх балюстрады, уставленной ящиками с цветами, открывался широкий вид на город, на Сену, на площадь Согласия и храм св. Мадлены, по одну сторону, и чудо всемирной выставки 1889 года — Эйфелеву башню — по другую. Как только лифт доставил меня на пятый или шестой этаж, я очутился в прохладе, среди приглушенного гомона голосов благовоспитанного общества, где взгляды никогда не выражают любопытства, как равный среди равных. За столиками, на которых излучали мягкий свет маленькие лампочки, в плетеных креслах сидели нарядные женщины в модных тогда огромных шляпах вызывающей формы и усатые мужчины в корректных вечерних костюмах вроде моего, некоторые даже во фраках. У меня такового не имелось, но я все же выглядел достаточно элегантно и мог смело усесться за столик, с которого обер-кельнер, распоряжавшийся в этом углу террасы, велел немедленно убрать второй прибор. После хорошего обеда мне предстоял еще приятнейший вечер, так как в кармане у меня имелся билет в Комическую оперу, где в тот день давали
494
моего любимого «Фауста» — мелодическое и прекрасное творение покойного Гуно. Я уже однажды слышал его и теперь радовался возможности освежить чарующие впечатления.
Но этому не суждено было сбыться, ибо судьба в тот вечер уготовила мне нечто, возымевшее весьма большие последствия для всей моей жизни.
Не успел я сообщить свои пожелания относительно обеда склонившемуся надо мной кельнеру и спросить карту вин, как мои глаза, небрежно и с нарочитым утомлением скользнувшие по террасе, встретились с другой парой — веселых и задорных глаз юного маркиза де Веноста. Одетый так же, как и я, он сидел в некотором отдалении и обедал. Естественно, я узнал его раньше, чем он меня. Насколько же мне было легче поверить своим глазам, чем ему не принять все это за обман зрения! Он недоуменно наморщил лоб, но тут же его лицо просияло радостным изумлением; хотя я и не решался с ним поздороваться (мне казалось, что это будет нетактично), но непроизвольная улыбка, которой я ответил на пристальный взгляд маркиза, заставила его уверовать в мою идентичность — идентичность джентльмена с кельнером. Он слегка отклонил голову вбок и чуть заметно развел на столе руками в знак удивления и удовольствия, затем отложил свою салфетку и, лавируя между столиков, направился прямо ко мне.
— Mon cher Armand, вы это или не вы? Простите, что я в первое мгновение усомнился, и простите также, что я по привычке называю вас Арманом, на беду я либо не знаю вашей фамилии, либо она выскочила у меня из памяти. Для нас вы ведь всегда были просто Арман…
Я поднялся и пожал ему руку, чего, конечно, мне до сих пор делать не доводилось.
— Арман — это тоже не совсем правильно, маркиз, — смеясь, сказал
я. — Это только n
495
— Ну конечно же, mon cher Kroule, как это я запамятовал! Я тоже очень, очень рад,
смею вас уверить! C
— Да нет же, маркиз! Она идет параллельно. Или это здесь идет параллельно. Я и тут, и там.
— Très amusant!2 Вы прямо волшебник. Но я вам мешаю. Я ухожу… Или нет, давайте лучше побудем вместе. Я не могу вас попросить за свой столик, он слишком мал. Но у вас тут есть место. Правда, я уж съел свой десерт, но если вы ничего не имеете против, я выпью с вами кофе. Или вы хотите побыть в одиночестве?
— Нисколько! Я буду очень рад, маркиз, — спокойно отвечал я и обратился к кельнеру:
— Дайте еще один стул для этого господина.
Я нарочно не показал виду, будто мне льстит это предложение, и ограничился тем, что назвал его превосходной идеей. Он уселся напротив меня и, пока я заказывал обед, — ему же подали кофе и коньяк, — все время, чуть склонившись над столом, на меня посматривал. Его, видимо, занимало мое двойное существование, и он старался вникнуть в него поглубже.
— Надеюсь, — сказал маркиз де Веноста, — мое присутствие не стесняет вас и не портит вам аппетита? Мне бы очень не хотелось быть вам в тягость. Я боюсь оказаться навязчивым, — навязчивость признак дурного воспитания. Люди благовоспитанные молча проходят мимо того, что их удивляет, и самые необычные жизненные положения принимают без расспросов»: Это отличительный признак светского человека, каковым я и являюсь. Ну и ладно, светский так светский. Но в некоторых случаях, вот сейчас, например, я прихожу к убеждению, что я светский человек без знания света, без всякого житейского
496
опыта, который единственно и дает нам право по-светски проходить мимо всевозможных явлений. Тем не менее разыгрывать из себя джентльмена-дурака — слабое удовольствие!.. Вы сами понимаете, что наша встреча здесь столько же радует, сколько и озадачивает меня, разжигая мою любознательность. Признайтесь также, что ваши обороты вроде «идет параллельно» и «…тут и там» не могут не заинтриговать непосвященного. Ешьте, ради бога, ешьте и не отвечайте мне ни слова! Предоставьте уж мне болтать и ломать себе голову над образом жизни моего сверстника, который, видимо, куда более светский человек, чем я. Voyons!1[85] Вы — конечно, я в этом убедился уже давно, а не сейчас и не здесь — происходите из хорошей семьи; в нашем дворянском кругу, не обессудьте меня за эту неделикатность, говорят просто «из семьи»; из «хорошей семьи» — это значит из буржуазной. Странный мир! Итак, вы из хорошей семьи и выбрали себе путь, который, несомненно, должен привести вас к цели, соответствующей вашему происхождению, но, чтобы достигнуть ее, вам необходимо начинать снизу и до поры до времени занимать должность, которая ненаблюдательному человеку может внушить ложную мысль, что он имеет дело с представителем низших классов, а не с переодетым джентльменом. Верно ведь? A propos, какие молодцы англичане, что придумали и распространили слово «джентльмен». С их легкой руки появилось обозначение для человека, который, не будучи дворянином, достоин быть им, более достоин, чем многие из тех, кого на конвертах величают «высокородие», тогда как джентльмен именуется лишь «высокоблагородием»; «лишь» — а между прочим ведь еще и «благо»… За ваше благо-получие! Я сейчас велю принести вина. То есть, я хочу сказать, когда вы покончите со своей полбутылкой, мы вместе разопьем еще одну — цельную, конечно… С «высокородием» и «высокоблагородием» — это как с «из семьи» и «из хорошей семьи» — полная аналогия… Бог ты мой, что я несу!.. Но это
497
только для того, чтобы вы спокойно ели и мною не занимались. Не заказывайте утку, она плохо зажарена. Лучше велите подать баранью ножку. Метрдотель меня не обманул, уверяя, что она достаточно долго вымачивалась в молоке. Enfin!1 Что я говорил относительно вас? Да, если ваша служба заставляет вас разыгрывать человека из низших классов, то это, наверно, кажется вам только забавным — ведь внутренне вы привержены к своему сословию, но вот у вас появляется возможность и внешне возвратиться к нему, как, например, сегодня. Очень, очень мило! Меня, однако, поражает — до чего же плохо разбирается в жизни светский человек! Простите меня, но технически ваше «тут и там» — вещь отнюдь не простая! Предположим, вы из зажиточной семьи, — заметьте себе, я не спрашиваю, а говорю «предположим», потому что это довольно очевидно. Поэтому у вас есть возможность, кроме служебной формы, иметь еще и гардероб джентльмена. Но всего интереснее, что вы в том и другом обличье выглядите одинаково убедительно.
— Платье делает человека, маркиз, или, вернее, наоборот: человек делает платье.
— Значит, я более или менее верно определил ваш modus vivendi?2
— Даже очень метко. — Я сказал ему, что имею кое-какие средства — о, конечно, очень скромные — и что у меня маленькая квартирка, где и совершается мое превращение, благодаря которому я сегодня имею удовольствие здесь с ним беседовать.
Я заметил, что он следит за моими манерами во время еды, и без всякой аффектации постарался придать им благовоспитанную строгость, орудуя ножом и вилкой с прижатыми к туловищу локтями. Что его очень занимает, как я веду себя, стало мне очевидно еще и по замечанию, которое он отпустил касательно различной манеры есть. В Америке, как ему говорили, европейца узнают по тому, что он подносит вилку ко
498
рту левой рукою. Американец сначала нарежет все у себя на тарелке, отложит в сторону нож и начинает есть правой[86].
— В этом есть что-то детское, верно? — Но в общем он все это знает только по рассказам, так как сам не бывал за океаном, да и не имеет никакой, ни малейшей охоты путешествовать. — А вы успели уже повидать свет?
— Ах нет, маркиз, — и все-таки да! Кроме нескольких живописных приреинских курортов я видел только Франкфурт-на-Майне. И вот теперь Париж. Но Париж — это уже немало.
— Париж — это все, — патетически воскликнул он. — Для меня это все, и я бы ни за что на свете из него не уехал. Да вот беда, приходится, хочешь — не хочешь, пускаться в путешествие. Когда тебя опекает семья, милый Круль, — я не знаю, насколько вы еще ходите на помочах, и, кроме того, вы только из хорошей семьи, а я, увы и ах, я — из семьи…
И хотя я еще не справился со своим персиком в вине, он уже заказал давно предвкушаемую бутылку лафита для нас двоих.
— Я ее сейчас начну, — объявил он. — А вы, когда покончите с кофе, присоединитесь ко мне, если же я зайду слишком далеко, то мы велим подать вторую.
— Однако, маркиз, вы пустились во все тяжкие! Под моим крылышком в «Сент-Джемсе» вы ведете себя умереннее.
— Заботы, горе, тоска, милый Круль! Только одно утешение и остается. Дары Бакхуса? Так его, кажется, зовут? Бакхус, на мой взгляд, звучит лучше, чем Бахус, как говорят удобства ради. Я сказал «удобства ради», чтобы не выразиться грубее. Вы сильны в мифологии?
— Не слишком, маркиз. Я знаю, например, что есть такой бог Гермес. Но этим мои сведения почти что и ограничиваются.
— Да и на что они вам? Ученость, которая временами, право же, бывает довольно навязчива, — не для джентльмена, и в этом его сходство с дворянином. Превосходная традиция, берущая свое начало в эпохе,
499
когда человеку знатного происхождения полагалось только хорошо сидеть на лошади, а больше он вообще ничему не учился, даже читать и писать[87]. Книги были прерогативой попов[88]. Многие мои приятели и сейчас придерживаются этого обычая. Большинство из них — элегантные шалопаи, не всегда даже симпатичные. А вы ездите верхом? Разрешите теперь и вам налить этого «утоли моя печали». За ваше благополучие! За мое? Выпить, конечно, можно, но толку от этого не будет. На таковое надежды мало. Верхом вы, значит, не ездите? Я уверен, что из вас вышел бы превосходный наездник, вы прямо рождены для верховой езды и в Булонском лесу, конечно, заткнули бы за пояс любого всадника.
— Признаюсь, маркиз, я и сам в этом почти уверен.
— Что ж, это не более как здоровая самоуверенность, милейший Круль. Здоровой я ее называю потому, что тоже уверен в вас и не только касательно верховой езды… Разрешите мне быть вполне откровенным. Вы мне не кажетесь человеком, склонным к сообщительности и сердечным излияниям. Последнее слово вы все же предпочитаете держать про себя. Вас окружает атмосфера какой-то таинственности. Pardon, я становлюсь нескромным. То, что я так говорю, служит доказательством моей собственной ветрености и невоздержанности на язык, но также и моего к вам доверия.
— За которое я всем сердцем признателен, милый маркиз. Разрешите мне спросить, как поживает мадемуазель Заза? Я даже несколько удивился, встретив вас здесь без нее.
— Как это мило, что вы спрашиваете о ней. Ведь вы тоже находите ее очаровательной, правда? Да и почему бы вам не восхищаться ею? Я вам это разрешаю. Я всем на свете разрешаю находить ее очаровательной. И все-таки мне хотелось бы укрыть ее от глаз света, иметь ее для себя одного. Бедная девочка занята сегодня вечером в своем театрике «Фоли мюзикаль». Она там на ролях субреток, вы этого не знали? Сегодня она играет в «Дарах феи». Но я уже
500
столько раз смотрел эту штуку, что теперь решил пропустить вечер-другой. И еще меня огорчает, что она так мало одета во время своих куплетов. Правда, это очень красиво, но мало есть мало, и я от этого страдаю, хотя поначалу[89] такой, с позволения сказать, костюм и заставил меня без памяти в нее влюбиться. А вы были когда-нибудь влюблены до сумасшествия?
— Я, право, уже почти готов последовать вашему примеру, маркиз.
— Что вы знаете толк в любви, мне ясно и без ваших заверений. И все же вы, по-моему, принадлежите к людям, которых любят больше, чем они любят сами. Разве я не прав? Хорошо, не будем углубляться в эти дебри. Заза поет еще и в третьем акте. Потом я за ней заеду, и мы будем пить чай уже в квартирке, которую я снял и обставил для нее.
— Желаю вам приятно провести время. Но это значит, что нам следует поторапливаться с нашим лафитом и с окончанием столь приятной для меня беседы. У меня лично в кармане билет в Комическую оперу.
— Правда? Я не люблю торопиться. Кроме того, я могу протелефонировать малютке, чтобы она дожидалась меня дома. А вам очень бы не хотелось опоздать на первый акт?
— Нет, почему же? «Фауст» прелестная опера, но ведь не может быть, чтобы она привлекала меня больше, чем вас мадемуазель Заза.
— Я бы с удовольствием еще поболтал с вами здесь, мне хочется поподробнее рассказать вам о своих горестях. Ведь вы уже, конечно, поняли по некоторым словам, сорвавшимся сегодня у меня с языка, что я нахожусь в тяжелом, очень тяжелом положении.
— Несомненно, милый маркиз, и я только ждал удобного случая, чтобы с искренним участием спросить вас о ваших затруднениях. Они касаются мадемуазель Заза?
— О, если бы речь шла не о ней! Вы слышали, что я должен отправиться в путешествие? На целый год!
501
— Почему же непременно на целый год? — Ах, милый друг! Дело в том, что мои бедные родители — я уж как-то рассказывал вам о них — знают о моей связи с Заза. Она ведь длится больше года, — и не по анонимным письмам или случайно услышанным сплетням, а потому, что я был так прямодушен и ребячлив, что в письмах вечно проговаривался о своем счастье, о своих мечтах и желаниях. У меня, вы знаете, что на уме, то и на языке, а с языка и до пера дорога недолга. Милейшие старички сделали справедливый вывод, что я серьезно отношусь к этой истории и намерен жениться на девочке, или «этой особе», как они ее называют, и теперь рвут и мечут. Они были здесь и уехали только третьего дня; тяжелое это было время — целая неделя пререканий, с утра до вечера. Отец говорил со мной низким басом, а мать — очень высоким голосом, вибрирующим от слез; он — по-французски, она — по-немецки. О, разумеется, у них не сорвалось с языка ни единого грубого слова, кроме постоянно повторяющегося словечка «особа», но право же мне было бы не так больно, если б они называли меня дурным, сумасшедшим человеком, обесчестившим свою семью. Этого они, однако, не делали, они только всеми святыми заклинали меня не давать им и обществу повода для подобных обозначений, и я, в свою очередь, низким и вибрирующим голосом уверял, что мне очень больно причинять им огорчения. Я ведь знаю, что они меня любят и желают мне добра, но в чем оно для меня, понятия не имеют. Они даже намекали, что лишат меня наследства, если я осуществлю свои скандальные намерения. Этого слова они, правда, не произнесли — ни по-французски, ни по-немецки. Я уже сказал, что из любви ко мне они вообще воздерживались от жестоких слов. Все это мне дали понять лишь описательно, предоставив догадываться самому о такой угрозе и сделать соответствующий вывод. Я-то, конечно, считаю, что при положении моего отца и его широком участии в стальной промышленности Люксембурга я бы вполне свел концы с концами, живя на обязательную долю. Но лишение наследства, что и го-
502
ворить, все же неприятно сказалось бы на мне и на Заза. Сами понимаете, не такая уж это радость — выйти за человека, лишенного наследства.
— Отчасти понимаю, стараясь поставить себя на место мадемуазель Заза. Но при чем тут ваше путешествие?
— С этим проклятым путешествием дело обстоит так: родители хотят меня сплавить из Парижа. Отец так и выразился: «Надо тебя сплавить». Препротивное слово, и как его понять, я, ей-богу, не знаю. То ли они полагают, что я должен, как сплавное бревно, болтаться в холодной воде, вместо того чтобы лежать в постели с Заза, наслаждаясь ее сладостным теплом, — дрожь пробирает при одной мысли, — то ли рассчитывают сплавить меня с какой-то другой женщиной, как сплавляют металлы, в надежде, что я позабуду Заза. Такова идея, и ей должно служить это пресловутое путешествие, на которое мои родители решили не щадить затрат, — ведь оно пойдет во благо их сыну! И вот мне предстоит уехать из Парижа на долгий срок, уехать от «Фоли мюзикаль» и от Заза, повидать новые страны, новых людей, призадуматься над виденным — словом, «выбить дурь из головы» — они это называют «дурью» — и вернуться другим, понимаете ли, — «другим человеком». Ну скажите на милость, могли бы вы пожелать сделаться другим человеком, не таким как вы есть? У вас в глазах сомнение! Но я ничуть, ничуть этого не желаю. Я хочу остаться таким каков я есть и не желаю, чтобы предписанное мне лечение путешествием вывернуло наизнанку мой мозг и сердце до такой степени, чтобы я отказался от самого себя и позабыл Заза. А ведь это вполне возможно. Долгая разлука, резкая перемена воздуха, тысячи новых впечатлений могут к этому привести. Но именно потому, что я теоретически считаю это возможным, мне этот эксперимент и внушает такое отвращение.
— Но подумайте! — заметил я. — Став другим, вы уже не будете искать в себе ваше прежнее, теперешнее я, не будете сожалеть о нем, потому что вы будете уже не вы.
503
— И что ж, по-вашему, это утешение для меня теперешнего? Как можно хотеть забыть? Я не знаю ничего более жалкого и противного, нежели забвение.
— И тем не менее знаете, что ваше отвращение к этому эксперименту не послужит залогом его неудачи?
— Да, теоретически. Практически же об этом не может быть и речи. Мои родители в своем попечении о сыне замышляют любвеубийство. Но они потерпят неудачу, я в этом так же уверен, как в себе самом.
— Это уже немало. Но разрешите спросить, считают ли ваши родители, что это именно только эксперимент, и готовы ли они в случае, если он окончится неудачей и ваши желания выдержат испытание стойкостью, пойти таковым навстречу?
— Я спрашивал их и об этом, но прямого «да» так и не добился. Им самое главное меня «сплавить», ни о чем другом они сейчас думать не в состоянии. В том-то и беда, что я им дал обещание, а они мне — никакого.
— Вы, значит, согласились на отъезд?
— А что мне еще оставалось? Не мог же я подвергнуть Заза риску лишения наследства. Я ей сказал, что должен буду уехать, и она очень плакала — отчасти из-за долгой разлуки, а отчасти из-за того, что она боится: вдруг родители предписали мне правильный курс лечения и я вернусь уже с иными намерениями. Я ее вполне понимаю. Мне и самому иногда становится страшно. Ах, друг мой, что за мучительная дилемма! Я должен уезжать — и не хочу; дал слово уехать — и не могу. Что мне делать? От кого ждать помощи?
— Вам действительно можно посочувствовать, милый маркиз, — сказал я. — Но раз уж вы взяли на себя такое обязательство, то никто его с вас не снимет.
— Никто?
— Никто.
Разговор на несколько мгновений выдохся. Маркиз вертел в руках свой бокал. Затем вдруг поднялся.
504
— Чуть было не забыл… Я ведь должен протелефонировать своей подруге. Прошу прощения, я сейчас вернусь…
Он ушел. Терраса к этому времени уже опустела. Занято было еще только два столика. Большинство кельнеров стояли без дела. Чтобы чем-нибудь заполнить время, я закурил сигарету. Вернувшись, Веноста заказал еще бутылку шато-лафита и начал снова:
— Милый мой Круль, я сейчас посвятил вас в конфликт между мной и моими родителями, одинаково болезненный для той и для другой стороны. Надеюсь, что нечаянным резким словом я не погрешил против сыновнего пиетета и уважения, а также благодарности за родительскую заботу и, наконец, за ту щедрость, в которой выразилась эта забота, правда уж очень похожая на насилие. Ведь только в моем особом случае предложение с максимальным комфортом совершить кругосветное путешествие превращается в нечто до того несносное, что я невольно спрашиваю себя, как мог я на это пойти. Любому молодому человеку из семьи или из хорошей семьи радужная перспектива всех этих новых стран и приключений показалась бы даром небес. Даже я при моих обстоятельствах временами ловлю себя на том, — и это безусловно предательство по отношению к Заза и к нашей любви, — что начинаю мечтать о прелестях такого длительного кочевья, о сонме новых лиц, о новых встречах, радостях и наслаждениях, которые, конечно же, сулит путешествие каждому, кто к этому восприимчив. Вы только представьте себе: дальние края, Ближний Восток, Северная и Южная Америка, Восточная Азия! В Китае, говорят, холостяка из Европы обслуживает не меньше дюжины слуг. Одному, например, вменяется в обязанность носить впереди своего господина его визитные карточки — и ничего больше. И еще мне рассказывали: когда один тропический султан свалился с лошади и выбил себе передние зубы, он заказал здесь, в Париже, золотые и в каждый из них велел вставить по бриллианту. Его возлюбленная носит национальный костюм, то есть кусок драгоценной
505
ткани вокруг чресел, завязанный узлом чуть пониже гибких бедер. Говорят, она прекрасна, как сказка, на шее у нее три или четыре ряда жемчуга, а под ними столько же рядов бриллиантов небывалой величины.
— Это вам все рассказали ваши достоуважаемые родители?
— Нет. Они ведь не были на Востоке. Но разве все это не правдоподобно и разве трудно себе это представить, в особенности бедра? А вот что всего интереснее: я слышал, что особо почетным гостям султан на время уступает свою возлюбленную. Разумеется, это мне тоже рассказали не мои родители: они даже не подозревают, что мне сулит кругосветное путешествие, — но разве, несмотря на полную мою невосприимчивость ко всему, что не Заза, я не должен— теоретически — быть им благодарен за такое великодушное утешение?
— Разумеется, маркиз. Но тут вы уже берете на себя мою роль и, так сказать, говорите моими устами. Это мне следовало по мере возможности примирить вас с мыслью о ненавистном путешествии, напомнив вам о предстоящих удовольствиях, и пока вы ходили к телефону, я как раз и решился сделать эту попытку.
— Это бы значило проповедовать глухому, даже если бы вы без устали твердили, как вы мне завидуете, хотя бы из-за бедер.
— Завидовать? Нет, маркиз, вы не правы. Не зависть толкала меня на эти благожелательные увещания. Да я и не особенный охотник до путешествий. Зачем парижанину пускаться в свет? Свет приходит к нему. К нам в отель, например. А когда в час театрального разъезда я сижу на террасе кафе «Мадрид», то он и вовсе у меня под рукой, вернее — перед глазами. Но не мне вам это расписывать.
— Нет! Но при таком вашем равнодушии вы, право же, напрасно надеетесь внушить мне симпатию к путешествиям.
— Милый маркиз, я все же не откажусь от этой попытки. Как мне иначе доказать свою признатель-
506
ность за ваше доверие? Я уже думал, почему бы вам не взять с собой мадемуазель Заза?
— Невозможно, Круль. Как могла прийти вам в голову эта мысль? Намерения у вас благие, но идеи никуда не годятся. Я уж не говорю о контракте Заза с «Фоли мюзикаль». Контракт можно порвать. Но я не могу путешествовать с Заза и в то же время ото всех таить ее. Да и вообще возить с собой по всему свету женщину, на которой ты не женат, довольно затруднительно. Но, кроме того, я везде буду до известной степени под наблюдением: у моих родителей обширное знакомство, отчасти даже официальное, — и они, конечно, незамедлительно узнают, что я взял с собой Заза и тем самым, с их точки зрения, сделал свое путешествие совершенно бессмысленным. Воображаю, в какое они придут негодование! Первым делом они закроют мне кредит. Далее, согласно их планам, я должен некоторое время погостить в семействе крупных аргентинских скотоводов, с которыми они познакомились на одном из французских курортов. Что ж, прикажете мне чуть ли не на месяц оставить Заза одну в Буэнос-Айресе, подвергая ее всем опасностям и соблазнам тамошней жизни? Нет, ваше предложение не выдерживает критики.
— Я уж и сам так подумал, когда говорил. Беру его обратно.
— Иными словами, оставляете меня в беде. Вы за меня пришли к выводу, что я должен ехать один. Вам легко. А я вот не могу. Я должен ехать, а хочу остаться. Иными словами, я стремлюсь соединить несоединимое — путешествовать и сидеть в Париже. Видно, мне надо раздвоиться — одна часть Луи Веносты отправится в путешествие, а другая будет подле его милой Заза. И самое существенное, чтобы последней был я. Короче говоря, путешествие должно идти параллельно. Луи Веноста должен быть тут и там. Вы следите за ходом моей мысли?
— Пытаюсь, маркиз. Вы хотите сказать, что все это должно иметь такой вид, будто вы путешествуете, на деле же вы не тронетесь с места. — Правильно… До отчаяния правильно.
507
— До отчаяния, потому что у вас нет двойника.
— В Аргентине никто меня в лицо не знает. И я ничего не имею против того, чтобы в чужих краях выглядеть по-другому. Мне даже было бы приятно казаться там авантажнее, чем здесь.
— Следовательно, в путешествие должно пуститься ваше имя, временно присвоенное другому человеку?
— Но, конечно, не первому встречному.
— Само собой разумеется. Тут выбор должен быть произведен самый что ни на есть тщательный.
Он налил себе полный бокал, большими глотками осушил его и с многозначительным жестом поставил на стол.
— Круль, — сказал он, — я уже сделал этот выбор.
— Так быстро? Без должной осмотрительности?
— Да мы уже битый час сидим здесь и разговариваем.
— Мы? Что вы имеете в виду?
— Круль, — повторил он, — я называю вас вашим именем, именем человека из хорошей семьи, от которого, конечно, не легко отказаться даже на время и даже для того, чтобы стать человеком из семьи. Способны ли вы сделать это и таким образом выручить друга из беды? У вас тут сорвалось, что вы не охотник до путешествий. Но нелюбовь к перемене мест — как мало она весит в сравнении с ужасом, который охватывает меня при мысли покинуть Париж! Вот вы сказали, вернее, мы вместе пришли к выводу, что обязательства, возложенного на меня родителями, никто с меня не снимет. А что, если бы вы все-таки сняли его с меня?
— По-моему, милый маркиз, вы сейчас вдались уже в область фантастики.
— Почему? И почему вы говорите о фантастике как о совершенно чуждой вам сфере? С вами все обстоит не совсем обычно, Круль! Я назвал эту необычность интригующей, а потому даже таинственной. Если бы я вместо этого сказал «фантастической» — разве вы рассердились бы на меня?
508
— Нет, потому что вы бы при этом ничего дурного не думали.
— Еще бы! И, значит, вы не можете сердиться ни за то, что невольно натолкнули меня на эту мысль, ни за то, что, пока мы сидели здесь, мой выбор — очень привередливый выбор — пал на вас.
— На меня как на человека, который там, в чужих краях, будет носить ваше имя, в глазах людей будет вами, сыном ваших родителей, не только членом вашей семьи, но именно вами? Продумали ли вы все это так, как это необходимо продумать?
— Там, где я буду, я ведь останусь самим собой.
— Но во внешнем мире вы будете другим, а именно мною. Во мне будут видеть вас. Вы уступаете мне на время самого себя. «Там, где я буду»,— говорите вы. А где вы будете на самом деле? Это ведь становится несколько неопределенным и для меня и для вас. И если для меня это хорошо, то каково будет вам? Вы не боитесь почувствовать себя очень уж неуютно, будучи самим собой лишь на ограниченном пространстве, а во всем остальном мире существуя только во мне и через меня?
— Нет, Круль, — тепло ответил он и через стол протянул мне руку. — Неуютно я себя чувствовать не буду. Для Луи Веносты было бы совсем не худо, если б вы на время уступили ему свое «я» и он, в вашем обличье, разгуливал бы среди людей. Так что ж плохого, если в чужих краях его имя будет связано с вами? У меня есть смутное подозрение, что и другим людям пришлось бы очень по вкусу, если б эта связь была установлена самой природой. Но им остается примириться с тем, что есть, меня же такие причуды действительности ничуть не тревожат. На деле я там, где я с Заза. Вы же мне очень нравитесь как Луи Веноста, путешественник. Я с величайшим удовольствием предстану перед людьми в вашем обличье. Вы отличный малый в обеих своих ипостасях — как джентльмен и как кельнер. Вашим манерам мог бы позавидовать любой дворянин. Вы говорите на нескольких языках, а если речь зайдет о мифологии, что, впрочем, почти никогда не случается, то Гермеса вам
509
хватит за глаза. Большего никто с дворянина и не спрашивает, я бы даже сказал, что бюргеру в этом смысле приходится куда хуже. Учтите это обстоятельство при своем решении. Итак, вы согласны? И я могу рассчитывать на эту величайшую дружескую услугу?
— Но понимаете ли вы, милый маркиз,— сказал я, — что до сих пор мы с вами парили в надзвездных сферах и не обсудили еще ни одной из тех сотен трудностей, которые нам необходимо предусмотреть?
— Вы правы, — отвечал он. — И это, кстати, служит мне напоминанием еще раз позвонить к Заза. Надо предупредить ее, что я задержусь, так как веду переговоры, от которых зависит все наше счастье. Прошу прощенья!
Он ушел и не возвращался дольше, чем в прошлый раз. Сумерки сгустились над Парижем, и терраса была уже давно залита белым светом дуговых фонарей. Она совсем опустела, надо думать, до окончания театров. Я чувствовал, как увядает у меня в кармане билет в Комическую оперу, но даже не обратил внимания на этот печальный процесс, в другое время очень бы меня огорчивший. В голове моей роились встревоженные мысли, и разум, если можно так выразиться, стерег их, призывал к осмотрительности, не позволяя им, хоть это и трудно ему давалось, раствориться в сплошном упоении. Я был рад, что остался один и мог спокойно оценить положение, наперед обдумать многое из того, о чем мне следовало упомянуть в дальнейшем разговоре. Боковая дорожка, счастливое ответвление, пути, на возможность которого мне указал крестный, открылась сейчас передо мной в столь заманчивом виде, что разуму было очень нелегко определить: не заведет ли она меня в тупик? Разум твердил мне, что я вступаю на опасную тропу и что идти по ней можно лишь очень уверенным шагом. Он твердил это весьма настоятельно, но от его настояний только возрастала прелесть будущих приключений, которые потребуют от меня отважного применения всех моих талантов. Храбреца нельзя предостеречь, разъяснив ему, что
510
для данного дела от него потребуется недюжинная храбрость. Я не скрою, что решился ринуться в эту аферу еще задолго до того, как вернулся мой партнер, более того, что решение было принято мною уже тогда, когда я сказал ему, что никто не снимет с него обязательства, которое он взял на себя. В ту минуту меня заботили не столько практические трудности, могущие возникнуть при осуществлении нашего плана, сколько то, что излишняя готовность могла выставить меня перед Веностой в сомнительном и невыгодном свете.
Впрочем, он и без того видел меня в свете достаточно сомнительном; об этом свидетельствовали эпитеты, которые он применял к моему образу жизни: «интригующий», «таинственный», даже «фантастический». Я не строил себе никаких иллюзий насчет того, что не к каждому джентльмену маркиз де Веноста обратился бы с предложением, которым почтил меня, но почтил как-то сомнительно. И все же я не мог забыть теплоту его рукопожатия, когда он заверил меня, что не будет чувствовать себя неуютно, существуя в моем обличье, и говорил себе, что если вся эта затея и есть настоящее плутовство, то он, снедаемый желанием провести своих родителей, более повинен в нем, чем я, хотя на мою долю и выпадает роль куда более активная. Когда он вернулся после телефонного разговора, я еще раз убедился, что эта идея вдохновляет его в значительной мере ради нее самой, то есть ради плутовства как такового. Его детские щеки раскраснелись не только от вина, а в глазах блестело лукавство. В ушах у него, наверно, еще звучал серебристый смех, которым Заза отозвалась на его намеки.
— Милый мой Круль, — начал он, снова подсаживаясь ко мне, — мы с вами всегда были на дружеской ноге, но кто бы еще вчера мог подумать, что мы так сблизимся, сблизимся до неразличимости. То, что мы надумали, или, вернее, еще не совсем надумали, но затеяли, до того забавно, что я чуть не лопаюсь от смеха. А вы, почему вы строите такую серьезную мину? Я взываю к вашему чувству юмора, Круль, к вашей любви к хорошей шутке, до того хорошей,
511
что, право же, стоит потрудиться над ее подробной разработкой, уж не говоря о том, что она идет на пользу любящей чете. Ну, а что вы, третий, остаетесь в накладе, этого вы ведь не станете утверждать. Собственно, вся забавная сторона достанется вам. Разве не так?
— Я не привык смотреть на жизнь как на забавную шутку, милый маркиз. Ветреность не свойственна моему характеру; кроме того, есть шутки, к которым надо относиться с полной серьезностью, иначе не стоит и затевать их[90]. Хорошая шутка получается только тогда, когда в нее вкладываешь всю свою серьезность.
— Отлично. Мы так и поступим. Но вы говорили о каких-то проблемах, трудностях. В чем вы в первую очередь их усматриваете?
— Будет лучше, маркиз, если вы мне разрешите задать вам несколько вопросов. Куда, собственно, вас обязуют ехать?
— Ах, папа с отеческой заботливостью разработал маршрут, очень привлекательный для всех кроме меня: обе Америки, острова Южных морей и Япония, затем интереснейшее морское путешествие в Египет, Константинополь, Грецию, Италию и тому подобное. Словом, путешествие с образовательной целью, точь-в-точь, как в книге, и лучше которого, не будь у меня Заза, я бы не мог себе и представить. Ну, а теперь мне остается только пожелать вам с пользой и удовольствием совершить его.
— А путевые расходы ваш отец берет на себя?
— Разумеется. Он жертвует двадцать тысяч франков, чтобы я путешествовал, как подобает маркизу Веносте. И это не считая железнодорожного билета до Лиссабона и пароходного в Аргентину — это мой первый пункт назначения. Папа самолично позаботился о том, чтобы мне была оставлена каюта на «Кап Аркона». Двадцать тысяч он поместил во французский банк, в форме так называемого циркулярно-кредитного письма, адресованного в банки основных пунктов моего путешествия.
Я выжидал.
512
— Само собой разумеется, что это письмо я вручу вам, — добавил он.
Я по-прежнему молчал. Он пояснил:
— И, конечно, билеты — тоже.
— А на что вы будете жить, — поинтересовался я, — в моем лице растрачивая деньги в чужих краях?
— На что я буду… ах, да! Вы меня просто ошарашили. У вас такая манера задавать вопросы, словно вы нарочно стараетесь ввергнуть меня в смятение. А правда, милый Круль, как же мы это устроим? Я, честное слово, не привык думать, на что я буду жить в следующем году.
— Я только хотел обратить ваше внимание на то, что не так-то просто одолжить кому-нибудь свою личность. Но оставим этот вопрос. Я не хочу принуждать вас к ответу, это уже походило бы на ловкачество, а там, где пахнет ловкачеством, я пасую. Это не gentlemanlike
— Я только полагал, друг мой, что вам удастся перенести известную толику ловкости и сноровки из другого вашего существования в существование джентльмена.
— Оба мои существования связывает нечто куда более прочное: кое-какие сбережения, очень скромный текущий счет…
— Я ни в коем случае не хочу им воспользоваться.
— Мы уж как-нибудь учтем это при наших расчетах. Есть у вас при себе какие-нибудь орудия письма?
Он быстро ощупал свои карманы.
— Да, вечная ручка. Но бумаги — ни клочка.
— У меня есть.
Я вырвал листок из своей записной книжки.
— Мне хотелось бы посмотреть вашу подпись.
— Зачем? Впрочем, как вам угодно. — Сильно склонив влево ручку, он начертал свое имя и пододвинул мне листок. Эта подпись, даже вверх ногами, выглядела очень забавно. Она не кончалась росчерком, а скорее начиналась с него. Нижнее закругление «Л» продолжалось вправо и, описав дугу, возвращалось назад, чтобы, перечеркнув себя, дальше, уже в овале, образовавшемся от этого росчерка, узкими, наклонен-
513
ными влево буквами закончить крестное имя и «маркиз де Веноста». Я не мог удержаться от улыбки, но тем не менее одобрительно кивнул ему.
— Наследственная или собственного изобретения?— спросил я, беря у него из рук вечное перо.
— Наследственная, — отвечал Луи. — Папа расписывается так же, но менее красиво, — добавил он.
— Значит, вы его превзошли, — проговорил я машинально, так как был занят попыткой воспроизвести подпись, которая, кстати сказать, вполне удалась мне.
— Слава богу, мне не вменяется в обязанность превзойти вас. Это было бы даже ошибкой.
Тем временем я изготовил уже и вторую копию, на мой взгляд, менее удачную.
Зато третья опять получилась безукоризненно. Я зачеркнул две первые и подал ему листок. Он оторопел.
— Невероятно! — воскликнул он. — Кажется, будто вы просто свели ее через копирку. А вы еще ничего не хотите слышать о ловкачестве! Но я сам не так уж неловок, как вы думаете, и отлично понимаю смысл ваших упражнений. Вам нужна моя подпись для реализации циркулярно-кредитного письма.
— А как вы подписываетесь в письмах родителям?
Он недоуменно взглянул на меня, но тут же понял.
— Ну, конечно же, я должен время от времени писать старикам, хотя бы открытки. Что за молодчина! Вы обо всем подумали! Дома меня зовут Лулу, потому что я в детстве сам себя так называл. Вот как я это делаю.
Делал он это так же, как и при полной подписи: щеголеватое «Л», затем овал, перекрещивающийся с первой буквой, и внутри его «улу» — косыми буковками, с наклоном влево.
— Хорошо, — сказал я, — с этим мы справимся. Есть у вас при себе хотя бы несколько строк, написанных вашей рукой?
К сожалению, у него таковых не оказалось.
— Тогда напишите, — попросил я, протягивая ему чистый листок бумаги. Пишите: «Mon cher papa1, бес-
514
ценная мама, шлю вам свою благодарность и привет из этого прекрасного города, ставшего весьма значительным этапом моего путешествия. Я упоен новыми впечатлениями и забываю о том, что некогда казалось мне самым важным в жизни. Ваш Лулу». Что-нибудь в этом роде.
— Нет, точно так! Это просто великолепно. Круль, vous êtes admirable!1 Маг и волшебник!
И он слово в слово написал мои фразы прямыми буквами, несколько склоняющимися влево и настолько же тесно прилегающими друг к другу, насколько далеко разбегались буквы у моего покойного отца, но воспроизвести которые было также нетрудно. Образчик я сунул себе в карман. Потом я расспросил его о слугах в замке, о поваре, поварятах, о кучере, которого звали Клосман, о камердинере маркиза, уже одряхлевшем шестидесятилетнем человеке по имени Радикюль и камеристке маркизы Аделаиде; собрал точные сведения даже о домашних животных, верховых лошадях, левретке Фрипон и мальтийской болонке маркизы — Миниме, существе, постоянно страдавшем расстройством пищеварения. Веселость наша возрастала по мере дальнейшего разговора, хотя ясность мысли Лулу и способность трезво оценивать вещи мало-помалу помрачились. Я удивился, почему в его маршруте не предусмотрен Лондон. Оказалось, что Лулу хорошо знал его, ибо провел там два года в качестве ученика частного пансиона.
— Тем не менее, — сказал он, — хорошо бы включить в программу еще и Лондон. Я бы уж сыграл штучку со стариком и в разгар путешествия махнул бы оттуда в Париж к Заза!
— Да вы же не будете с ней разлучаться!
— Верно! — крикнул он.— И это всем штучкам штучка! А я придумал какую-то ерунду, которая с ней и в сравнение не идет. Pardon. От всего сердца прошу прощения. Штучка в том-то и состоит, что я упиваюсь новыми впечатлениями и в то же время остаюсь подле Заза. Подумать только, что я должен соблюдать осто-
515
рожность и не могу отсюда осведомляться о Радикюле, Фрипон и Миниме, но в то же время буду спрашивать о них с Занзибара. Разумеется, это нельзя объединить, хотя объединение двух личностей на большом расстоянии друг от друга и состоится. Послушайте, Круль, ситуация требует, чтобы мы с вами выпили на брудершафт! Надеюсь, вы не против? Когда я разговариваю сам с собой, я тоже не обращаюсь к себе на «вы». Так решено? Выпьем по этому случаю! Твое здоровье, Арман, я хочу сказать — Феликс, или, вернее, Лулу. Запомни, ты не смеешь из Парижа спрашивать, как поживают Клосман и Аделаида, только с Занзибара! Иначе я возьму да и не поеду на Занзибар, а значит, и ты тоже. Но все равно, где бы я в основном ни находился, а из Парижа мне надо исчезнуть. Ты замечаешь, как ясно я мыслю? Нам с Заза надо сматываться; я уж употреблю такое жульническое выражение. Разве мазурики не говорят «сматываться»? Ну, да откуда тебе, джентльмену, а теперь еще вдобавок молодому человеку из семьи, это знать! Надо объявить домовладельцу, что я съезжаю, и то же самое проделать с квартирой Заза. Мы переберемся куда-нибудь в предместье — в Булонь или в Севр, и то, что от меня останется — немало, конечно, ибо этот остаток будет с Заза, — обзаведется другим именем, логика требует, чтобы я назвался Крулем; так или иначе, а мне необходимо изучить твою подпись, надеюсь, что на это ловкости у меня хватит. Там, в Версале или еще где-нибудь подальше, покуда я путешествую, мы с Заза совьем себе гнездышко, жульническое и веселое… Но, Арман, я хочу сказать — дорогой Лулу, — он постарался как можно шире раскрыть свои маленькие глазки, — ответь мне, ради бога, на такой вопрос: на что мы с тобой будем жить? Я отвечал, что, едва затронув этот вопрос, мы уже разрешили его. У меня имеется банковский счет на двенадцать тысяч франков, который я и предоставляю в его распоряжение в обмен на кредитное письмо. Маркиз был тронут до слез.
— Джентльмен! — воскликнул он. — Джентльмен с головы до пят! Если не ты, то я уж и не знаю, кто
516
имеет право передавать привет Миниме и Радикюлю! Наши родители с восторгом передадут тебе от них ответный поклон. Последний бокал за джентльменов, которыми мы с тобой являемся!
Наша встреча здесь наверху так затянулась, что мы пересидели часы затишья. Поднялись мы, только когда уже спустилась легкая, теплая ночь и терраса вновь начала наполняться народом. Несмотря на мои протесты, он оплатил оба обеда и четыре бутылки лафита.
— Вместе, считайте все вместе! — крикнул он метрдотелю. — Мы одно существо в двух лицах. Наше имя Арман де Крулоста!
— Слушаюсь, — отвечал метрдотель с всепрощающей улыбкой, которая тем легче далась ему, что на чай он получил сумму поистине неимоверную.
Веноста довез меня в фиакре до моего квартала. По дороге мы условились относительно новой встречи, когда я должен был вручить ему свои наличные деньги, а он мне свое кредитное письмо и оба билета.
— Bonne nuit, à tantôt, monsieur le marquis!1 — воскликнул он с хмельной веселостью, пожимая мне руку. Я впервые услышал из его уст это обращение, и от мысли о единстве реальности и видимости, которую мне даровала жизнь, претворившая видимость в реальность, меня обдало холодком восторга.
Как жизнь изобретательна, как она умеет осуществлять наши детские мечты, делать их из расплывчатых и туманных, твердыми и осязаемыми! Разве моя мальчишеская фантазия не предвосхитила очарования инкогнито (которое я теперь вкушал, в течение нескольких дней продолжая выполнять обязанности кельнера) еще в ту далекую пору, когда никто и понятия не имел о том, что я принц Карл? Забавная и сладостная пора! Теперь она стала действительностью
517
в той мере и степени, в какой я на целый год — о том, что будет по окончании этого срока, я старался не думать— становился обладателем дворянской грамоты маркграфа! Упоительное сознание! Я наслаждался им от минуты пробуждения до самой ночи и снова так, что никто из окружающих в доме, где я играл роль кельнера в голубом фраке, ровно ни о чем не подозревал.
Снисходительный читатель! Я был очень счастлив. Я ценил и любил в себе светскую манеру, которая себялюбию сообщает видимость любви к окружающим. Какого-нибудь дурня это тайное сознание, возможно, заставило бы выказывать непокорство и дерзость в отношении вышестоящих и чванливое недружелюбие к малым сим. Я же никогда еще не был так обаятельно учтив с посетителями ресторана; голос мой, когда я говорил с ними, никогда не звучал так мягко и сдержанно; с теми же, кто считал меня за «своего брата», — с коллегами кельнерами и товарищами по дортуару на верхнем этаже, — я никогда не был столь весел и мил, как в те дни, для меня окрашенные прелестью тайны и пронизанные улыбкой, которая, впрочем, скорее ее стерегла, чем выдавала; стерегла, хотя бы уж из чистого благоразумия, ибо, как знать, разве не могло случиться, что носитель «моего» нового имени на следующее утро, протрезвев и образумившись, пожалел о нашем уговоре и решил от него отказаться. Я был достаточно осторожен, чтобы с бухты-барахты не бросать работы у моих хлебодателей; хотя, собственно, серьезных оснований для тревоги у меня не было. Очень уж радовался Веноста найденному — впрочем, найденному сначала мною, а потом уже им — разрешению вопроса, а притягательная сила Заза была мне порукой неизменности побуждений маркиза.
Я не обманулся. Наш торжественный сговор имел место десятого июля, а следующая, уже заключительная встреча должна была состояться не ранее двадцать четвертого. Но мы свиделись уже семнадцатого или восемнадцатого, так как он со своей подругой пришел обедать в «Сент-Джемс» и, осведомившись
518
о том, не передумал ли я, подтвердил непоколебимость своего решения.
— Nous
persistons, n’est-ce pas?1
— прошептал он, когда я ставил перед ним тарелку, на что я ответил столь же
решительным, сколь и дискретным: — C’est
entendu2.
Я служил ему с почтительностью, собственно говоря, скорее
свидетельствовавшей о самоотвержении, и несколько раз из благодарности величал
Заза, которая не удержалась от того, чтобы лукаво не подмигнуть мне, «madame la marquise».
После этого я, уже не боясь совершить легкомысленный
поступок, объявил мсье Махачеку, что семейные обстоятельства вынуждают меня не
позднее первого августа покинуть службу. Он об этом и слышать не хотел,
говорил, что я просрочил время для предупреждения, что он не может без меня
обойтись, что после такого самовольного ухода меня уже никто не возьмет на
работу, грозился не заплатить мне жалованья за текущий месяц и так далее.
Достиг он этим только того, что я, притворившись, будто он пронял меня своими
доводами, почтительно ему поклонился, но про себя решил уйти из «Сент-Джемса»
еще до первого числа, то есть немедленно. Ибо если мне и казалось, что время до
начала моего нового и высшего существования тянется нестерпимо долго, то на
самом деле его уже оставалось в обрез для подготовки к путешествию и приобретению
гардероба, соответствующего моему новому положению в свете. Я твердо знал:
пятнадцатого августа мой пароход «Кап Аркона» выходит из лиссабонской гавани —
и решил, что еще за неделю до того должен прибыть в столицу Португалии, из чего
читатели видят, как я был ограничен в сроках для приготовлений и покупок.
Обо всем этом я тоже договорился с путешественником-домоседом, когда после перевода моего наличного капитала на его, вернее, на мое имя, я, уже живший в те дни в своей частной комнате, посетил его
519
хорошенькую трехкомнатную квартирку на улице Круа де Пти Шан. Из отеля я ушел в тихий предутренний час, с презрением оставив там свою ливрею и нимало не сокрушаясь о пропавшем жалованье за последний проработанный мною месяц. Мне потребовалось известное усилие воли, чтобы назвать лакею, отворившему дверь у Веносты, свое изношенное, давно уже опротивевшее мне имя, и утешило меня только сознание, что я называюсь им в последний раз. Луи встретил меня с шумливой приветливостью и первым делом вручил мне циркулярно-кредитное письмо, столь необходимое для нашего путешествия: сложенный вдвое лист, одна часть которого являлась собственно денежным документом, то есть подтверждением банка, что путешествующий клиент имеет право востребовать любую сумму, не превышающую указанной в документе; на второй имелся список корреспондирующих банков в городах, которые намеревался посетить получатель. В книжечке имелось и место для образца подписи последнего, уже заполненное Луи все в той же легко усвоенной мною манере. Затем он передал мне не только билеты до Лиссабона и далее до Буэнос-Айреса, но — славный малый — еще и прощальные подарки: плоские золотые часы с ремонтуаром, к ним изящную платиновую цепочку, а также черную шелковую chatelaine для вечернего костюма с выгравированными золотом инициалами Л. д. В. и еще одну золотую цепочку со спичечницей, ножичком, карандашом и миниатюрным золотым портсигаром, которая по тогдашней моде тянулась из-под жилета в задний карман брюк. Все это было очень мило, но затем наступил поистине торжественный момент, когда он надел мне на палец заказанную им точную копию своего кольца-печатки с выгравированным на малахите фамильным гербом — ворота замка с грифами и сторожевыми башнями по бокам. Этот акт, это пантомимическое «будь, как я» живо напомнили мне знакомые каждому ребенку истории с переодеванием и достижением высокого сана, так что я почувствовал себя взволнованным до глубины души. Но глазки Лулу смеялись плутоватее, чем обычно, свидетельствуя
520
о том, что он не намерен упускать ни одной подробности этой шутки, которая сама по себе, независимо даже от цели, ею преследуемой, безмерно его забавляла.
Мы обсудили еще многое, выпив при этом не одну рюмочку
бенедиктина и куря превосходные египетские сигареты. Вопрос о почерке его
больше ни в какой мере не заботил, но он очень одобрил мое намерение пересылать
ему с дороги по новому, уже установленному адресу (Севр, Сена и Уаза, улица
Бранка) письма, которые будут приходить ко мне от родителей, чтобы я мог уже от
него, пусть с опозданием, узнавать кое-какие подробности из жизни семьи или
знакомых; все их предусмотреть заранее, конечно, не представлялось возможным. Затем
его осенило, что он ведь как-никак художник, а значит, и мне хотя бы время от
времени придется что-то писать или зарисовывать. И как же я, n
— Не стоит унывать из-за таких пустяков, — сказал я и попросил у него альбом, в котором на грубой бумаге то мягким карандашом, то мелом было набросано несколько ландшафтов, женских головок и эскизов полуобнаженной или обнаженной натуры, для которых ему явно сидела, или, вернее, лежала, Зазта. Что касается набросков головок, выполненных, я бы сказал, с не совсем оправданной смелостью, то он сумел придать им известное сходство — не слишком большое, но все же. Зато ландшафты маркиза отличались совсем уж бесконтрольной призрачностью и расплывчатостью очертаний, объяснявшейся, впрочем, довольно просто: все линии, едва намеченные, были вдобавок еще подчищены и, если можно так выразиться, втерты одна в другую; было то художественным приемом или шарлатанством, этого я решать не берусь, но зато я тотчас решил, что как бы там это кропанье ни называлось, а я сумею сделать не хуже. Я попросил у него мягкий карандаш и палочку с почерневшим от долгого употребления фетровым наконечником, при помощи которой он сообщал нездешнюю таинственность
521
своей продукции, и, несколько секунд поглядев в пустоту, довольно-таки неумело изобразил сельскую церковь и рядом с ней наклоненные бурей деревья, причем я уже во время работы при помощи фетрового наконечника сообщил этой детской мазне отпечаток гениальности. Луи несколько опешил, когда я показал ему свое творение, но в то же время обрадовался и поспешил заверить меня, что я могу, не робея, называть себя художником.
К чести его надо сказать, что он от души сокрушался над тем, что у меня уже не оставалось времени съездить в Лондон и заказать себе у его поставщика, знаменитого портного Поля, необходимые костюмы, фрак, визитку, cutaway1 и к нему брюки в узенькую полоску, а также темные и светло-синие куртки, и был приятно поражен тем, как точно я знал, что из полотняного и шелкового белья, всевозможной обуви, шляп и перчаток мне нужно еще приобрести для достойной экипировки. Многое я успел купить в Париже, и хотя мне следовало бы еще заказать здесь несколько костюмов, я решил не затевать этой канители на том приятном основании, что всякий более или менее сносный готовый костюм сидел на мне как изделие первоклассного портного.
Приобретение кое-каких мелочей, а главное — белого тропического гардероба, я решил отложить до Лиссабона. Веноста вручил мне для последних парижских покупок еще несколько сот франков из денег, которые родители оставили ему в качестве «подъемных», и к ним добавил сотню-другую из полученного от меня капитала. В силу свойственной мне порядочности я обещал вернуть ему эти деньги из своих дорожных сбережений. Он еще передал мне свой альбом, карандаши и палочку с фетровым наконечником, а также коробку визитных карточек с нашим именем и его нынешним адресом; затем мы обнялись, покатываясь со смеху; он похлопал меня по спине, пожелал мне как можно полнее насладиться новыми впечатлениями и отпустил меня в широкий мир.
522
Еще две недели с небольшим, благосклонный мой читатель, и я уже катил навстречу этому миру в украшенном зеркалами одноместном купе норд-зюйд-экспресса; приятно было в отлично выутюженном костюме из английской фланели и в лакированных ботинках со светлыми гетрами, закинув нога за ногу, расположиться на сером плюшевом диване и, прислонившись головой к кружевным антимакассарам на его удобной спинке, смотреть в окно. Свой туго набитый сундук я сдал в багаж, ручные чемоданы из телячьей и крокодиловой кожи с монограммами Л. д. В. и девятизубчатой короной лежали в сетке у меня над головой.
Мне не хотелось что бы то ни было делать, даже читать. Сидеть и быть тем, кем я был, — можно ли придумать что-нибудь лучше? Лирическая нега овладела моей душой, но не прав будет тот, кто подумает, что это счастливое состояние было вызвано исключительно или преимущественно тем, что я сделался столь знатной персоной. Нет, изменение и обновление моего поношенного «я», возможность сбросить с себя надоевшую мне оболочку и влезть в новую — вот что переполняло меня счастьем. И тут мне пришло в голову, что такая перемена бытия не только чудодейственно освежает, но еще и дарит меня радостным забвением, ибо теперь мне надо было изгнать из памяти все воспоминания, связанные с жизнью, которой я больше не жил. Сидя здесь, я уже не имел на них права; и, сказать по правде, то была небольшая потеря. Мои воспоминания? Нет, нет, совсем не потеря то, что они уже не мои. Трудновато только, пожалуй, заменить их теми, которые мне сейчас подобали, ибо этим последним недоставало точности. Странное ощущение ослабевшей, я бы даже сказал, опустевшей памяти охватило меня в моем роскошном уголке. Я обнаружил, что ничего не знаю о себе, кроме того, что мое детство прошло в Люксембургском замке, и лишь два-три имени вроде Радикюля и Миними сообщали известную реальность новому моему прошлому.
Более того, чтобы представить себе замок, в стенах которого я вырос, я должен был призывать на
523
помощь изображения английских замков на фарфоровых тарелках, с которых некогда, во времена моего низменного существования, я счищал остатки, а это уже походило на недопустимое вторжение отринутых воспоминаний в те, что отныне мне подобали.
Вот мысли и соображения, роившиеся в мозгу мечтателя под торопливый ритмический стук поезда, и, надо сказать, мысли, отнюдь не неприятные. Напротив, мне казалось, что эта внутренняя пустота, эта расплывчатая неопределенность воспоминаний в своей меланхолии наилучшим образом сочетается с моим видным общественным положением, и я даже был доволен, что все это находит свое отражение в моем взгляде — задумчиво-мечтательном, слегка тоскливом взгляде аристократа.
Поезд вышел из Парижа в шесть часов. Когда сумерки сгустились и в вагоне зажегся свет, мое купе показалось мне еще элегантнее. Кондуктор, человек уже в летах, тихонько постучавшись, спросил разрешения войти и, получив таковое, почтительно приложил руку к фуражке; возвращая билет, он снова откозырял. Этому славному человеку, на лице которого были написаны честность и добропорядочность, при исполнении своих обязанностей приходилось соприкасаться с представителями самых различных слоев общества, в том числе с подозрительными элементами, и сейчас ему было приятно приветствовать в моем лице благовоспитанного аристократа, самый вид которого производит облагораживающее действие. И, право, этому кондуктору уже нечего было тревожиться о моей участи, когда я перестану быть его пассажиром. На сей раз и я вместо участливых расспросов о его семейном положении только благосклонно ему улыбнулся и кивнул сверху вниз; он же, как человек консервативных взглядов, от такой милости, надо думать, преисполнился преданности, граничащей с готовностью защищать меня собственной грудью. Официант, разносивший билетики на обед в вагон-ресторане[91], тоже дал знать о себе деликатным стуком в дверь. Я взял у него номер, и, так как вскоре
524
уже зазвонил гонг, возвещавший начало обеда, то я, чтобы немного освежиться, вынул из сетки свой несессер, изобилующий самыми различными дорожными принадлежностями, поправил галстук перед зеркалом и пошел по вагонам в ресторан, где корректнейший метрдотель гостеприимным жестом тотчас же пододвинул мне стул.
За этим же столиком усердствовал над закуской пожилой господин изящного сложения, несколько старомодно одетый (насколько мне помнится, на нем был высокий стоячий воротничок), с седоватой бородкой, который в ответ на мое учтивое «добрый вечер» поднял на меня свои звездные глаза. В чем была эта «звездность», я сказать затрудняюсь. Может, быть, его зрачки были особенно светлы, излучали мягкое сияние? Конечно, но разве поэтому я назвал его взгляд «звездным»? Ведь, когда мы говорим, к примеру, о радужной оболочке глаза — это звучит привычно и является обозначением физиологическим, сказать же, что у человека радужный взор, — уже оценка его морального своеобразия; так обстояло дело и с его звездными глазами. Взгляд их не сразу от меня оторвался; этот взгляд, пристально следивший за тем, как я усаживался, и державший в плену мой взгляд, поначалу, собственно, не выражал ничего кроме добродушной серьезности, но вскоре в нем блеснула какая-то одобрительная, вернее, поощряющая улыбка, сопровожденная легкой ухмылкой рта над бородкой. Пожилой господин ответил на мое приветствие с большим опозданием, когда я уже сел и взялся за меню. Получилось, как будто я пренебрег этой необходимой учтивостью и звездоглазый наставительно опередил меня. Поэтому я непроизвольно повторил:
— Bon soir, monsieur1.
Он же дополнил свой взгляд словами:
— Желаю вам приятного аппетита. — И еще добавил: — Впрочем, ваша молодость неоспоримо свидетельствует о наличии такового.
525
Думая про себя, что человек со звездными глазами может позволить себе роскошь вести себя несколько необычно, я ответил ему улыбкой и легким наклонением головы, хотя мое внимание в этот миг уже сосредоточилось на сардинах и салате, которые мне подали. Мне хотелось пить, я заказал бутылку эля, и мой седобородый визави, не убоявшись упрека в непрошеном вмешательстве, снова выразил мне свое одобрение.
— Весьма разумно, — сказал он. — Весьма разумно пить вечером крепкое пиво. Пиво успокаивает и помогает заснуть, тогда как вино обычно действует возбуждающе и разгоняет сон, кроме тех случаев, когда уж очень сильно нальешься.
— Это совсем не в моем вкусе!
— Я так и думал. В общем, нам ничто не помешает по желанию продлить свой ночной отдых. В Лиссабоне мы будем только около полудня. Или вы едете не до конца?
— Нет, я еду до Лиссабона. Надо признаться, это долгий путь.
— Вероятно, вы впервые совершаете столь длинное путешествие?
— Расстояние от Парижа до Лиссабона, — сказал я, уклоняясь от прямого ответа, — лишь ничтожное расстояние по сравнению с тем, которое мне предстоит покрыть.
— Смотрите-ка!— воскликнул он шутливо, делая вид, что поражен моими словами. — Вы, значит, намерены всерьез проинспектировать нашу звезду и ее нынешнее население?
В сочетании со своеобразием его глаз то, что он назвал землю[92] звездой, показалось мне особенно странным. А слово «нынешнее» применительно к «населению» сразу пробудило во мне ощущение большого, неизмеримого пространства. Кроме того, в его манере говорить и в мимике было что-то от разговора взрослого с ребенком, пусть смышленым, но ребенком, что-то мягкое и дразнящее. Зная, что я выгляжу еще моложе своих лет, я на это не обиделся.
526
Он отказался от супа и праздно сидел напротив меня, только время от времени наливая себе в стакан виши, что ему приходилось проделывать очень осторожно, так как вагон сильно качало. Занятый едой, я на минуту удивленно поднял глаза от тарелки, но не стал вдумываться в его слова. Он же, видимо, не желая, чтобы разговор иссяк, начал снова:
— Итак, сколь бы далекий путь вам ни предстоял, к началу его не надо относиться легкомысленно только из-за того, что это начало. Вы приедете в очень интересную страну, с большим прошлым, страну, которой обязаны благодарностью все любители путешествий, ибо в давние времена много путей было открыто ею. Лиссабон (надеюсь, вы не ограничитесь только беглым его осмотром) был некогда богатейшим городом мира, благодаря своим первооткрывателям; жаль, что вы не побывали в нем пять веков назад, он бы предстал перед вами окутанный благоуханиями заморских пряностей, лопатами загребающий золото. Увы, история значительно уменьшила его далекие и прекрасные владения. Но страна и люди — вы в этом сами убедитесь — остались обаятельными. Я говорю о людях, потому что в любостранствии заложена немалая доля тоски по неведомой человечности, страстного желания заглянуть в чужие глаза, в чужие лица, порадоваться иной стати, иным обычаям и нравам. Так это или не так, по-вашему?
Что мне было ему ответить? Я согласился с его суждением и с тем, что любостранствие в конечном счете лишь своего рода любознательность.
— В стране, которую вы завтра увидите, — продолжал он, — вам встретится весьма занятное своей пестротой смешение рас. Смешанным, как вам, конечно, известно, было еще коренное население Португалии — иберийцы и кельты. А в течение двух тысячелетий финикийцы, карфагеняне, римляне, вандалы, свевы и вестготы, но главным образом арабы, мавры, немало потрудились, чтобы создать тот тип, который вы увидите, с весьма привлекательным добавлением негритянской крови, крови чернокожих рабов, кото-
527
рых во множестве ввозила Португалия, когда еще владела всем африканским побережьем. Поэтому не удивляйтесь известной специфичности волос, губ и меланхолическому животному взгляду, характерному для тамошних жителей. Но решительно преобладающим типом, вы сами это увидите, является мавританско-берберийский, еще со времен так долго длившегося арабского господства. Из всего этого произросла не слишком мощная, но очень приятная порода людей: темноволосая, с чуть желтоватой кожей и довольно изящного сложения, с умными, красивыми карими глазами…
— Я буду очень рад все это увидеть, — сказал я и добавил: — Разрешите спросить, сами вы тоже португалец?
— Нет, нет, — отвечал он, — но я уже давно осел в Португалии. И в Париж ездил сейчас лишь на краткий срок, по делам, по служебным делам. Что бишь я хотел сказать? Ах, да, немного осмотревшись, вы обнаружите арабско-мавританское начало и в архитектуре, притом во всех городах. Что касается Лиссабона, то считаю долгом вас предупредить, что он очень беден историческими памятниками. Вы же знаете, этот город расположен в сейсмическом центре, и одно только страшное землетрясение прошлого столетия на две трети разрушило его. Теперь это, впрочем, опять весьма нарядная столица со множеством достопримечательностей, так что я даже не знаю, на какую из них указать вам в первую очередь. Пожалуй, прежде всего вам следует посетить наш ботанический сад на западной возвышенности. В Европе нет ему равных, так как в этом климате тропическая флора произрастает наравне с флорой средней полосы. Он изобилует араукариями, бамбуком, папирусом, юкками и всевозможными пальмами. Но этого мало, там вы увидите деревья, которые, собственно, не принадлежат к современной растительности нашей планеты, а именно — древовидный папоротник. Пойдите туда сейчас же по приезде и взгляните на это растение каменноугольного периода. Это вам не коротенькая история культуры, это древность самой Земли.
528
Меня опять охватило ощущение беспредельных пространств, которое его слова уже однажды у меня вызвали.
— Конечно, я немедленно туда отправлюсь, — заверил я.
— Вы уж простите, — счел он необходимым добавить, — что я навязываюсь вам со своими указаниями и как бы пытаюсь руководить вами. Но знаете, что я вспоминаю, глядя на вас? Морскую лилию.
— Это звучит более чем лестно.
— Потому что кажется вам названием цветка. Но морская лилия не цветок, а неподвижное животное морских глубин, относящееся к семейству иглокожих, да еще к самой древней его группе. Мы знаем множество таких окаменелостей. Эти неподвижные радиально-симметричные животные обычно имеют форму цветка или звезды. Нынешняя морская звезда, потомок морской лилии, только в молодости сидит на своем стебле в грунте. Позднее она освобождается, эмансипируется и плавает или ползает вдоль берегов. Простите меня, ради бога, за эту ассоциацию, но мне подумалось, что вы, подобно морской лилии, оторвались от стебля и отправились в инспекционную поездку. А давать советы путешественнику неофиту, право же, очень соблазнительно. Впрочем: Кукук.
На мгновение я подумал, что с ним что-то неладно, но тут же понял: будучи намного старше меня, он тем не менее первый мне представился.
— Веноста, — поспешил я с ответным представлением и отвесил ему несколько кривой поклон, так как в этот момент мне слева подали рыбу.
— Маркиз Веноста? — переспросил он, слегка вздернув брови.
Я это подтвердил, но тоном почти что уклончивым. — Люксембургской линии, я полагаю? Я имею честь быть знакомым с одной из ваших тетушек в Риме, графиней Паолиной Чентурионе, урожденной Веноста, итальянской линии, которая, как известно, в свойстве с венским семейством Чешенис и с Эстергази из Таланты. У вас, господин маркиз, где только нет кузенов и свойственников. Не удивляйтесь моей
529
осведомленности, генеалогия и происхождение видов — мой конек, вернее, моя профессия. Профессор Кукук, — пояснил он в дополнение к своей фамилии, уже названной ранее. — Палеонтолог и директор Естественно-исторического музея в Лиссабоне, института, пока еще не пользующегося широкой известностью, основателем которого я являюсь.
Он достал из кармана бумажник и подал мне свою визитную карточку: я вынужден был сделать то же самое и протянул ему свою, то есть одну из тех, которыми меня снабдил Лулу. На карточке Кукука я прочитал его крестное имя — Антонио Хосе, —титул, должность и домашний адрес в Лиссабоне. Что касается палеонтологии, то по разговорам Кукука я уже начал догадываться о его причастности к этой науке.
Оба мы прочитали карточки с одинаковым выражением почтительности и удовольствия и затем, обменявшись благодарственными кивками, засунули их в бумажники.
— Могу только сказать, господин профессор, — учтиво добавил я, — что мне очень повезло с выбором столика в вагон-ресторане.
— Я, со своей стороны, думаю то же самое, — отвечал он.
До сих пор мы беседовали по-французски. Теперь он спросил:
— Надо думать, что вы владеете немецким языком, маркиз Веноста? Ваша матушка, насколько мне известно, родом из Кобург-Готы, кстати сказать, и моего отечества. Урожденная баронесса Плеттенберг, если не ошибаюсь? Как видно, мне многое о вас известно. Итак, мы можем…
И как это Луи позабыл проинформировать меня, что его мать — урожденная Плеттенберг! Ну что ж, эта новость могла послужить обогащению моей памяти.
— Весьма охотно, — отвечал я, по его желанию переходя на другой язык. — Конечно же, я в детстве с утра до вечера болтал по-немецки, и не только с мамой, но еще и с нашим кучером Клосманом!
530
— А я, — возразил Кукук, — почти совсем отвык от своего родного языка и с наслаждением воспользуюсь случаем снова к нему приобщиться. Мне сейчас пятьдесят семь лет; в Португалию я приехал двадцать пять лет назад. В жилах моей жены, урожденной да Круц, течет кровь исконных жителей Португалии, а они, если уж приходится говорить на чужом языке, немецкому всегда предпочитают французский. Наша дочка, несмотря на нежные чувства, которые она ко мне питает, в этом смысле тоже не идет навстречу своему папе и наряду с португальским предпочитает очаровательно болтать по-французски. Да и вообще она очаровательное дитя. Мы ее зовем Зузу.
— А не Заза?
— Нет, Зузу. От Сюзанны. А Заза — от какого же это имени?
— Честное слово, не знаю. Уменьшительное Заза случайно встретилось мне в артистических кругах.
— Вы вращаетесь в артистических кругах?
— Да, и в артистических. Я сам несколько причастен к искусству, занимаюсь живописью, графикой. Мой учитель — профессор Эстомпар, Аристид Эстомпар из Академии изящных искусств.
— О, ко всему вы еще и художник, очень приятно.
— А вы, господин профессор, вероятно, ездили в Париж по делам вашего музея?
— Вы угадали. Целью моей поездки было получение в зоопалеонтологическом музее нескольких очень важных для нас частей скелета, черепа, ребер и предплечья давно вымершего вида тапиров, от которых, пройдя через множество ступеней развития, происходят наши лошади.
— Как? Лошадь происходит от тапира?
— И от носорога. Да, да, ваша верховая лошадь, господин маркиз, прошла самые разнообразные стадии развития. Одно время, уже будучи лошадью, она имела лилипутские размеры. О, у нас имеется множество ученых названий для всех ее ранних и первобытных форм, названий с корнем «hippos», «конь», 34* S
531
начиная с «Eohippos» — этого родоначальника, тапиров, жившего в эпоху эоцена.
— Эоцена? Обещаю вам, профессор Кукук, запомнить это слово. Когда началась эта эпоха?
— Недавно. Это уже новые времена земли[93]; нас отделяет всего несколько сот тысячелетий от поры возникновения непарнокопытных. Вам как художнику будет интересно узнать, что у нас работают специалисты, крупные мастера своего дела, которые по найденным скелетам наглядно и живо реконструируют вымершие виды животных, а также и первобытного человека.
— Человека?
— Да, также и человека.
— Человека эпохи эоцена?
— Ну, тогда вряд ли существовал человек. Нельзя не признать, что его возникновение для нас все еще несколько туманно. Науке точно известно только, что его развитие завершилось значительно позднее, вместе с развитием млекопитающих. Посему человек, такой, каким мы его знаем, — существо позднейшего происхождения и библейский генезис правильно видит в нем вершину творения. Только что по библии этот процесс носит несколько скоропалительный характер. Органическая жизнь на земле, по самому скромному счету, существует пятьсот пятьдесят миллионов лет. Прежде чем возник человек, надо признаться, прошло немало времени.
— Я потрясен тем, что вы рассказываете, профессор.
Я не лгал. Я действительно был потрясен и захвачен уже с первой минуты, и чем дальше, тем больше. Я с таким напряженным интересом вслушивался в слова этого человека, что почти позабыл о еде. Передо мной ставили металлические блюда под колпачками, я что-то накладывал себе на тарелку, даже подносил кусок ко рту, но, прислушиваясь к словам Кукука, забывал положить его в рот, челюсти мои не двигались, нож и вилка оставались праздными у меня в руках, а я все смотрел в его лицо, в его звездные глаза. Не знаю даже, как определить жад-
532
ность, с которой моя душа впитывала все, что он говорил, от первого до последнего слова. Не слушай я его с таким неотступным вниманием, разве мог бы я еще сегодня, после стольких лет, воспроизвести эту застольную беседу почти дословно в основных ее пунктах? Да что там, совсем дословно! Он говорил о любопытстве и новолюбии как существеннейшем ингредиенте любостранствия, и уже в этих его словах, насколько мне помнится, для меня прозвучало что-то странно волнующее, всего меня перебудоражившее. И вот это треволненье чувств, это затрагиванье потаеннейших фибр моего существа по мере того как он говорил и рассказывал перерастало в хмельную безмерную завороженность, хотя сам рассказчик все время оставался спокойным, суховатым, сдержанным, а иногда на его губах даже мелькала улыбка…
— Предстоит ли ей, то есть жизни, еще такой же долгий срок, как тот, который она уже оставила позади себя, этого сказать никто не может. Правда, цепкость ее неимоверна, особенно на низших ступенях развития. Ведь споры некоторых бактерий в течение полугода выдерживают довольно-таки неуютную температуру мирового пространства — минус двести градусов — и остаются живы.
— Это поразительно!
— И тем не менее возникновение и продолжение жизни связано с определенными и достаточно строго ограниченными условиями, которые не всегда имелись и не всегда будут иметься налицо. Время обитаемости звезды лимитировано. Она не всегда порождала жизнь и не всегда будет ее порождать. Жизнь — это эпизод и в масштабе эонов эпизод весьма кратковременный.
— Это меня тем более привязывает к таковой, — сказал я. Слово «таковая» я употребил просто от волнения и потому, что мне хотелось в этом случае выразиться книжно, сугубо интеллигентно. — Существует такая песенка, — добавил я в пояснение, — «Радуйся жизни, друг, гаснет лампады свет!» Я ее слышал еще в детстве и всегда любил, но после ваших
533
слов о «кратковременном эпизоде», она, конечно, приобретает куда более растяжимое значение.
— А как заторопилось органическое, — продолжал Кукук, — развивать свои виды и формы, словно зная, что лампада не вечно будет гореть. И прежде всего это относится к ранней его поре. В кембрии растительный мир еще очень скуден: морские водоросли — ничего другого там не встретишь. Жизнь, да будет вам известно, берет свое начало из соленой воды, из теплого океана. Но животный мир с самого начала представлен там не только одноклеточными животными, но и устрицами, червями, иглокожими, — иначе говоря, всеми видами, за исключением позвоночных. Похоже, что из пятисот миллионов лет понадобилось всего около пятидесяти миллионов, для того чтобы позвоночные вышли из воды на сушу, местами тогда уже возникшую. Тут уж эволюция и разветвление видов пошли в таком темпе, что через двести пятьдесят миллионов лет Ноев ковчег был до отказа набит всякой тварью, включая и пресмыкающихся; не существовало в ту пору еще только птиц и млекопитающих. И все это благодаря единственной идее, которую в изначальные времена возымела природа и которой она неотступно орудовала вплоть до человека…
— Умоляю вас, поясните же мне эту идею.
— О, это всего-навсего идея сосуществования клеток. Наитие — не оставлять в одиночестве прозрачно-слизистый комочек прасущества, элементарного организма, а сначала из немногих, позднее же из миллионов и миллионов таковых создавать высшие формы жизни — многоклеточное животное, крупные особи, состоящие из плоти и крови. То, что мы зовем плотью, а религия уничижительно именует слабостью, греховностью, причастностью греху, — не что иное, как такое вот скопление органически слаженных малых особей, иначе — многоклеточная ткань[94]. С подлинным рвением осуществляла природа свою единственную, свою основную идею, иногда даже с чрезмерным. Несколько раз она при этом впадала в излишества и потом каялась в них. Так, уже создав млекопитающих, она допустила такую избыточность жизни, как кит величи-
534
ной с два десятка слонов, — чудовище, которое не продержишь и не пропитаешь на земле, — и отослала его обратно в море, где оно теперь, гигант с недоразвитыми задними конечностями, плавниками и маслянистыми глазками, вряд ли себе на радость служит добычей китобойной промышленности, в неудобном положении питает молоком своих детенышей и заглатывает мелких рачков. Но еще много раньше, в начале средних веков земли, в триасовый период, задолго до того как первая птица прорезала крыльями воздух или дерево распушило свою листву, существовали чудовищные пресмыкающиеся, динозавры — мальцы уже совсем неподобающих размеров. Такой индивид, высотой с высоченный зал и длиной с железнодорожный состав, весил сорок тысяч фунтов. Шея у него была точно пальма, а голова по сравнению с таким туловищем — до смешного маленькая. Это непомерно разросшееся тело, надо думать, отличалось беспримерной глупостью, впрочем и добродушием, свойственным беспомощности.
— Следовательно, он был не так уж грешен, несмотря на преизбыток плоти.
— Да, по глупости… Что мне еще сказать вам об этом самом динозавре? Пожалуй, вот что: у него была склонность передвигаться в вертикальном положении.
И Кукук обратил на меня свои звездные глаза, под взглядом которых я ощутил нечто похожее на замешательство.
— Да, — сказал я с деланной небрежностью, — на Гермеса эти господа, передвигающиеся в вертикальном положении, не очень-то походили.
— Почему вы вдруг вспомнили о Гермесе?
— Прошу прощения, но в моем детстве мифологии уделялось исключительное внимание. Учитель, проживавший у нас в замке Монрефюж, питал к ней такое пристрастие…
— О, Гермес! Элегантное божество. Я не пью кофе, — бросил он кельнеру, — принесите мне еще бутылку виши. Элегантное божество, — повторил он. — И сложения пропорционального, не слишком велик, не
535
слишком мал, самых человеческих масштабов. Некий древний зодчий говорил, что тот, кто хочет возводить здания, прежде всего должен познать совершенство человеческого тела, ибо в нем глубочайшая тайна пропорций. Поборникам мистической относительности угодно утверждать, что человек, а следовательно и бог, созданный по его подобию, — по росту является серединой между миром титанов и пигмеев. Согласно их теории, наибольшее материальное тело вселенной — красная звезда-гигант — настолько же больше человека, насколько мельчайшая частица атома — нечто, долженствующее в диаметре быть увеличенным в сотни биллионов раз, чтобы стать видимым,— меньше его.
— Вот и выходит, что бесполезно передвигаться в вертикальном положении[95], если в тебе не соблюдены пропорции.
— Весьма продувным малым, если верить преданиям, — продолжал мой сотрапезник, — должен был быть ваш Гермес с его эллинской пропорциональностью: посему клеточная ткань его мозга, если у бога позволительно предположить наличие такового, должно быть, имела особенно затейливые формы. Но если представить себе того же Гермеса не из мрамора, гипса или амброзии, но как живую человеческую плоть, то и у него мы обнаружим множество пережитков природной древности. Весьма примечательно, сколь первобытными остались руки и ноги человека в сравнении с его мозгом. В них сохранены все те кости, которые имелись уже у простейших наземных животных.
— Поразительно, просто поразительно, господин профессор. Это уже не первое поразительное утверждение, которое я от вас слышу, но, пожалуй, одно из самых поразительных. Значит, у нас те же кости, что и у доисторических животных! Не то чтобы мне это было обидно, но меня это потрясает. Я уж не говорю о пресловутых Гермесовых ногах. Но возьмите, к примеру, прелестные округло-стройные руки женщины, которые, если нам посчастливится, обвивают нас, и вдруг, когда подумаешь…
— По-моему, мой милый маркиз, вы склонны к из-
536
вестному культу крайностей, — перебил меня Кукук. — Естественно отвращение высокоразвитого существа к безногому червяку, но что касается округло-стройной женской руки, то нам следует считать эту конечность не чем иным, как снабженным когтями крылом доисторической птицы или плавником рыбы.
— Хорошо, хорошо, теперь я всегда буду об этом думать, уверяю вас, без малейшей горечи или цинизма, а скорее даже с теплым чувством. Но говорят ведь, что человек происходит от обезьяны?
— Милый мой маркиз, давайте лучше скажем: человек — порождение природы и в природу уходит своими корнями. И не надо, чтобы нас так уж ослепляло сходство его внутренних органов с органами человекоподобной обезьяны, из-за этого и так было поднято слишком много шума. В голубых глазках свиньи, в ее ресницах и коже больше человеческого, чем в каком-нибудь шимпанзе, и обнаженное человеческое тело ведь тоже нередко напоминает свинью[96]. А вот мозг наш по сложности своего строения ближе всего к мозгу крысы. Да и физиономически звериное вообще на каждом шагу проглядывает в людях. Там мы видим рыбу и лисицу, тут — собаку, тюленя, ястреба или барана[97]. С другой стороны, конечно, если взгляд наш способен это заметить, ведь и животные часто кажутся нам людьми, которых воля злого волшебника обрекла жить под личиной зверя. О, конечно, человек и зверь — родственные существа! Но если говорить о происхождении, то человек произошел от зверя в той же мере, в какой органическое произошло от неорганического. Тут примешалось что-то еще.
— Примешалось? Но что же, дозвольте мне спросить?
— Приблизительно то же, что примешалось, когда из небытия возникло бытие. Приходилось вам когда-нибудь слышать о празачатии?
— Во всяком случае, я жажду о нем услышать.
Он быстро огляделся вокруг и доверительным тоном, явно потому, что он обращался не к кому-нибудь, а к маркизу де Веноста, сообщил мне следующее:
537
— Сотворение мира свершилось не один раз, а трижды: возникновение бытия из небытия, пробуждение жизни из бытия и рождение человека.
Это свое заявление Кукук запил глотком виши, причем стакан ему пришлось держать обеими руками, так как вагон сильно тряхнуло. Публика к этому времени уже разошлась. Большинство кельнеров стояло без дела. Хотя после обеда, оставшегося почти нетронутым, я заказывал одну чашку кофе за другой, но свое все возраставшее возбуждение объясняю не этим. Подавшись вперед, я сидел и слушал своего необычного спутника, который рассказывал мне о бытии, о жизни, о человеке и о небытии, из которого все явилось и в которое все возвратится.
— Не подлежит сомнению, — говорил он, — что жизнь на земле не только относительно скоропроходящий эпизод, но такой же эпизод и бытие в бесконечной чреде небытия. Не всегда существовало бытие и не всегда будет существовать. Поскольку настало начало бытия, настанет и его конец, а вместе с ним конец времени и пространства, ибо связь их скреплена только бытием. Пространство,— говорил он,— это не что иное, как взаимопорядок или взаимосоотнесенность материальных вещей. Без материальных вещей, которые его занимают, нет пространства, как нет и времени, ибо время — это последовательность событий, невозможная без наличия тел, продукт движения причин и следствий; сменяемость тел дает времени направление, без которого время не существует. Отсутствие времени и пространства есть утверждение небытия. Последнее во всех смыслах лишено протяженности, — это застывшая вечность, только мимолетно прерванная пространственно-временным бытием. Бытию дан срок больший, чем жизни, больший на эоны, но когда-нибудь, несомненно, кончится и оно, и так же несомненно, что концу будет соответствовать начало. Когда началось время свершения? Когда первое содрогание бытия прорвалось из небытия благодаря некоему «да будет», уже неизбежно вобравшему в себя «да прейдет»? Может быть, «когда» этого «будет» состоялось не так давно и «когда» этого «пройдет» уже
538
недалеко; не исключено, что их разделяют всего несколько биллионов лет… Тем временем бытие правит свое буйное пиршество в неизмеримых пространствах, которые являются его творением и в которых оно создает расстояния, цепенеющие от ледяной пустоты…
И он принялся рассказывать мне о гигантской арене этого пиршества, о вселенной — смертном дитяти вечного небытия, без числа насыщенном материальными телами, метеорами, лунами, кометами, туманностями, миллиардами звезд, взаимоупорядоченных действием своих полей притяжения, согнанных в кучи облаков, млечных путей и гигантских систем млечных путей, где каждый в отдельности путь состоит из неисчислимого количества пылающих солнц, планет, вращающихся вокруг своей оси, масс разжиженного газа и холодных нагромождений железа, камня, космической пыли… В волнении слушал я его, отлично сознавая, сколь почетна, привилегия обогащаться такими, сведениями, и этой привилегией я был обязан своему знатному происхождению, тому, что я был маркизом део. Веноста и что у меня в Риме имелась тетушка графиня Центурионе.
— …наш Млечный Путь, — донеслось до меня,— один из биллионов млечных путей — почти уже у самого своего конца включает в себя, на расстоянии тридцати тысяч лет прохождения света от его середины, нашу локальную солнечную[98] систему с ее гигантским, хотя относительно и вовсе не таким большим, раскаленным шаром, который мы зовем «солнце» в единственном числе, хотя оно лишь одно из многих солнц, и с планетами, находящимися в сфере его притяжения[99]. Среди них и наша земля, для которой главная, но и хлопотная утеха — вращаясь вокруг своей оси со скоростью тысяча миль в час, в то же время вращаться вокруг солнца, проходя двадцать миль в секунду, и таким образом устанавливать для себя дни и ночи, — заметьте, именно для себя, — ибо существуют еще совсем другие дни и ночи. Планета Меркурий[100], например, ближайшая к солнцу, завершает, свой круговорот за восемьдесят восемь наших
539
дней и при этом лишь однажды оборачивается вокруг своей оси, так что для нее день и год одно и то же. Из этого вы можете заключить, что с временем обстоит так же, как и с весом: то и другое лишено общезначимости. Возьмем хотя бы белого спутника[101] Сириуса — тело, всего в три раза превышающее объем нашей земли; на нем материя достигает такой плотности, что ее кубический дюйм у нас весил бы тонну. По сравнению с ней земная материя, наши скалы, наше человеческое тело — только легчайшая пена.
— Кружась вокруг солнца, — дано мне было услышать далее, — земля и ее луна кружатся еще и вокруг друг друга, и при этом вся наша местная солнечная система движется в рамках несколько более широкого, но все еще «местного», скопления звезд, движется, не окаймляя его, но так, что она, в свою очередь, с бешеной быстротой движется внутри Млечного Пути, который с немыслимой скоростью гонит вперед наш Млечный Путь вплоть до отдаленнейших его звезд, причем эти отдаленнейшие материальные комплексы бытия, обладающие таким проворством, что полет осколка гранаты по сравнению с их быстротой пребывает в состоянии покоя, разлетаются по всем направлениям небытия.
— Это вращение одного в другом и вокруг другого, эти туманы, уплотняющиеся в тела, этот огонь, пламя, стужа, взрывы, распыление, падение и гон, возникшие из небытия и пробуждающие небытие, для которого, может быть, было бы лучше, милее не пробуждаться и которое ждет нового сна, — все это бытие, называемое также природой, — оно едино везде и во всем. Я убежден, что все бытие, вся природа — это замкнутое единство, от простейшей неодушевленной материи до самой живой жизни, до женщины с округло-стройными руками, до быстроногого Гермеса. Наш человеческий мозг, наше тело и наши члены — мозаика из тех же простейших частичек, что образуют звезды, звездную пыль и темные облака туманностей, несущиеся в межзвездном пространстве. Жизнь, вызванная из бытия, как бы-
540
тие некогда было вызвано из небытия, жизнь, это цветение бытия, состоит из тех же основных веществ, что и неодушевленная природа; нет у нее ни одной-единственной, которая была бы только ее собственностью. Нельзя даже сказать, что она четко и недвусмысленно отделяется от неодушевленного бытия. Граница между жизнью и безжизненностью подвижна. Клетка растения обладает естественной способностью при помощи солнечных лучей так перестраивать материи, относящиеся к царству минералов, что они в ней оживают. Первозданная способность хлорофилла являет нам пример возникновения органического из неорганического. В обратных примерах тоже нет недостатка. Мы могли бы сослаться на образование камней из органических веществ, принадлежащих к животному миру. Говорят, сухопутные горы выросли в морях на большой глубине из скелетов крохотных живых существ. В мнимой полужизни жидких кристаллов одно природное царство наглядно переходит в другое. И когда природа, фиглярничая в неорганическом, хочет нас обмануть подобием органического, как, например, цветами на заледеневшем стекле, она тем самым поучительно демонстрирует неизменное свое единство.
— Органическое и само не может провести ясную границу между отдельными его царствами. Животное переходит в растительное там, где оно сидит на стебле и принимает форму цветка, и растительное — в животное там, где оно ловит и пожирает насекомое, вместо того чтобы впитывать жизненные соки минералов. Из животного, путем прямого от него происхождения, как принято считать (на самом же деле потому, что здесь примешалось нечто столь же неопределимое, как сущность жизни и происхождение бытия), вышел человек. Но момент, когда он уже был человеком, а не животным, или, вернее, уже не только животным, установить нелегко. Человек сохраняет в себе животное начало, как жизнь в себе сохраняет неорганическое, ибо в последней основе его строения, в атомах, он переходит в уже или еще не органическое. В самой же глубине, в невидимом
541
атоме, материя улетучивается в имматериальное, нетелесное, ибо то, что движется там и надстройкой чего является атом — это почти вне бытия, так как не имеет своего места в пространстве или соотнесенности с пространством, как то подобает добропорядочному телу. Из «почти еще небытия» образовалось бытие, и оно утекает в «почти уже небытие». Вся природа, начиная от самых ранних, почти еще имматериальных и простейших ее форм до наиболее развитых, всегда тяготела к концентрированию и сосуществованию: звездный туман, камень, червь и человек. То, что многие виды животных вымерли, что более не существует летающих ящеров или мамонтов, не мешает рядом с человеком существовать одноклеточным праживотным в их уже установившейся форме: инфузории, микробу — с одним отверстием для ввода, другими для вывода; на деле ведь большего и не требуется, чтобы быть зверем, да и для того, чтобы быть человеком, как правило,—тоже не больше.
Это была шутка, и довольно ядовитая. Кукук, видимо, счел нужным подпустить не лишенную яда шутку в адрес такого светского молодого человека, как я, и, конечно, я засмеялся, дрожащей рукой поднося ко рту шестую, да нет, пожалуй, восьмую чашечку кофе. Я уже говорил и повторяю снова, что был охвачен необычайным волнением, ибо речи моего сотрапезника о бытии, жизни и человеке вызывали во мне напряжение чувств почти изнурительное, И как ни странно это звучит, но столь мощное напряжение чувств было близко к тому, или, вернее, было то самое, что я еще ребенком или полуребенком обозначал возвышенными словами «великая радость» — тайной формулой моей невинности для понятия, не имевшего другого имени и очень специфического, но вскоре расширившегося для меня до какой-то опьяняющей необъятности.
— Конечно, позади остался большой путь, — сказал Кукук, возвращаясь к своей шутке, — от pithecanthropus erectus до Ньютона и Шекспира — большой, широкий путь и, несомненно, идущий в гору. Но в че-
542
ловеческом мире все обстоит так же, как и в остальной природе. Здесь тоже все существует купно: все состояния культуры и нравов, все — от самого раннего до наипозднейшего, от предельно глупого до разумнейшего, от первобытного, глухого, дикого до высоко и тончайше развитого, — все это сосуществует; более того, случается, что тончайшее, устав от самого себя, влюбляется в первобытное и, точно во хмелю, вновь опускается до дикости. Но хватит об этом.
Впрочем, желая воздать должное человеку, он, Кукук, хочет
мне, маркизу де Веноста, еще напомнить то, что и отличает h
Бытие — не благополучие, оно — утеха и бремя; все пространственно-временное, вся материя, пусть даже глубоко спящая, делит с ним эту утеху и это бремя, то ощущение, которое внушает человеку, способному к тончайшему восприятию, чувство всесимпатии.
— Да, всесимпатии, — повторил Кукук, опершись обеими руками о стол, чтобы, подняться. При этом он взглянул на меня своими звездными глазами и кивнул мне.
— Спокойной ночи, маркиз де Веноста, — сказал он. — Мы с вами всех пересидели в вагон-ресторане.
543
Пора идти спать! Надеюсь встретиться с вами в Лиссабоне! Если хотите, я для вас с удовольствием возьму на себя роль проводника по моему музею. Желаю вам крепко уснуть! И видеть во сне бытие и жизнь! И еще суматоху млечных путей, которые, поскольку они уже существуют, несут бремя и утехи своего существования. Пусть вам приснится также округло-стройная рука с древним костяком и полевой цветок, которому дано в солнечном эфире расщеплять безжизненное и приобщать его к своему живому телу! Не забудьте также увидеть во сне камень, мшистый камень, что уже тысячи и тысячи лет лежит на дне ручья, — чистый, студеный, омываемый пеной и водой. С симпатией приглядитесь к нему, с симпатией вашего бодрствующего бытия к бытию глубоко спящему, и от души приветствуйте его! Он благополучен, если бытие и благополучие хоть как-то сочетаются. Спокойной ночи!
Я думаю, читатель поверит, что, несмотря на мое врожденное предрасположение ко сну и легкость, с какой я обычно возвращался в свободную и оздоровляющую отчизну бессознательности, в эту ночь я так и не уснул до утра, ворочаясь на своей мягкой и комфортабельной постели в купе первого класса. И что меня дернуло выпить столько кофе перед ночью, которую мне предстояло провести в торопливом, покачивающем и потряхивающем, то останавливающемся, то вдруг едущем в обратном направлении поезде? Ведь это значило добровольно лишить себя сна, из которого меня, конечно, не выбила бы одна только вагонная тряска. О том, что эти шесть или восемь чашек кофе сами по себе тоже не ввергли бы меня в бессонницу, не будь они непроизвольным сопровождением захватывающей, до глубины души потрясшей меня беседы с профессором Кукуком, — говорить, конечно, не стоит, хотя тогда я знал это не менее твердо, чем знаю теперь; тонко чувствующий
544
читатель (а только для такого я и пишу свои признания) поймет это без всяких пояснений.
Одним словом, в своей шелковой пижаме (пижама лучше ночной рубашки предохраняет тело от прикосновения к простыням, может быть недостаточно хорошо простиранным) я всю ночь провздыхал и проворочался с боку на бок, ища положения, которое помогло бы мне очутиться в объятиях Морфея; и когда дремота меня все-таки одолела, мне стала грезиться какая-то путаная чепуха, которую приносит с собой только сон неглубокий и не дающий отдохновения. Верхом на скелете тапира я мчался по Млечному Пути, опознав его по тому[102], что он и вправду был залит молоком, хлюпавшим под копытами костяного животного. Мне было жестко и неудобно сидеть на позвоночном столбе скелета, и я цеплялся руками за его ребра, но меня не переставало отчаянно трясти от норовистого бега этой твари, что, видимо, являлось отражением резких толчков быстроходного поезда. Но во сне я это себе объяснял тем, что не учился ездить верхом, и думал, что должен как можно скорее наверстать упущенное, если хочу слыть молодым человеком из семьи. Навстречу мне и с боков, хлюпая в молоке Млечного Пути, шныряли пестро одетые человечки — мужчины и женщины, миниатюрные, с желтоватым цветом лица и веселыми карими глазами; они кричали мне что-то на незнакомом языке — верно, по-португальски. Но одна из женщин вдруг крикнула по-французски: «Voilà le voyageur curieux»1, — и именно потому, что она знала по-французски, я догадался, что это Зузу, хотя ее обнаженные до плеч округло-стройные руки говорили о том, что она скорее — или в то же время — Заза. Я изо всех сил потянул на себя ребра тапира, чтобы он остановился и дал мне слезть, так как я страстно желал побеседовать с Зузу или с Заза о древнем костяке ее прелестных рук. Но, взбешенный столь неучтивым обращением, тапир стал лягаться и сбросил меня в молоко Млечного Пути,
545
отчего темноволосые человечки, включая Зузу. или Заза, разразились громким смехом, и в этом смехе мой сон растворился, чтобы уступить место столь же нелепым видениям хоть и спящего, но совсем не отдыхающего мозга. Так, например, я во сне карабкался на четвереньках по отвесному глинистому берегу моря, волоча за собой длинный, похожий на лиану стебель, с боязливым недоумением в сердце — кто я, человек или растение? Впрочем, в этом недоумении было для меня и что-то лестное, ибо оно связывалось с названием «морская лилия». И так далее.
Наконец, уже к утру, томительные сновидения исчезли; я проснулся лишь около полудня, почти перед самым Лиссабоном, так что о завтраке нечего было и думать — я едва-едва успел умыться и воспользоваться принадлежностями моего прекрасного несессера из крокодиловой кожи. Профессора Кукука я не встретил ни среди суетящейся толпы на перроне, ни на площади перед вокзалом в мавританском стиле, на которую я вышел вслед за носильщиком, направляясь к открытому одноконному экипажу. День был светлый и солнечный, но не слишком жаркий. Молодой извозчик, взгромоздивший к себе на козлы мой сундук (носильщик получил его по багажной квитанции), право же, мог быть одним из тех человечков на Млечном Пути, которые потешались над моим падением с тапира: невысокого роста, с желтоватым цветом лица — в точном соответствии с описанием профессора Кукука, — с сигаретой в красиво изогнутых губах под закрученными кверху усиками, в круглой суконной шапочке на всклокоченных и низко свисающих длинными прядями волосах. Он недаром так бойко посматривал своими карими глазами: еще раньше, чем я успел назвать ему отель, в котором я заказал по телеграфу номер, он, сразу составив себе суждение о моей особе, назвал его: «Савой палас». Вот какого пристанища счел он меня достойным! Именно там должен был я остановиться, по его мнению, и я подтвердил это коротким:
— C’est
546
exact1. — C’est exact, c’est exact, — повторил он на
ломаном языке, смеясь, ерзая на козлах и понукая лошадь.— C’est exact, — нараспев повторил он еще
несколько раз за короткую дорогу до отеля. Мы быстро выехали из тесной улочки,
и перед нами открылась широкая перспектива бульвара — авенида да Либердаде,
одна из великолепнейших улиц, которую мне когда-либо приходилось видеть. Она
состояла из элегантнейшей проезжей части, верховой дорожки посередине и двух
отлично вымощенных роскошных аллей с цветниками, фонтанами и статуями по бокам.
На этой прекрасной эспланаде и был расположен «Савой палас», поистине
выглядевший как дворец. И насколько же по-иному приблизился я к нему, чем в
свое время к отелю на улице Сент-Оноре!
Три или четыре грума и носильщики в зеленых фартуках тотчас же подскочили к моему экипажу, выгрузили сундук, схватили мой ручной чемодан, пальто, портплед с такой быстротой, словно мне была дорога каждая минута, и потащили все это в вестибюль. Я проследовал за ними в приемную с одной только тростью, украшенной набалдашником из слоновой кости, как человек, возвращающийся с недальней прогулки. В приемной никто не покраснел при моем появлении, никто не крикнул мне: «Отойдите в сторону! Отойдите же, говорят вам!» Напротив, когда я назвал себя, ответом мне явились приветливые улыбки, подобострастные поклоны, искательная просьба, если это не трудно, заполнить листок для приезжающих, о, разумеется, лишь самыми основными данными… Корректный господин в сюртуке, страстно заинтересованный вопросом — вполне ли приятно и благополучно сошло мое путешествие, поднялся вместе со мной на лифте на первый этаж[103], чтобы показать мне мои апартаменты, состоящие из гостиной, спальни и ванной комнаты, выложенной белым кафелем. Вид этих покоев, окнами выходящих на авенида, привел меня в восхищение, которое я, однако, счел необходимым скрыть от него. Удовольствие,
547
более того, восторг, возбужденный во мне их величественной красотой, я свел к жесту снисходительного одобрения, с которым и отпустил моего проводника. Но, оставшись один в ожидании, пока принесут багаж, я стал оглядываться кругом с чисто детской радостью, которую мне, собственно, не следовало бы выказывать даже наедине с собой.
Больше всего меня восхищала отделка стен в гостиной: высокие лепные поля в золотом обрамлении — всегда нравившиеся мне бесконечно больше мещанских обоев — в сочетании с золотым орнаментом расположенных в нишах дверей придавали комнате дворцовое, царственное великолепие. Очень просторная, она была переделена аркой на большее и меньшее помещения; в последнем при желании можно было уютно накрыть стол на небольшое число гостей. Там, так же как и в большей ее половине, висела сверкающая хрустальная люстра, довольно низко спущенная с потолка, — на такие люстры я любил смотреть еще с детства. Мягкие ковры с широкой каймой — один из них колоссальный — устилали полы; между ними местами был виден до блеска начищенный паркет. Приятные для глаз картины украшали стены над роскошными дверями, а возле изящного комодика, на котором стояли часы и китайские вазы, стена была затянута отлично сработанным гобеленом, изображавшим какое-то легендарное похищение. Прекрасные французские кресла окружали овальный столик с кружевной салфеткой под стеклом, на котором стояли ваза, полная изысканных фруктов, на случай если обитатель этих апартаментов пожелает освежиться, тарелочка с бисквитами и граненая полоскательница. Видимо, это был знак внимания со стороны директора отеля, так как между двумя апельсинами торчала его визитная карточка. Имелась здесь и горка, за стеклом которой стояли очаровательные фарфоровые фигурки — галантно изогнувшиеся кавалеры и дамы в фижмах, у одной из них сзади порвалась юбка, обнажив аппетитную округлость, и дама, обернувшись, с величайшим изумлением созерцала свою наготу; торшеры с шел-
548
ковыми абажурами; бронзовые канделябры в виде изящных фигурок на высоких постаментах, располагающая к отдыху оттоманка с множеством подушек и бархатным покрывалом завершала обстановку, ласкавшую мой жадный взор не меньше, чем роскошная спальня, выдержанная в серо-синих тонах, где стояла кровать под балдахином, а рядом с ней, как бы приглашая к краткому предварительному отдохновению, простирало пухлые руки мягкое кресло, — с ковром во весь пол, заглушавшим шум шагов, с полосатыми обоями матово-синего цвета, успокоительно действующего на нервы, с высоким трюмо, фонарем из молочного стекла под потолком, с широкими дверцами белого шкафа, ручки которых блестели в полумраке…
Принесли мой багаж. Тогда еще у меня не было камердинера, хотя впоследствии я, правда периодически, и нанимал таковых. Я положил в шкаф кое-что из необходимых вещей, повесил два или три костюма, принял ванну и, как всегда, с величайшей тщательностью занялся своим туалетом. Я проделывал это не менее заботливо, чем гримируются актеры, хотя, кстати сказать, к помощи косметики не прибегал даже в зрелом возрасте: меня от этого избавляла моя исключительная моложавость. Переодевшись в чистое белье и соответствующий здешнему климату костюм из легкой светлой фланели, я спустился в ресторан и, испытывая сильнейший голод после обеда, который не доел в поезде, заслушавшись Кукука, и завтрака, который проспал, с наслаждением воздал должное поданным мне рыбе в раковине, бифштексу и превосходному шоколадному суфле. Несмотря на усердие, с которым я все это поедал, мысли мои все еще возвращались к вчерашнему разговору, вселенским своим обаянием глубоко запавшему мне в душу. Воспоминание об этом разговоре было для меня высокой радостью, сочетавшейся с очарованием моей новой изящной жизни. Еще больше, чем вкусный завтрак, меня занимал вопрос — не разыскать ли мне сегодня же Кукука, может быть даже нанести ему визит, и не затем только, чтобы уговориться
549
с ним относительно посещения музея, но главным образом, чтобы познакомиться с Зузу.
Решив все же, что это будет уж слишком откровенным вторжением, я пересилил себя и отложил посещение семейства Кукук на завтра. Вдобавок я еще чувствовал себя не совсем выспавшимся и подумал, что сегодня мне будет лучше ограничить свою деятельность осмотром города. После кофе я пустился в путь. Взяв извозчика на площади перед отелем, я велел ему везти себя на праса до Коммерчо, где находился мой банк, тоже «Банко до Коммерчо»; там я намеревался взять по своему циркулярно-кредитному письму известную сумму денег для расплаты по счетам отеля и на прочие текущие расходы. Прадо до Коммерчо — величавая и скорее тихая площадь, одной своей стороной смотрит на гавань — глубокую бухту в устье реки Тахо, с других же трех сторон застроена аркадами и сводчатыми переходами, где располагаются учреждения, таможни, главный почтамт, разные министерства,, а также операционные залы банка, в котором я был аккредитован. В этом банке мне пришлось иметь дело с чернобородым благовоспитанным и респектабельным господином. Он почтительно принял мои документы, немедленно занялся ими, быстро занес что-то в свои книги и с учтивым поклоном вручил мне перо для подписи на бланке получателя. И, право же, мне не было надобности коситься на подпись Лулу, стоявшую под одним из документов, чтобы в точности воспроизвести ее и с любовью и удовольствием начертать свое звучное имя буквами, склоняющимися в левую сторону и заключенными в красивый овал росчерка.
— Оригинальная подпись, — не удержавшись, заметил чиновник.
Я улыбнулся и пожал плечами.
— Своего рода наследственность, — в моем тоне прозвучало как бы извинение. — Так подписывается уже не одно поколение де Веноста.
Он почтительно склонил голову, и я покинул банк, с бумажником, плотно набитым деньгами.
550
Оттуда я зашел на почтамт и отправил домой, в замок Монрефюж, депешу следующего содержания: «Шлю тысячи приветов и сообщаю о своем благополучном прибытии сюда, в «Савой палас». Полон впечатлений, о которых надеюсь очень скоро рассказать в письме. Могу уже сообщить об известном изменении своего образа мыслей, прежде имевшем не совсем правильное направление. Ваш благодарный Лулу». Отдав дань сыновней почтительности, я прошел под аркой, или, вернее, триумфальными воротами, воздвигнутыми на Торговой площади, напротив выхода к гавани, и ведущими на одну из наряднейших улиц города — руа Аугуста, где мне предстояло выполнить некое великосветское обязательство. «Ведь, конечно,— думал я, — будет вполне уместно и вполне в духе моих родителей, если я зайду с визитом в люксембургское посольство, помещающееся на этой самой улице, в бельэтаже очень солидного доходного дома». Сказано — сделано. Не спрашивая, принимает ли сейчас дипломатический представитель моего отечества, некий господин де Гюйон, или его супруга, я просто вручил открывшему мне двери лакею две карточки, написав на одной из них свой адрес. У этого лакея, человека уже пожилого, были кудрявые седые волосы, серьги в ушах, толстые губы и меланхолический животный взгляд, который не только навел меня на размышления о смешанной крови, текущей в его жилах, но и привлек мою симпатию. На прощание я приветливее, чем положено, кивнул отпрыску эпохи колониального процветания и всемирной монополии на пряности.
Снова выйдя на руа Аугуста, я пошел вверх по этой оживленной и суетливой улице, к площади, которую портье в гостинице отрекомендовал мне как одну из самых великолепных, — к праса де Дон Педро Куарто или, по-народному, — О Рочо. Для большей наглядности я должен заметить, что Лиссабон обрамлен холмами, местами довольно высокими, на которых справа и слева виднеются прямолинейные улицы нового города и белые особняки аристократических предместий. Я знал, что где-то там, в высших сферах
551
находится и дом профессора Кукука, а потому то и дело смотрел наверх и даже спросил одного полицейского (я всегда любил поговорить с полицейскими), скорее жестами, чем словами, где находится руа Жуан де Кастильюш, значившаяся на карточке Кукука. Он и вправду указал мне рукой на эти белые виллы и на своем языке, столь же мне непонятном, как тот, который я слышал во сне, пролопотал что-то насчет трамвая, канатной дороги и мулов, видимо, прикидывая, как мне лучше туда добраться. Я по-французски поблагодарил его за эти сведения, в данный момент для меня еще не столь неотложные, он же отдал мне честь, приложив руку к своему тропическому шлему в знак окончания сего краткого, но обильного жестами и дружелюбного собеседования. До чего же отрадно принимать такие изъявления почтительности от облаченного в незамысловатый, но щегольской мундир стража общественного правопорядка!
Мне хотелось бы, сообщив более широкое значение этому моему возгласу, заметить, что счастлив тот человек, которого добрая фея с колыбели наградила незаурядной восприимчивостью к отрадному, даже в самых скромных его проявлениях. Правда, с другой стороны, этот дар свидетельствует о повышенной чувствительности, являющей собой противоположность тупости, и, следовательно, приносит много огорчений тому, кто им обладает. И все же я убежден, что польза от радости жизни, которую он с собой приносит, перевешивает и ты не остаешься в накладе, если тут может быть речь о накладе; вот этот дар чувствительности к малейшей, даже самой обыденной приятности и заставлял меня всегда считать имя Феликс, к которому с такой горькой иронией относился крестный Шиммельпристер, мое первое и настоящее имя, как бы нарочно придуманным для меня.
Как прав был Кукук, считая нервозное любопытство к еще невиданным человеческим особям главным ингредиентом любостранствия! Проходя по этой суматошной улице, я с искренней симпатией смотрел на черноволосых людей с оживленно бегающими гла-
552
зами, как все южане, руками иллюстрировавших свою речь, и всей душой стремился вступить с ними в личный контакт. Превосходно зная название площади, к которой я направлялся, я все же считал возможным время от времени останавливать кого-нибудь из прохожих — будь то ребенок, женщина, солидный господин или простой матрос, — спрашивая, как она называется, и, покуда они мне отвечали неизменно учтиво и подробно, наблюдал за их мимикой, вслушивался в чужой язык, в несколько экзотические гортанные голоса; затем мы с наилучшими чувствами расходились в разные стороны. Далее я положил непомерно большую милостыню в чашку слепого —об этом прискорбном обстоятельстве извещала висевшая у него на груди дощечка, — который сидел на тротуаре, прислонившись к стене одного из домов, и еще великодушнее наградил обратившегося ко мне старика с медалью на лацкане, но в рваных башмаках и без манишки. В. ответ он выказал страшное волнение, даже всплакнул и поклонился мне с видом, красноречивее слов говорившим: я тоже принадлежал к более высокому общественному кругу, и вот до чего меня довели человеческие слабости.
Когда я очутился на площади О Рочо с ее двумя бронзовыми фонтанами, обелиском и мостовой, волнообразно выложенной мозаикой, у меня явилось еще больше поводов обращаться с расспросами к фланирующим или праздно греющимся на солнышке обывателям относительно строений, живописно вздымавшихся в синеву позади домов, обрамлявших площадь, руин какой-то готической церкви и нового здания, оказавшегося муниципалитетом, вернее — ратушей. Южную сторону праса замыкал фасад театра, две другие представляли собой сплошной ряд магазинов, кафе и ресторанов. Удовлетворив наконец под предлогом любознательности свою жажду общения с этими детьми чужой страны, я зашел в одно из кафе, уселся за столик и спросил чаю.
За соседним столиком полдничала компания из трех человек, которая тотчас же привлекла к себе мое, разумеется заботливо скрытое, внимание. Две
553
дамы — одна уже зрелого возраста, другая совсем молоденькая, по-видимому мать и дочь, — и господин средних лет с очками на орлином носу, у которого волосы из-под шляпы-панамы живописно свисали на воротник. Он ел мороженое и держал на коленях, видимо из рыцарских побуждений, два или три аккуратно перевязанных свертка; несколько таких же свертков, явно только что из магазина, лежали на столе перед дамами.
Делая вид, что я поглощен созерцанием то играющих на солнце струй ближайшего фонтана, то церковных руин там, наверху, я нет-нет да и посматривал на своих соседей. Мое любопытство в одинаковой степени возбуждали и мать и дочь; я был уверен, что такова их взаимосвязь. И при этом представлении совсем различная прелесть обеих женщин восхитительнейшим образом сливалась воедино — чувство для меня весьма характерное. Выше я рассказывал о потрясении, которое испытал юный бродяга, увидев со своего места под уличным фонарем прелестную и богатую парочку — брата и сестру, — на мгновение показавшуюся на балконе гостиницы «Франкфуртское подворье». При этом я подчеркнул, что в отдельности ни он, ни она не вызвали бы во мне того восторга, который я испытал от сознания, что это брат и сестра, от их очаровательного двуединства. Психологу будет интересно, что эта склонность к двойному восхищению, эта способность поддаваться очарованию двойственного на сей раз обратилась уже не на брата и сестру, но на мать и дочь. Мне это, во всяком случае, всегда казалось интересным. Но тут-то и необходимо добавить, что мою внезапную влюбленность еще больше разожгло предположение, уже через несколько минут мелькнувшее у меня в уме, что здесь случай шутит со мной презабавную шутку.
Молодая особа лет восемнадцати, не больше, в простом и свободном платье из белой в голубую полоску материи, перехваченном таким же кушаком, на первый взгляд показалась мне до странности похожей на Заза. Но тут моему перу вменяется в обязанность вывести слова «только что». Точь-в-точь
554
Заза, только что ее красота — но, пожалуй, в применении к ней это слово звучало слишком гордо и могло быть отнесено скорее к ее матери (сейчас я поясню, что мне хочется этим сказать) — была, если можно так выразиться, доказательнее, откровеннее и наивнее, нежели красота подруги Лулу, в которой все было немножко feu d’artifice чуть-чуть на фуфу, и не подлежало слишком пристальному рассмотрению. Здесь же была положительность (если можно перенести слово, взятое из мира морально-этического в любовно-чувственный мир), ребяческое прямодушие в глазах, которое впоследствии не раз меня озадачивало…
«Другая Заза», но настолько другая, что я еще и сейчас спрашиваю себя, не было ли это сходство только обманом зрения, в действительности же его не существовало? Может быть, мне только казалось, что я его вижу, ибо я хотел его видеть, а хотел потому, что — я знаю, как это странно звучит — все время искал двойника Заза. В этом пункте я как-то сам в себе не уверен. Разумеется, в Париже мои чувства не вступали в конкуренцию с чувствами милого Лулу; я отнюдь не был влюблен в его Заза, хотя ей и нравилось строить мне глазки. Но, может быть, влюбленность в нее перешла ко мне с моей новой личностью, и я, так сказать, задним числом в нее влюбившись, возмечтал встретить вторую Заза на чужбине? Вспоминая, как я вздрогнул, услышав от профессора Кукука о его дочери и ее имени, схожем с именем Заза, я не считаю себя вправе признать эту теорию вовсе несостоятельной.
Сходство? Восемнадцать лет и черные глаза — это уж само по
себе сходство, особенно когда хочешь его увидеть; только здесь глаза не
щурились так кокетливо и не поблескивали из-под ресниц, но когда, суженные чуть
толстоватыми нижними веками, они не озарялись сиянием сдержанного смеха, то в
них было что-то суровое, испытующее и мальчишеское, такое же, как в голосе; до
меня несколько раз донеслись
555
отдельные слова и восклицания, и голос ее звучал совсем не серебристо, а тоже скорее сурово и несколько грубовато, без тени жеманства, честно и прямодушно, как голос мальчика. А с носиком дело обстояло и совсем неважно: у Заза нос был вздернутый, у этой же девушки — очень тонко очерченный, но с немного слишком плотными крыльями. Рот, о, рот был похож! Это я еще и сейчас берусь утверждать с полной уверенностью: губы у той и у другой (у «другой» пунцовые, несомненно, от природы) всегда были чуть-чуть приоткрыты так, что под слегка вздернутой верхней губкой виднелись зубы; углубление пониже рта и прелестная линия подбородка, сбегавшая к нежной шее, тоже чем-то напоминали Заза. В остальном все было разное; характерно парижское здесь обернулось иберийско-экзотическим прежде всего благодаря высокому черепаховому гребню, который скреплял зачесанные кверху с затылка темные волосы. Ото лба, оставляя его открытым, они шли встречной волной, но две пряди ниспадали на уши, в чем тоже было что-то южное, испанское. В ушах у нее были серьги, — не длинные, покачивающиеся подвески из черного янтаря, как у матери, но прилегающие, хотя и довольно массивные опаловые диски, оправленные мелким жемчугом, в сочетании со всем остальным тоже выглядевшие довольно экзотично. Цвет лица у Зузу — я тотчас же назвал ее этим именем — имел слегка желтоватый оттенок, как и цвет лица матери, весь облик которой, впрочем, носил совершенно иной характер — импозантный, чтобы не сказать величественный.
Выше ростом, чем ее обворожительная дочь, уже утратившая стройность, но отнюдь не полная, в изысканно простом платье из кремового полотна, у ворота и на рукавах изрезанного наподобие кружев — к нему она носила длинные черные перчатки, эта женщина еще не достигла возраста матроны, но в темных ее волосах, видневшихся из-под изогнутой по тогдашней моде большой соломенной шляпы с цветами, уже мелькали серебряные нити. Черная, расшитая серебром бархотка на шее очень шла к ней,
556
оттеняя горделивую посадку головы; весь ее облик был проникнут подчеркнутым достоинством, достоинством, граничащим с сумрачностью, с жестокостью. Все это отражалось на ее довольно крупном лице с высокомерно поджатыми губами, трепещущими крыльями носа и двумя суровыми складками меж бровей. Жесткость вообще характерна для южан, хотя многие ее начисто не замечают, завороженные представлением, что юг вкрадчиво мягок и приторен, а жесткость свойство севера, — в корне порочная идея. «Видимо, древняя иберийская кровь, — подумал я, — значит, с примесью кельтской. А возможно, что здесь есть еще доля финикийской, карфагенской, римской и арабской. Да, с такой дамой каши не сваришь». И еще я подумал, что под крылышком этой матери дочка защищена, пожалуй, надежнее, чем под рыцарственным покровительством любого мужчины.
Тем более меня порадовало, что, надо думать, из соображений благоприличия, при посещении общественного места они все же находились под мужским покровительством. Очкастый и длинноволосый господин сидел всего ближе ко мне, можно сказать, плечом к плечу со мной, так как свой стул он поставил боком к столу, и я все время видел его резко очерченный профиль. Мне всегда противно смотреть на длинные волосы у мужчин, так как рано или поздно они неминуемо засалят воротник, но тут я преодолел свое отвращение и, кинув виноватый взгляд на обеих дам, обратился к их спутнику со следующими словами:
— Простите, сударь, за смелость иностранца, к сожалению, не владеющего языком вашей страны и потому лишенного возможности объясниться с кельнером. Еще раз прошу простить меня, — при этом мой взгляд снова робко, точно я и смотреть-то на них не решался, скользнул по дамам, — за дерзкое вторжение! Но мне очень, очень нужно получить кое-какие сведения. Дело в том, что приятный долг, не говоря уж о собственном моем желании, предписывает мне явиться с визитом в один из домов верхней
557
части города на руа Жуан де Кастильюш. Упомянутый дом — я позволяю себе заявить об этом, так сказать, в качестве удостоверения моей благонадежности — принадлежит выдающемуся лиссабонскому ученому, профессору Кукуку. Не откажите в любезности хотя бы вкратце проинформировать меня о том, как добираются в верхнюю часть города?
Какое счастье уметь изысканно и любезно выражаться, обладать даром красивой речи; этот дар добрая фея вложила мне в колыбель своей нежной рукой, и как же он оказался мне необходим, для того чтобы осуществить задуманное и обнародовать свою исповедь! Мне самому понравилось мое обращение к очкастому господину, хотя на последних словах я запнулся из-за того, что молодая девушка, услышав название улицы, а затем и имя профессора Кукука, весело хихикнула, вернее — рассмеялась, хотя и негромко. Признаться откровенно, я даже сконфузился: ведь я затеял весь этот разговор лишь для того, чтобы подтвердить свои еще смутные предположения. Сеньора укоризненно покачала головой и величаво-вразумляюще поглядела на слишком резвую дочь, но затем и сама не смогла сдержаться — улыбка промелькнула на ее суровых губах под едва заметной тенью усиков. Длинноволосый, конечно, опешил, так как — я берусь это утверждать — в противоположность дамам до сих пор вообще не замечал моего присутствия, но тем не менее учтиво ответил:
— Прошу вас, сударь. Для того чтобы добраться туда, существуют различные способы, но я не все из них решаюсь рекомендовать вам. Можно, например, взять фиакр, хотя некоторые из улиц но дороге наверх очень круто поднимаются в гору и местами седоку приходится идти пешком за экипажем. Лучше уж воспользоваться вагончиком, запряженным мулами, которые без труда берут эти подъемы. Но мы, местные жители, обычно отдаем предпочтение канатной дороге; станция ее находится почти рядом, на уже знакомой вам, вероятно, руа Аугуста. Канатная дорога быстро и удобно доставит вас почти до самой руа Жуан де Кастилыош.
558
— Превосходно, — отвечал я.— Это все, что мне нужно. Не знаю, как и благодарить вас сударь. Я безусловно последую вашему совету. Еще раз покорнейше благодарю.
И я плотнее уселся на своем стуле с видом, явно свидетельствующим о том, что больше я ему докучать не собираюсь. Но малютка — мысленно я уже звал е« Зузу, — ничуть не испугавшись грозных и предостерегающих взглядов матери, продолжала откровенно потешаться, так что сеньора в конце концов была вынуждена обратиться ко мне с разъяснением.
— Простите, сударь, девочке это искреннее веселье,— сказала она звучным альтом, жестко выговаривая по-французски. — Дело в том, что я мадам Кукук с руа Жуан де Кастильюш, это моя дочь Сюзанна, а это господин Мигель Хуртадо, научный сотрудник мужа, и я, наверно, не ошибусь, предположив, что беседую со спутником дона Антонио Хосе — маркизом де Веноста. Мой муж по приезде рассказал нам о встрече с вами…
— Я счастлив, мадам, — воскликнул я с непритворной радостью, отвешивая поклон ей, молодой девушке и господину Хуртадо. — Какая очаровательная игра случая! Конечно же, я — Веноста, по пути из Парижа сюда наслаждавшийся обществом вашего супруга. Должен признаться, что никогда еще я не путешествовал с такой для себя пользой. Беседа с господином профессором поистине возвышает душу…
— Не удивляйтесь, господин маркиз, — вдруг заговорила юная Сюзанна, — что ваш вопрос рассмешил меня. Вы слишком много спрашиваете. Я еще на площади заметила, что вы останавливаете каждого третьего прохожего и о чем-то осведомляетесь. А теперь вы вздумали осведомляться у дона Мигеля относительно нашего местожительства…
— Ты ведешь себя нескромно, Зузу, — перебила ее мать, и у меня было очень странное чувство, когда я впервые услышал это уменьшительное имя, которым мысленно уже давно называл ее.
559
— Извини меня, мама, — отпарировала малютка, — но в молодости что ни скажешь — все нескромно; маркиз, молодой человек, наверно, не старше меня, тоже был немножко нескромен, затеяв разговор от столика к столику. А кроме того, я даже и не сказала того, что собиралась сказать. Мне хотелось заверить маркиза, что папа по приезде вовсе не ринулся с места в карьер рассказывать о встрече с ним, как это можно было вывести из твоих слов. Он успел рассказать нам кучу всяких интересных вещей, прежде чем вскользь упомянул о некоем господине де Веноста, с которым он вместе ужинал…
— Дитя мое, — неодобрительно покачав головой, заметила урожденная да Круц, — правда тоже не должна быть нескромной.
— Бог мой, мадемуазель, — сказал я, — это правда, в которой я никогда не сомневался. Я и не воображал, что…
— Очень хорошо, что вы ничего не воображали
…Maman: — Зузу!
Малютка: — Молодой человек, chère maman, который носит такое имя и по чистой случайности еще и недурен собой, на каждом шагу подвергается опасности невесть что о себе вообразить.
Тут уж оставалось только засмеяться. Господин Хуртадо тоже разделил общую веселость. Я сказал:
— Мадемуазель Сюзанна, видимо, недооценивает куда бо́льшую опасность невесть что о себе воображать, на каждом шагу грозящую девушке с ее внешностью. Тем более что случай мадемуазель Сюзанны еще осложнен вполне естественной гордостью таким papa и такой maman (поклон в сторону сеньоры).
Зузу покраснела, видимо, за мать, которая и не подумала краснеть, а может быть, из ревности к ней, но тут же с поразительным самообладанием выкарабкалась из этой мгновенной неловкости. Она мотнула головкой в мою сторону и равнодушно констатировала:
— Какие у него красивые зубы.
В жизни я не встречал подобной прямолинейности! Зузу, пожалуй, заслуживала бы порицания за
560
несколько излишнюю задиристость, если бы на возмущенное: «Zouzou, vous êtes tout à fait impossible»1 сеньоры не ответила:
— Да он же их все время показывает! Значит, ему приятно это слышать. И вообще такие вещи вовсе не к чему замалчивать. Молчание вредно. А констатация факта не вредит ни ему, ни кому-либо другому.
Своеобразное существо! Своеобразное и несколько выпадающее из рамок общепринятого, а также из окружающей ее светской и национальной среды. Это мне уяснилось многим позднее. Мне еще только предстояло узнать, с какой почти фанатической настойчивостью эта девушка руководствовалась в жизни своей примечательной сентенцией: «Молчание вредно».
Разговор как-то конфузливо прервался. Мадам Кукук да Круц легонько барабанила по столу кончиками пальцев. Господин Хуртадо теребил свои очки. Я первый нарушил молчание:
— Нам остается только признать педагогические таланты мадемуазель Сюзанны. Она была совершенно права уже в первом случае, заметив, что смешно предполагать, будто уважаемый господин Кукук начал свой отчет о поездке с упоминания о моей особе. Я готов побиться об заклад, что в первую очередь профессор рассказал о приобретении, ради которого, собственно, и ездил в Париж, то есть об отдельных частях скелета некоего очень интересного, но, к сожалению, давно вымершего вида тапира, жившего в достопочтенную эпоху эонов.
— Вы угадали, маркиз, — подтвердила сеньора. — Именно об этом нам прежде всего и рассказал дон Антонио, так же как, видимо, и вам. И мсье Хуртадо, наш любезный спутник, больше чем кто бы то ни было, обрадовался этому приобретению, ибо оно сулит ему интересную работу. Я представила вам мсье Хуртадо как научного сотрудника моего мужа, но у него есть еще и другая специальность. Мсье Хуртадо не только делает для нашего музея превосход-
561
к музею на руа да Прата, в двух шагах отсюда, то профессор вместе со своим скромным сотрудником будут уже на месте, и он, Хуртадо, почтет за честь присоединиться к нашей «экскурсии».
Чего же лучше! Я протянул ему руку в знак того, что считаю дело решенным, дамы отнеслись к нашему уговору более или менее благожелательно: сеньора улыбнулась снисходительно, Зузу — насмешливо. Тем не менее в последовавшем еще кратком разговоре она опять не обошлась без того, что господин Хуртадо назвал поддразниванием. Из этого разговора я узнал, что дон Мигель встретил профессора на вокзале, отвез его домой и, отобедав вместе с семейством Кукук, вызвался сопровождать дам по магазинам и, наконец, завел их отдохнуть в это кафе, куда они, по местному обычаю, не могли бы явиться без сопровождающего мужчины. Поговорили мы и о предстоящем мне кругосветном путешествии — своеобразном подарке родителей своему единственному сыну, к которому они, конечно, питают слабость.
— C’est le mot1[104], — вставила Зузу.
— Это несомненная слабость.
— Я вижу, что вы продолжаете воспитывать во мне скромность,
мадемуазель. — Тщетный труд, — отпарировала она. Мать наставительно заметила: —
Молодой девушке, дитя мое, следует отличать благопристойную сдержанность от ершистости.
И все же именно эта ершистость давала мне надежду в один прекрасный день — как
ни мало их было в моем распоряжении — поцеловать ее обворожительно вздернутые
губки. Сама мадам Кукук укрепила меня в этой надежде, по всей форме пригласив
меня отобедать у них на следующий день. Хуртадо между тем вслух размышлял, на
какие же достопримечательности ему следует указать мне, принимая во внимание
мое столь ограниченное время. В результате он порекомендовал мне насладиться
удивительным видом на город и реку из
564
общественного парка Пасею да Эстрелья, посмотреть бой быков, который должен состояться в ближайшие дни; сказал несколько слов о монастыре Белем — чуде архитектурного искусства — и о дворце Цинтра. Я, в свою очередь, признался, что больше всего меня влечет в ботанический сад, где, как я слышал, имеется растительность, относящаяся скорее к каменноугольной эпохе, чем к современной флоре нашей планеты, а именно древовидный папоротник. Я так заинтересован этим растением, что, если не говорить о естественно-историческом музее, хочу отправиться первым делом именно в ботанический сад. — Это не более как приятная прогулка, — заметила сеньора,— и даже не дальняя. — Самое простое, по ее мнению, будет, если я после осмотра музея приду на руа Жуан де Кастильюш пообедать en famille1, а потом, независимо от того, захочет дон Антонио Хосе пойти с нами или не захочет, мы все вместе отправимся на этот ботанический променад. Что ее величаво-любезное предложение было принято с учтивым изъявлением благодарности, говорить не приходится. Никогда еще я так не радовался завтрашнему дню, уверял я. После того как уговор состоялся, все встали, с мест. Господин Хуртадо спросил счет и расплатился за себя и за дам. Не только он, но и мадам Кукук и Зузу на прощанье пожали мне руку. — A demain, — услышал я еще раз. Даже Зузу сказала: — A demain. Grâce à l'hospitalité de ma mère2,— язвительно добавила она. И затем, потупившись: — Я не люблю действовать по указке и потому сразу не сказала вам, что вовсе не хотела быть к вам несправедливой. Я так опешил от этого внезапного смягчения ее колкости, что даже назвал ее Заза. — Mais, mademoiselle Zaza…3
565
— Заза! — Она прыснула и повернулась ко мне спиной.
Мне пришлось кричать ей уже вслед:
— Зузу! Зузу! Excusez ma bévue, je vous en prie!1
Возвращаясь к себе в гостиницу мимо мавританского вокзала по узенькой руа до Прансипе, соединяющей О Рочо с авенида да Либердаде, я все время бранил себя за эту злополучную обмолвку. Заза! Заза — та существовала сама по себе, подле своего влюбленного Лулу, а не под крылышком горделивой матери-иберийки, что составляло существенную разницу!
С руа Аугуста до Лиссабонского музея Sciências Naturaes, что на руа да Прата, и в самом деле рукой подать. Фасад музея невзрачен — ни колонн, ни широкой торжественной лестницы. Входишь и, еще не пройдя турникета, возле которого за столиком с кипами фотографий и открыток сидит кассир, оказываешься в зале, поражающем своей огромностью, где тебя обступают волнующие картины природы. Там, например, посередине устроен напоминающий сцену помост, весь заросший травой, позади которого темнеет лесная чаща, частично нарисованная, частично воссозданная из настоящих стволов и листвы. Перед нею, словно только что вышедший оттуда, стоял на стройных, близко поставленных ногах белый олень в царственном уборе своих широко разветвленных рогов. Полный достоинства и в то же время пугливой чуткости, он глядел на входящего блестящими, спокойными, но внимательными глазами, повернув вперед отверстия настороженных ушей. Верхний свет в зале падал прямо на лужайку и на трепетную фигуру этого существа, осторожного и гордого. Казалось, стоит сделать еще шаг — и он одним прыжком исчезнет в лесной чаще. Робость этого одинокого создания там, наверху, заставила оробеть и меня. Я стоял, не
566
смея двинуться с места, и даже не сразу заметил сеньора Хуртадо, который, заложив руки за спину, дожидался меня возле помоста. Он двинулся мне навстречу, сделал знак кассиру, что я прохожу безвозмездно, и со словами дружеского приветствия повернул передо мной турникет.
— Вас, господин маркиз, как я вижу, поразила встреча с нашим белым оленем. Вполне понятно. Отличный экземпляр. Нет, нет! Не я поставил его на ноги. Это сделано другим, еще до моего знакомства с музеем. Господин профессор ждет вас. Разрешите мне…
Но ему пришлось, улыбаясь, подождать еще минуту-другую, ибо я ринулся к дивной фигуре оленя, чтобы хорошенько рассмотреть ее вблизи, благо на самом деле он не мог обратиться в бегство.
— Это не чубарный олень, — пояснил Хуртадо, — а олень, принадлежащий к классу благородных рыжих оленей, среди которых иногда встречаются и белые. Впрочем, я, вероятно, рассказываю знатоку то, что ему давно известно. Вы, маркиз, ведь, надо полагать, охотник?
— Только от случая к случаю и по обязанности. Но здесь мне, право же, и на ум не идет охота. Я, кажется, не мог бы выстрелить по такому зверю. Он какой-то… легендарный. А вместе с тем — надеюсь, что я не ошибаюсь, сеньор Хуртадо, — олень ведь просто жвачное животное.
— Разумеется, господин маркиз. Так же, как его родичи — северный олень и…
— И корова. Ведь это даже заметно. Легендарное существо, а между тем это заметно. Он белый, в виде исключения, и ветвистые рога делают его похожим на царя лесов, его бег — воплощенная грация. Но туловище выдает его семейную принадлежность, против которой, впрочем, не приходится возражать. Если попристальнее вглядеться в его туловище и круп, невольно думаешь о лошади; но лошадь — она нервнее, хотя, как известно, и происходит от тапира. Вообще же олень представляется мне коронованной коровой.
567
— Вы критический наблюдатель, господин маркиз.
— Критический? Нет, нет, нисколько. У меня только есть известное чутье к формам и характерам жизни, природы — вот и все. Я их чувствую, интересуюсь ими. У жвачных животных, насколько я знаю, удивительнейший желудок. В нем несколько отделений, и из одного такого отделения они выбрасывают уже съеденную пищу обратно в пасть. И вот лежат себе и с наслаждением вновь и вновь пережевывают эти душистые комки. Вы, может быть, скажете, что негоже носить корону лесного царя тому, в ком укоренилась столь скверная семейная привычка. Но я чту природу во всех ее проявлениях, и мне ничего не стоит мысленно перевоплотиться в жвачное животное. В конце концов существует же всесимпатия.
— Без сомнения, — согласился оторопевший Хуртадо. Он был несколько смущен моей высокопарной манерой выражаться; как будто можно в другой манере говорить о том, что подразумевается под всесимпатией. Но так как от смущения у него сделался вид унылый и поникший, то я поспешил ему напомнить о хозяине дома.
— Вы правы, маркиз. А я не смею вас здесь дольше удерживать. Прошу налево…
Слева по коридору находился кабинет Кукука. Он поднялся от письменного стола при нашем появлении, снял очки для работы со своих звездных глаз, и мне почудилось, будто я вижу эти глаза во сне. Приветствуя меня наисердечнейшим образом, он выразил удовольствие по поводу того, что случай уже свел меня с его женой и дочерью, а также по поводу состоявшегося между мной и ими уговора о сегодняшней встрече.
Несколько минут мы просидели за его столом, покуда он меня расспрашивал, где я остановился и каковы мои первые впечатления от Лиссабона. Затем он предложил:
— Не приступить ли нам к осмотру, маркиз?
Так мы и сделали. В большом зале перед оленем теперь стояли школьники, десятилетние ребята; учи-
668
тель рассказывал им об этом животном. Они с одинаковым почтением глядели то на оленя, то на своего наставника. Затем их повели вокруг зала, где вдоль стен стояли стеклянные ящики с коллекциями бабочек и насекомых. Мы около этих коллекций не остановились и прошли направо, в анфиладу комнат самой различной величины, где должно было получить полное, даже чрезмерное удовлетворение «почитание природы во всех ее проявлениях», которым я хвалился, — так плотно эти помещения были набиты созданиями, когда-либо вышедшими из ее лона, являя проникнутому «симпатией» взору все: от самых жалких и робких попыток до гармонически развитого и в своем роде совершенного. За стеклом был воссоздан кусок морского дна, где кишела первобытная органическая жизнь, еще растительная и временами принимавшая непристойные формы. А рядом хранились поперечные разрезы раковин из самых нижних слоев земли со следами сгнивших миллионы лет назад безголовых моллюсков, которым они служили защитой. Глядя на скрупулезную обработку внутренности этих раковин, оставалось только удивляться, до чего же искусна была природа уже в те доисторические времена.
Нам встречались отдельные посетители; они приобрели по общедоступной цене входные билеты и теперь бродили без всякого руководства, довольствуясь пояснительными надписями на португальском языке, которыми были снабжены экспонаты: скромное положение в обществе не давало им права на особое внимание. Они с любопытством оглядывались на нашу маленькую группу, видимо принимая меня за иностранного принца, которого с почетом встречает дирекция музея. Не стану отрицать, что мне это было приятно, к тому же я остро ощущал неизъяснимую прелесть контраста между моей изысканной элегантностью и чудовищной первобытностью окаменелых экспериментов природы, с которыми я успел уже познакомиться, — всех этих древнейших раков, головоногих, плеченогих, баснословно древних губок и морских звезд.
569
Больше всего волновала мое воображение мысль, что эти первые попытки, во всех своих, даже самых абсурдных проявлениях не лишенные собственного достоинства и самоцели, были, так сказать, предварительными экспериментами для создания меня, то есть человека, и это определило ту сдержанно-подтянутую осанку, с которой я представлялся голокожим остромордым морским ящерам; модель одной такой твари длиною в пять метров плавала в стеклянном бассейне. Этот голубчик, в натуре нередко превосходивший длину модели, был пресмыкающимся, но с рыбьим телом и несколько напоминал дельфина, хотя последний и принадлежит к классу млекопитающих. И вот это существо, валандающееся между двух классов, таращило на меня глаза, тогда как мои глаза, хотя профессор Кукук продолжал говорить о нем, уже устремлялись в два следующих помещения, где, пересекая их, высилась за бархатными поручнями гигантская фигура — динозавр в натуральную величину. Музеи и выставки, как правило, слишком много предлагают нашему вниманию, тогда как тихое, углубленное созерцание какого-нибудь одного из этого великого множества выставленных предметов куда больше говорило бы уму и сердцу[105]. Вот и получается, что едва подойдешь к одному экспонату, как твой взор уже находит следующий и твое внимание рассредоточивается; и так в продолжение всего осмотра. Впрочем, все это я говорю на основании однократного опыта, ибо впоследствии мне уже не доводилось посещать столь поучительные заведения.
Что касается непомерного существа, досадливо отвергнутого природой и столь тщательно восстановленного здесь на основании раскопанных останков, то в этом здании, собственно, не имелось ни одного зала, подходящего ему по размерам, ибо в нем — прости его господи! — было сорок метров длины. И хотя динозавру отвели два разделенных аркой помещения, но он уместился в них лишь благодаря тому, что все его члены были отлично и умело распределены по обоим залам. В одном мы прошли
570
мимо изогнувшегося гигантского голокожего хвоста, задних ног и небольшой части пузатого туловища; в следующем возле передней части этого животного был водружен древесный ствол — или, может быть, каменный столб? — на который бедняга, слегка приподнявшись не без чудовищной грации, опирался одной ногой, а его нескончаемая шея с малюсенькой головкой в печальном раздумье — если можно раздумывать воробьиным мозгом — склонялась к этой ноге.
Я был потрясен видом динозавра и мысленно говорил ему: «Не огорчайся! Конечно, ты был отвергнут природой, так сказать, скинут со счетов, но, вот видишь, мы тебя восстановили, мы еще думаем о тебе». Но даже на этом прославленнейшем экспонате музея мое внимание не могло целиком сосредоточиться, так как его отвлекали другие в высшей степени интересные предметы. Подвешенный к потолку, парил в воздушном пространстве летающий ящер, распростав свои кожаные крылья, а рядом, казалось, летела только что вышедшая из пресмыкающихся доисторическая птица с хвостом и когтистыми крыльями. Были тут и не живородящие, но яйцекладущие млекопитающие и тупорылые гиганты муравьеды, которых природа предусмотрительно оснастила панцирем из толстых костяных щитков на спине и боках. Но не обделила она и алчного их пожирателя — саблезубого тигра, дав ему такие могучие челюсти и клыки, что, с хрустом раскусывая костяной панцирь, он мог вырывать у муравьеда огромные куски его, надо думать, превкусного мяса. Чем больше и защищеннее делался строптивый хозяин, тем мощнее развивались челюсти и зубы гостя, который в предвкушении трапезы вскакивал ему на спину. Но когда наконец, рассказывал Кукук, климат и растительность сыграли злую шутку с гигантским муравьедом и он уже больше не находил скромного своего пропитания, то в не менее тяжелом положении оказался и саблезубый тигр; после столь долгого яростного соревнования он заодно со своими челюстями и сокрушительными клыками захирел и окончил земное существование. Он делал все, чтобы не отстать от быстрого роста муравьеда и не
571
утратить способности бойко разгрызать его панцирь. Тот же, со своей стороны, никогда не стал бы так огромен и не заковался бы в столь толстую броню, не будь охотников полакомиться его мясом. Но если природа хотела защитить его этим все более непробиваемым панцирем, то зачем она непрестанно укрепляла челюсти и клыки его врага? Значит, она стояла и за того, и за другого, или, вернее, ни за того, ни за другого, а только подшучивала над обоими и, доведя своих детищ до предела их возможностей, взяла да и покинула их в беде. Что, собственно, думает природа? Да ровно ничего.
И человеку нечего о ней раздумывать, ему остается только дивиться ее деятельному равнодушию и при этом направо и налево дарить свои чувства, когда он в качестве почетного гостя бродит среди бесконечно разнообразных ее созданий, модели которых, сработанные руками господина Хуртадо, наполняют музей профессора Кукука.
Мне были представлены мохнатый мамонт с загнутыми клыками, уже более не существующий, и носорог, закутанный в толстую складчатую кожу, который еще существует, хотя это и кажется невероятным. С ветвей склонялись и смотрели на меня неправдоподобно большими блестящими глазами полуобезьяны и ночная обезьянка, которая навеки осталась в моем сердце, такие, не говоря уж о глазах, у нее были прелестные ручонки, разумеется унаследовавшие свой костяк от древнейших сухопутных животных; и лемур с глазами, как плошки, с тонкими длинными пальчиками, которые он сжимал на груди, и необыкновенно разросшимися в ширину плоскими пальцами на задних конечностях. Природа, казалось, хотела рассмешить нас этими пальцами, но я воздержался даже от улыбки, глядя на них, ибо слишком уж очевидно все это восходило ко мне, хотя и в замаскированном, жалостно карикатурном виде.
Но разве я в силах воздать хвалу всем зверям, показанным в музее: птицам, вьющим гнездо цаплям, сумрачным совам, тонконогим фламинго, грифам и попугаям или крокодилу, тюленям, саламандрам и
572
бородавчатым жабам — одним словом, всему ползающему и летающему! Никогда мне не забыть одной лисички с лукавой мордочкой; и всех их — лису, рысь, ленивца и росомаху, даже ягуара на дереве, косившегося на меня зелеными лживыми глазами, ягуара, чья пасть свидетельствовала о том, что ему назначена кровавая, лютая роль, — всех мне хотелось ласково погладить по голове, что я и делал время от времени, хотя трогать экспонаты руками запрещалось. Но я-то мог позволить себе такую свободу. Мои спутники не без удовольствия смотрели, как я подал руку медведю, вставшему на дыбы, и ободряюще похлопал по плечу шимпанзе.
— Ну, а человек, — сказал я. — Господин профессор, вы же сулили мне человека. Где он?
— В подвале, — отвечал Кукук. — Если вы все уже достаточно рассмотрели здесь, то давайте спустимся к нему.
— Вы, наверно, хотели сказать «поднимемся», — сострил я.
Подвал освещался искусственным светом. Там, где мы проходили, в стенах за стеклом были устроены маленькие театры, пластические сцены в натуральную величину из ранней поры человечества, и перед каждой из них мы останавливались, выслушивая комментарии хозяина дома, иногда же, по моему настоянию, возвращались к уже пройденной, даже если мы раньше долго простояли перед ней. Благосклонный читатель, вероятно, помнит, как я в юности рылся в портретах предков, стремясь разыскать истоки своей незаурядно благообразной внешности, обнаружить первые намеки на меня самого. Изначальное, укрепившись, всегда возвращается в жизни, и я целиком погрузился в созерцание, как вдруг с бьющимся сердцем почувствовал, что мой пытливый взгляд наткнулся на нечто, целящееся в меня из бесконечной туманной дали. Боже милостивый, кто ж это там такие — маленькие, волосатые, испуганно сбились в кучку и, видно, обсуждают на щелкающем и воркующем праязыке, как им быть, как перебиться на этой земле, заполненной более силь-
573
ными, лучше вооруженными существами? Что же? В ту пору уже произошло отделение человека от животного или еще нет? Произошло, произошло, без всякого сомнения! За это говорили боязливая отчужденность и беспомощность волосатых человечков в чуждом мире, для которого они не были снабжены ни рогами, ни челюстями, разрывающими мясо, ни клыками, ни, наконец, костяными панцирями или железными крючковатыми клювами. И все же, по твердому моему убеждению, они уже знали и, присев на корточки, потихоньку говорили друг другу, что созданы из более благородного материала, нежели все остальные.
Перед нами открылась обширная пещера. В ней высекали огонь неандертальцы — коренастые люди с тяжелыми затылками, но уже безусловно люди. Хотел бы я посмотреть, как великолепнейший из лесных королей сумел бы высечь огонь! Королевской осанки для этого мало, тут должно примешаться что-то еще. Особенно тяжелым, срезанным затылком отличался старшина клана с лицом, заросшим волосами, и сутулой спиной; одно колено у него было ободрано до крови, руки непомерно длинны по его росту; одна из них держала за рога оленя, которого он убил и только что втащил в пещеру. Все они были короткошеи, длинноруки и уж очень нестройны[106], эти люди у огня: мальчик, почтительно взиравший на кормильца и добытчика, женщина, вышедшая из глубины пещеры с младенцем, который сосал ее грудь. Но вот что интересно: младенец выглядел совершенно так же, как выглядят грудные младенцы в наши дни, вполне современный ребенок и значительно превышающий уровень, достигнутый взрослыми, но, подрастая, он, видимо, должен был спуститься до них.
Я все смотрел и смотрел на неандертальцев, а потом никак не мог оторваться от чудака, который много сотен тысячелетий назад, скорчившись в пустой пещере, с непостижимым усердием покрывал ее стены изображениями буйволов, газелей и прочего зверья, а также людей, на него охотящихся. Его собратья, верно, и вправду охотились, а он сидел здесь,
574
писал на стене цветными соками, и его испачканная левая рука, которою он во время работы опирался о скалу, оставила на ней множество отпечатков, мелькавших среди изображений. Долго смотрел я на него, и когда мы уже двинулись дальше, меня потянуло обратно к усердному чудаку.
— Да у нас есть еще один такой, — сказал Кукук, — тот режет по камню по мере своих сил все, что ему мерещится.
И правда, склоненный над камнем и настойчиво режущий по нему, он тоже был очень трогателен. Но боевым, отважным был тот, кто за стеклом театрика с собаками и копьем наступал на дикого кабана, в свою очередь изготовившегося к бою по животному яростно, но, разумеется, и боязливо. Два пса курьезной, ныне уже не встречающейся породы (профессор Кукук назвал их болотными шпицами), которых приручил человек эпохи свайных построек, вспоротые клыками, уже валялись в траве, но кабану приходилось иметь дело со многими, меж тем как их господин, целясь, уже поднял копье, и, так как исход схватки не подлежал сомнению, то мы пошли дальше, предоставив кабана его злосчастной судьбе.
Теперь нам открылся прекрасный приморский ландшафт, среди которого рыбаки занимались своим бескровным, но хитроумным ремеслом: льняными сетями вытаскивали из моря богатый улов. Но уже чуть поодаль все выглядело совсем по-иному, чем виденное нами доселе: значительнее, знаменательнее, нежели у неандертальцев, у охотника за дикими кабанами, у рыбаков, выбирающих сети, и даже у ретивых чудаков. Множество каменных столбов выстроилось на берегу моря; они вздымались вверх, словно колонны огромного зала, ничем не накрытого, с небом вместо крыши. За ними простиралась равнина, и на краю света вставало багряное пылающее солнце. В этом открытом зале стоял мужчина могучего сложения и, воздев руки, протягивал солнцу охапку цветов. Где такое видано? Этот человек был не старик, не мальчик, а мужчина в расцвете сил. И то, что он был зрел и силен, сообщало его дей-
575
ствию особую, проникновенную нежность. Он и те, что жили вокруг него и по каким-то им одним ведомым причинам именно его избрали отправлять это таинство, еще не умели строить и накрывать строения крышей; они умели только, громоздя камень на камень, складывать столбы на куске земли, где вершил таинство могучий человек. Немудреные эти столбы не могли дать повода к высокомерию. Лисья или барсучья норы, не говоря уже о гнезде птицы, свидетельствуют о большем хитроумии и мастерстве. Но они служили только определенной цели — быть пристанищем и местом для выведения потомства. Пространство, уставленное столбами, не служило ни пристанищем, ни местом для выведения потомства. По замыслу оно было выше и, не предназначенное для житейского потребления, подымалось до высот благородной потребности, а это значило, что в природе появился кто-то, кому пришла мысль с любовью преподнести охапку цветов восходящему солнцу.
Голова моя горела, словно в жару, от напряженного вглядывания во все, что стояло вокруг, предъявляя одинаковые права на мое любвеобильное сердце. Потом я услышал, как профессор сказал, что мы все уже осмотрели и пора подыматься наверх, а потом еще и на гору на руа Жуан де Кастильюш, где дамы Кукук уже ждут нас к завтраку.
— Право, можно было позабыть обо всем на свете за этим осмотром, — сказал я, хотя ни на минуту ни о чем не забывал и, напротив, считал, что хождение по музею — лишь подготовка ко вторичному свиданию с матерью и дочерью, так же как разговор с профессором Кукуком в вагон-ресторане был подготовкой к осмотру музея.
— Господин профессор, — сказал я, пытаясь произнести нечто вроде заключительной речи. — За свою сравнительно короткую жизнь я видел не так уж много музеев, но что ваш музей один из самых захватывающе интересных — для меня не подлежит сомнению. Страна и город обязаны вам благодарностью за то, что вы создали его, я — за ваше личное руководство осмотром. Благодарю и вас от всего сердца,
576
господин Хуртадо. Ну кто бы еще мог так замечательно восстановить этого беднягу динозавра или вкусного гиганта муравьеда? Но как ни прискорбно мне уходить отсюда, а все-таки мы не имеем права заставлять сеньору Кукук и мадемуазель Зузу нас дожидаться[107]. Мать и дочь — это предмет, достойный размышления. Брат и сестра, конечно, тоже обаятельное сочетание. Но мать и дочь, я говорю это открыто, хотя рискую показаться уж слишком восторженным, мать и дочь — самое обаятельное двуединство на нашей планете.
Итак, передо мной открылись двери дома, где жил человек, до глубины души потрясший меня своими разговорами, дома на горе, к которому я, находясь в нижнем городе, уже не раз обращал свей взоры и который стал для меня еще привлекательнее благодаря нечаянному знакомству с его обитательницами — матерью и дочерью. Канатная дорога, расхваленная господином Хуртадо, и вправду быстро и удобно доставила нас наверх, почти к самой руа Жуан де Кастильюш, так что через несколько шагов мы уже стояли перед виллой Кукуков — домиком, выкрашенным белой краской, как почти все дома здесь на горе. Перед ним зеленел небольшой газон с клумбой посередине, внутри же он оказался скромным жилищем ученого, по своим размерам и убранству являвшим резкий контраст с роскошью моего жилья в этом городе, так что я не без чувства снисхождения рассыпался в похвалах великолепному виду из окон домика и уюту его комнат.
Правда, вскоре это чувство, заглушенное другим, еще более ярким контрастом, уступило место даже некоторой робости, а именно при появлении хозяйки дома сеньоры Кукук да Круц, которая приветствовала нас, вернее меня, на пороге своей маленькой скромной гостиной с таким достоинством, словно ее окружало великолепие княжеских чертогов. Впечат-
577
ление, накануне произведенное на меня этой женщиной, при новой встрече еще усилилось. Она позаботилась о том, чтобы предстать передо мной в другом туалете. Сегодня на ней было платье из прелестного белого муара с изящно скроенной и очень пышной юбкой, узкими, заложенными в складки, рукавами и черным бархатным шарфом на высокой талии. Старинный золотой медальон украшал ее шею цвета слоновой кости, которая своим чуть желтоватым оттенком, так же как и ее большое строгое лицо меж покачивающихся серег с подвесками, мягко контрастировала со снежной белизной платья. В пышных черных волосах, завитых надо лбом в несколько локонов, сегодня, когда она была без шляпы, явственно поблескивали серебряные нити. Но зато как безупречно сохранилась стройная прямизна ее фигуры с высоко вскинутой головой и глазами, почти усталыми от гордости и смотревшими на мир из-под полуопущенных век. Не скрою, эта женщина заставляла меня робеть, но благодаря тем же особенностям, что внушали мне робость, и бесконечно меня привлекала. Величие, доходившее почти до сумрачности, не было достаточно обосновано ее положением супруги ученого, хотя бы и очень заслуженного. Здесь проступало наружу некое кровное, расовое высокомерие, носившее несколько животный характер и именно потому такое волнующее.
Я, конечно, искал глазами Зузу, более близкую мне по
возрасту и кругу интересов, нежели сеньора
518
гих отозвалась довольно уничижительно, из чего я сделал вывод, что себя она считает отличной теннисисткой. Затем через плечо осведомилась, играю ли я в теннис; но так как в свое время во Франкфурте я только жался к забору, глядя, правда очень сосредоточенно, на игру элегантных молодых людей, да иногда, чтобы немножко подработать, бегал за далеко отлетавшими мячами и бросал их игрокам или даже клал им на ракетку, к чему и сводился весь мой теннисный опыт, — я поспешил ответить, что в свое время дома, в замке Монрефюж, считался неплохим игроком, но потом совершенно забросил теннис.
Она пожала плечами. О, как я радовался, что вновь вижу ее волосы, ниспадающие на уши, ее вздернутую верхнюю губку, сверкающие зубы, обворожительную линию подбородка и шеи и чувствую на себе суровый, пытливый взгляд ее черных глаз под ровными бровями! На ней было простое полотняное платьице с кожаным кушаком и короткими рукавами, почти не закрывавшими ее сладостных рук, рук, казавшихся мне еще прелестнее, когда она подымала их, чтобы поправить золотую змейку в волосах. Конечно, расовое величие сеньоры Марии-Пиа производило на меня огромнейшее впечатление, но мое сердце билось для ее обворожительной дочери, и идея, что Зузу — это Заза или будущая Заза Лулу Веносты, пустившегося в путешествие, все более укреплялась в моем мозгу, хотя я прекрасно отдавал себе отчет в неимоверных трудностях, возникавших на пути такого оборота событий. Ну разве достанет шести или семи дней, которые были в моем распоряжении, чтобы сломить такое равнодушие и запечатлеть поцелуй на этих губках, на этой восхитительной руке (с первобытным костяком)? В ту минуту мне и пришло на ум во что бы то ни стало продлить слишком короткий срок, изменить программу своего путешествия, пропустив один-другой пароход и таким образом, надо думать, все же преуспеть в отношениях с Зузу.
Какие только нелепые идеи не проносились в моей голове! Матримониальные намерения моего оставшегося дома «я» каким-то образом зароились у меня
579
в мозгу. Мне вдруг стало казаться, что самое для меня лучшее — обмануть своих люксембургских родителей, предписавших мне это путешествие «для отвлечения», жениться на восхитительной дочке профессора Кукука и в качестве ее супруга остаться в Лиссабоне; при этом мне было совершенно очевидно, что полнейшая зыбкость моего двойственного существования не дозволяет мне шутить такие шутки с действительностью, и это сознание причиняло мне боль. Но, с другой стороны, как же мне было отрадно предстать перед новыми друзьями в ранге, соответствующем моей тонкой субстанции!
Тем временем мы перешли в столовую, казавшуюся маленькой от несоразмерно огромного и украшенного аляповатой резьбой орехового буфета. Профессор занял председательское место; меня посадили рядом с хозяйкой дома; Зузу с господином Хуртадо сели напротив нас.
Весь во власти своих матримониальных и, увы, запретных мечтаний, я не без тревоги наблюдал за таким соседством. Мысль, что этот длинноволосый и обворожительное дитя — Зузу предназначены друг для друга, не давала мне покоя. Но мало-помалу я убедился в том, что отношения их носят самый непринужденный, дружеский характер, и волнение мое улеглось.
Немолодая горничная с густыми курчавыми волосами подавала к столу отлично приготовленные блюда. Завтрак состоял из всевозможных закусок (в том числе необыкновенно вкусные местные сардины) и бараньего жаркого, на десерт были поданы безе со сбитыми сливками, а затем еще фрукты и печенье с сыром. Все это полагалось запивать подогретым красным вином, которое дамы мешали с водой, профессор же вообще к нему не притрагивался. Он почему-то счел нужным заметить, что их скромный домашний стол, конечно, не может соперничать с кухней отеля «Савой палас», а Зузу, не дав мне даже рта раскрыть, воскликнула, что я волен был выбирать, где мне сегодня завтракать, и, конечно, не мог надеяться, что для меня здесь станут особенно
580
хлопотать. Положим, для меня похлопотали, но этот пункт я обошел молчанием и начал с того, что ни малейших оснований сожалеть о кухне моего отеля у меня не имеется, что я счастлив сидеть за столом в столь избранном семейном кругу и никогда не забуду, кому я обязан этой радостью и честью. Тут я поцеловал руку сеньоры, но смотрел я при этом на Зузу.
Она ответила мне твердым взглядом из-под чуть принахмуренных бровей, губы у нее были приоткрыты, ноздри трепетали. Я с удовольствием отметил, что душевное спокойствие, характерное для ее обхождения с доном Мигелем, отнюдь не переносилось на обхождение со мной. Она не сводила с меня глаз, не скрываясь, наблюдала за каждым моим движением и откровенно прислушивалась к каждому моему слову, заранее готовая вспыхнуть и сказать какую-нибудь колкость; при этом она ни разу даже не улыбнулась, а только изредка отрывисто и презрительно выдыхала воздух через нос. Короче говоря, мое присутствие побуждало ее к какой-то своеобразной ершистости, даже раздражительности. И кто поставит мне в упрек, что эта, пусть враждебная, заинтересованность в моей особе казалась мне более приятной и обнадеживающей, нежели безразличие!
Разговор, который велся по-французски, хотя мы с профессором изредка обменивались двумя-тремя немецкими словами, и вращался вокруг музея, впечатлений, внушивших мне чувство всесимпатии, а также предстоящего нам посещения ботанического сада, вскоре коснулся темы архитектурных достопримечательностей в окрестностях Лиссабона, которыми мне советовали ни в коем случае не пренебрегать. Я уверял, что меня снедает любопытство и что я ни на минуту не забываю о совете моего достоуважаемого спутника не ограничиваться беглым осмотром Лиссабона, но выкроить побольше времени для основательного ознакомления с ним. Хотя с временем-то у меня как раз и обстоит туговато — в моем маршруте не предусмотрена длительная задержка в Лиссабоне, — но теперь я уже начинаю прикидывать, как бы мне продлить свое здешнее пребывание.
581
Зузу, которой нравилось высказываться обо мне в третьем лице, как будто меня здесь и не было, язвительно заметила, что принуждать m-r le marquis к основательности просто жестоко. По ее мнению, это значило бы действовать наперекор всем моим привычкам, без сомнения смахивающим на привычки мотылька — порхая от цветка к цветку, высасывать капельки сладости.
— Как это приятно, — отвечал я, подделываясь под тон ее речей, — что мадемуазель так старается, хотя и не всегда успешно, вникнуть в мой характер, и тем более приятно, что она говорит обо мне в столь поэтических образах.
Тут она еще ядовитее заметила, что когда чья-нибудь особа излучает столько блеска, то о ней волей-неволей приходится говорить в поэтических образах. Из этих слов явствовало, что она сердится и упорно настаивает на однажды уже высказанном утверждении: «вещи надо называть своими именами» и «молчание вредно». Профессор и господин Хуртадо рассмеялись, а мать попыталась сдержать строптивую дочку, укоризненно покачав головой. Что касается меня, то я торжественно поднял свой бокал и протянул его к Зузу, она же, смешавшись от злости, схватилась было за свой, но, покраснев, отдернула руку и опять надменно выдохнула воздух своим прелестным носиком.
Разговор снова завертелся вокруг моих дорожных планов, грозивших так безжалостно сократить срок моего пребывания в Лиссабоне, но главным образом вокруг семейства аргентинских скотопромышленников, с которым мои родители свели знакомство в Трувиле и которое теперь с гостеприимным нетерпением поджидало меня на своем ранчо. Я выложил о них все сведения, которые мне успел сообщить Веноста-домосед. Эти люди, собственно, носили обыкновеннейшую фамилию Мейер, но звались еще и Новаро, ибо таково было имя детей фрау Мейер от первого брака — сына и дочери. Родом из Венесуэлы, рассказывал я, она совсем еще девочкой вышла замуж за видного аргентинского чиновника, который был убит во время ре-
582
волюции 1890 года. После годичного траура она отдала свою руку богачу консулу Мейеру и вместе с маленькими Новаро последовала за ним в его городской дом в Буэнос-Айресе, а затем и в расположенное высоко в горах ранчо «Приют», ставшее почти постоянным местопребыванием всего семейства. Весьма значительная вдовья пенсия госпожи Мейер после ее второго замужества перешла к детям, так что эти молодые люди, если не ошибаюсь, погодки семнадцати и восемнадцати лет, были теперь не только единственными наследниками богатого Мейера, но и обладателями собственного состояния.
— Сеньора Мейер, вероятно, красавица? — поинтересовалась Зузу.
— Мне это неизвестно, мадемуазель. Но раз ей удалось так скоро обзавестись новым женихом, то надо полагать, что она недурна собою.
— То же самое, по-вашему, надо полагать и о ее детях, этих самых Новаро? Как, кстати, их зовут?
— Я не припомню, чтобы родители называли мне их имена.
— Бьюсь об заклад, что вам очень не терпится узнать их.
— Зачем?
— Не знаю, только вы с нескрываемым интересом говорили об этой парочке.
— Этого я за собой не заметил, — отвечал я, уязвленный в глубине души.
— Я ведь не имею ни малейшего представления об этих молодых людях, но не буду отрицать, что двуединый образ брата и сестры всегда представлялся мне обаятельным.
— Сожалею, что мне пришлось предстать перед вами одинокой и в единственном числе.
— Во-первых, — с поклоном отвечал я, — в единственности тоже немало обаяния.
— А во-вторых?
— Во-вторых? Я нечаянно сказал «во-первых». И никакого «во-вторых» не знаю. Разве что, конечно, существуют и другие очаровательные комбинации, кроме сестры и брата.
585
— Па-та-ти-па-та-та!
— Не надо так говорить, Зузу, — вмешалась мать в нашу словесную перепалку. — Что подумает маркиз о твоем воспитании?
Я поспешил заверить, что мои мысли о мадемуазель Зузу не так-то легко выбить из уважительной колеи. С завтраком как раз было покончено, и мы перешли пить кофе в гостиную. Профессор объявил, что не может принять участия в нашей ботанической прогулке, так как должен вернуться к себе в музей. Мы все вместе спустились в город, но на авенида да Либердада он с нами распрощался, с искренней теплотой пожав мне руку — надо думать, в знак благодарности за живой интерес к его музею. Он сказал, что я очень приятный, очень желанный гость в его доме и останусь таковым на все время моего пребывания в Лиссабоне. Если у меня выберется время и я захочу «тряхнуть стариной» и сыграть партию-другую в теннис, то его дочь с удовольствием введет меня в местный клуб теннисистов.
Зузу с воодушевлением подтвердила его слова.
Еще раз пожимая мне руку, он с добродушно-снисходительным видом кивнул в ее сторону, как бы и меня прося о снисхождении.
С того места, где мы распрощались с профессором, и правда было рукой подать до волнистых холмов, среди которых по берегам прудов, и озер, в гротах и на залитых солнцем отлогих склонах раскинулись знаменитые насаждения — цель нашего похода. Двигались мы в различном порядке; иногда дон Мигель и я шли по бокам сеньоры Кукук, а Зузу быстро шагала впереди. Потом я вдруг оказывался один подле горделивой дамы; Зузу и Хуртадо мелькали в отдалении. Случалось нам оставаться и вдвоем с Зузу, так что за нами или перед нами шествовала сеньора с дермопластиком, который, впрочем, чаще шел возле меня, стремясь растолковать мне особенности здешнего ландшафта, чудеса этого растительного мира, и, признаюсь, так мне было всего приятнее, конечно, не из-за «чучельщика» и его объяснений, а потому, что пресловутое «во-вторых», которое я так
584
рьяно отрицал, являлось мне тогда в обворожительном сочетании матери и дочери.
Здесь будет уместно заметить, что природа, какой бы обольстительной и достопримечательной она ни была, не может занять наше внимание, если оно целиком обращено на «человеческое». Несмотря на все свои претензии, она — только кулисы, декорация. Но надо отдать ей справедливость: здесь она действительно заслуживала всяческого признания. Гигантские кониферы, достигавшие пятидесяти метров в высоту, повергали меня в изумление. Местами этот очаровательный уголок земли, изобиловавший веерными и перистыми пальмами из всех частей света, своей буйно переплетающейся растительностью напоминал девственный лес. Экзотические тростники, бамбук и папирус окаймляли искусственные озерца, по водам которых плавали пестроперые утки. То тут то там в темной зелени мелькали густые околоцветники, из которых вздымались огромные початки бутонов. Древовидные папоротники — эта древнейшая растительность земли — местами образовывали путаные и неправдоподобные рощи с неистово разросшимися корнями и стройными стволами, над которыми вздымались листья, густо обсыпанные коричневыми спорами.
— На земле насчитывается очень мало уголков, — заметил Хуртадо, — где еще произрастают древовидные папоротники. Вообще же папоротнику, не знающему цветения, да, собственно, и не имеющему семян, народные поверья с древнейших времен приписывают таинственные и чудесные свойства, и прежде всего способность любовной ворожбы.
— Фу! — фыркнула Зузу.
— Что вы хотите этим сказать, мадемуазель? — осведомился я. — Я просто удивляюсь, почему деловито научное упоминание о «любовной ворожбе», ничуть не уточненное, у вас вызвало столько эмоций. Какое из этих двух слов возмутило вас? Любовь или ворожба?
Она не отвечала, только смерила меня гневным взглядом и даже сделала какое-то угрожающее движенье головой.
585
Тем не менее вышло так, что я очутился рядом с нею, и мы пошли следом за зверевосстановителем и расово гордой maman.
— Любовь и сама по себе ворожба, — сказал я. — Что ж удивительного, что первобытные люди, так сказать, люди папоротниковой эпохи, которые, конечно, имеются и сейчас, ибо на земле все существует одновременно и вперемешку, пробовали ворожить при помощи папоротниковых листьев?
— Это непристойная тема, — оборвала она меня.
— Любовь? Как жестоко вы это сказали! Красота вызывает любовь. Чувства и мысли тянутся к ней, как венчик цветка к солнцу. Не думаете же вы исчерпать красоту вашим односложным восклицанием?
— По-моему, это пошлость — при красивой внешности наводить речь на красоту.
Такая прямота заставила меня ответить следующее:
— Вы очень злы, сударыня. Неужели же человека с благопристойной внешностью следует карать, лишая его права на восхищение? По-моему, безобразие скорей заслуживает кары. Я лично, из врожденного уважения к свету, на который мне предстояло явиться, всегда воспринимал уродство как своего рода пренебрежительное к нему отношение и, образуясь, порадел о том, чтобы не оскорблять его взгляда. Вот и все. Я считаю это признаком внутренней дисциплинированности. Вообще же тому, кто сидит в стеклянном домике, не пристало бросаться камнями. Вы сами так красивы, Зузу, так обворожительны ваши волосы, спущенные на маленькие ушки. Я не могу досыта наглядеться на них, Зузу, и даже успел уже их зарисовать.
Я не солгал. После завтрака в нише моего элегантного салона, куря сигарету, я пририсовал к изображениям нагой Заза, сделанным рукою Лулу, спущенные на уши локоны Зузу. — Что! Вы позволили себе меня зарисовать? — сквозь зубы прошипела она.
— Ну да, с вашего разрешения, вернее, без оного. Красота — это не частная собственность, а всеобщее
586
достояние, достояние сердца. Она не может помешать возникновению чувств, ею возбуждаемых, и не может запретить попытки воссоздать ее.
— Я хочу видеть этот рисунок.
— Не знаю, можно ли это сделать, вернее, хватит ли у меня на то смелости.
— Меня это не касается. Я требую, чтобы вы передали мне ваш рисунок.
— Это не один, а множество рисунков. Я подумаю, когда и где мне можно будет их вам показать.
— «Когда» и «где» как-нибудь устроится. О «можно» и речи нет. Сделанное вами за моей спиной — все равно моя собственность, а то, что вы сейчас сказали о «всеобщем достоянии», — это уж просто… бесстыдство.
— Меньше всего я хотел обидеть вас, и я в отчаянии, если вы считаете мой поступок невоспитанным. Я сказал «достояние сердца», и разве же это не так? Красота беззащитна перед нашими чувствами. Пусть они ее не затрагивают, не волнуют, ни в какой мере ее не касаются, а все-таки она перед ними беззащитна.
— Вы что, не можете подыскать другую тему для разговора?
— Другую тему? Весьма охотно! Или, вернее, не охотно, но с легкостью. Например, — я заговорил громко и нарочито «светским» голосом, — разрешите узнать, не знакомы ли вам и вашим уважаемым родителям господин и госпожа де Гюйон, то есть люксембургский посланник и его супруга?
— Нет, какое нам дело до Люксембурга.
— Вы опять правы. Но я обязан был нанести им визит. Я знал, что это будет приятно моим родителям. Теперь мне остается ждать приглашения на завтрак или на обед в посольство.
— Желаю вам веселиться.
— Все это я делаю не без умысла. Мне хотелось бы при посредстве господина де Гюйона быть представленным ко двору.
— Этого только недоставало! Значит, вы еще и царедворец!
— Если вам угодно так это назвать. Я долго жил
587
в буржуазной республике, и как только выяснилось, что мой путь лежит через королевство, я про себя решил добиться аудиенции у монарха. Можете называть это ребячеством, но я испытываю прямо-таки потребность склониться так, как склоняются только перед королем, и в разговоре то и дело прибегать к обращению «ваше величество». «Сир! Прошу ваше величество принять всеподданнейшую благодарность за милость, оказанную мне вашим величеством…» — и так далее. Еще больше бы мне хотелось получить аудиенцию у папы, и со временем я ее непременно себе исхлопочу. Там ведь даже преклоняют колена — для меня это будет истинным наслаждением — и говорят: «Ваше святейшество».
— Вы, маркиз, кажется, собрались рассказывать мне о своей потребности в ханжестве.
— Не в ханжестве. В красивой форме.
— Па-та-ти-па-та-та! На самом деле вы просто хотите произвести на меня впечатление своими связями, приглашением в посольство, тем, что перед вами открыты все двери и что вы вращаетесь в высших сферах.
— Ваша мама запретила вам говорить мне «пата-ти-па-та-та». Вообще же…
— Maman! — крикнула она так, что сеньора
— Если ты ссоришься с нашим юным гостем, — отвечала иберийка своим благозвучным, хотя и чуть глуховатым альтом, — то я не позволю тебе больше идти с ним. Поди вперед с доном Мигелем. А я уж постараюсь занять маркиза.
— Позвольте вас заверить, madame, — сказал я, после того как состоялся этот обмен кавалерами,— что никакой ссоры и в помине не было. По-моему, нет человека, который бы не пришел в восхищение от очаровательной прямоты мадемуазель Зузу.
— Мы оставили вас в обществе этого ребенка на слишком долгий срок, милый маркиз, — отвечала царственная иберийка с качающимися подвесками
588
в ушах. — Юность обычно слишком молода для юности. Общение со зрелостью для нее если не приятнее, то, во всяком случае, уместнее.
— Такое общение, разумеется, большая честь,— осторожно отвечал я, пытаясь внести некоторую долю теплоты в это чисто формальное утверждение.
— Итак, мы закончим прогулку вдвоем с вами. Скажите, маркиз, было ли вам здесь интересно?
— В высшей степени. Я получил неописуемое наслаждение. И одно мне ясно: никогда бы я не наслаждался так интенсивно, никогда бы не был так восприимчив к впечатлениям, ожидавшим меня в Лиссабоне, впечатлениям от вещей и людей, вернее — от людей и вещей, без той подготовки, которую даровала мне благосклонная судьба в лице вашего достоуважаемого сеньора супруга. Разговор, состоявшийся у нас в пути, если, конечно, можно назвать разговором, когда один из двух собеседников остается лишь восторженным слушателем, был той палеонтологической вспашкой, которая разрыхлила почву для восторженного восприятия этих впечатлений, и в первую очередь расовых. Ведь это от вашего супруга я узнал о прарасе, о том, как в самые различные эпохи вливалась в нее кровь других интереснейших рас и как в результате нашим глазам явились существа, горделивые по самой своей крови…
Я перевел дыхание. Моя спутница громко откашлялась, не утратив при этом величия осанки.
— И с тех пор, — продолжал я, — приставка «пра», le primordial1, не выходит у меня из головы. Это следствие палеонтологической вспашки, о которой я уже упоминал. Не будь ее, что значили бы для меня эти древовидные папоротники, даже после того как я услышал, что по древнему поверью они служат для любовной ворожбы. С того разговора все стало для меня значительным: вещи и люди… Я хочу сказать: люди и вещи…
— Подлинным объяснением такой восприимчивости, милый маркиз, собственно, является ваша юность…
589
— Как удивительно звучит в ваших устах слово «юность», сеньора! Вы выговариваете его с добротой зрелости. А мадемуазель Зузу только досадует на юность, тем самым подтверждая ваше замечание, что юность обычно слишком молода для юности. В известной мере это относится и ко мне. Юность сама по себе не вызвала бы во мне того восхищения, которое в эти дни переполняет мою душу. Мне выпало счастье лицезреть красоту в двойном аспекте — в полудетском ее цветении и в царственном величии зрелости…
Одним словом, я говорил чудо как красиво, и мое многословие отнюдь не заслужило порицания. Ибо, когда я стал прощаться у станции канатной дороги, которая должна была вновь доставить моих спутников на виллу Кукук, сеньора обронила, что надеется еще иметь случай увидеть меня до отъезда, и напомнила мне предложение дона Антонио «тряхнуть стариной» и сыграть в теннис с Зузу и ее друзьями по спортивному клубу. Мысль эта показалась мне довольно дельной.
И правда. Это была дельная, хотя и дерзновенная мысль. Я вопросительно взглянул на Зузу, и так как ее лицо и пожатие плеч возвестили мне строгий нейтралитет, делавший мое согласие не вовсе невозможным, то мы тут же на месте договорились послезавтра встретиться на теннисной площадке, после чего мне было предложено «на прощанье» вновь разделить трапезу с семейством Кукук. Склонившись к руке Марии-Пиа, а затем и ее дочери и обменявшись самым дружественным рукопожатием с доном Мигелем, я пошел своей дорогой, обдумывая, как сложится ближайшее мое будущее.
Лиссабон, 25 августа 1895 г.
Дорогие родители! Милая, милая мама! Уважаемый и любимый папа!
Довольно большой промежуток отделяет это письмо от телеграммы, в которой я извещал вас о своем
590
прибытии сюда, так что боюсь, вы на меня уже сердитесь. И рассердитесь тем более — увы, я в этом уверен, — прочитав дату в начале письма, которая расходится с вашими ожиданиями, нашими совместными решениями и даже собственными моими намерениями. Вы, вероятно, думаете, что я уже десять дней нахожусь в открытом море, а я пишу вам все еще из первого города на моем пути, то есть из португальской столицы. Сейчас, дорогие мама и папа, я объясню вам как мое долгое молчание, так и нечаянные обстоятельства, которые привели к этой задержке, и надеюсь, что тем самым в корне пресеку ваше неудовольствие.
Началось все с того, что я познакомился в поезде с выдающимся ученым — неким профессором по имени Кукук, чьи речи, несомненно, захватили бы и потрясли вас не меньше, чем вашего сына.
Немец по рождению, о чем красноречиво свидетельствует его имя, из герцогства Кобург-Гота — как и ты, милая мама, — из хорошей семьи, хотя, конечно, не «из семьи», он избрал своей специальностью палеонтологию, женился на здешней уроженке и, осев в Лиссабоне, стал основателем и директором естественно-исторического музея, который я осматривал под личным его руководством. Экспонаты этого музея взволновали меня до глубины души и в палезоологическом и в палеантропологическом отношении (эти термины вам, конечно, знакомы). Кукук первый посоветовал мне не относиться легкомысленно к началу моего кругосветного путешествия только потому, что это начало, и не ограничиваться беглым осмотром Лиссабона. Он был прямо-таки огорчен, узнав, что в моем распоряжении имеется столь краткий срок для знакомства с тамошними достопримечательностями (назову хотя бы древовидный папоротник в Лиссабонском ботаническом саду, произраставший еще в каменноугольную эру). Когда вы, дорогие мои родители, по своей доброте и мудрости предписали мне это путешествие, то, конечно, вы имели в виду не только отвлечь меня от
591
вздорных замыслов (вы видите, я уже признаю их вздорными), которым я предавался по молодости лет, но расширить мой кругозор и таким образом завершить воспитание молодого человека. Так вот это последнее ваше намерение, несомненно, увенчается успехом благодаря тому, что я дружественно принят в семействе Кукук, ибо все три, вернее даже четыре его члена (к семейству следует причислить и научного сотрудника профессора — господина Хуртадо, дермопластика, если вам что-нибудь говорит это слово), конечно в очень различной степени, способствуют расширению моих горизонтов.
Признаться откровенно, дамы этого дома мне не очень по душе. Теплые отношения у меня с ними за все это время не установились и, по-моему, уже не установятся. Сеньора, урожденная да Круц, — истая иберийка, особа строгая, внушительная и уж очень высокомерная, хотя причины этого высокомерия мне, по правде говоря, не совсем ясны; дочка, моя ровесница или чуть помоложе меня — я никак не могу запомнить ее имени, — барышня, которую поневоле хочется причислить к семейству иглокожих, до того колюче она себя ведет. Упомянутый мною дон Мигель (Хуртадо), если я по неопытности не обманываюсь, в будущем, видимо, станет ее супругом, и, откровенно говоря, я не уверен, что ему можно позавидовать.
Нет, я ищу общества только хозяина дома — профессора Кукука и отчасти его ассистента, глубоко сведущего в мире животных, реконструктивному таланту которого многим обязан музей. Эти два человека, и в первую очередь, конечно, К., так широко способствуют моему образованию, столь многое открывают мне, что эти открытия и поучения, выходя далеко за пределы знакомства с Лиссабоном и его архитектурными достопримечательностями, касаются буквально всего бытия, из которого в результате празачатия возникла органическая жизнь, иными словами, охватывают все творение в целом, от камня до человека. Оба этих ученых, которые видят во мне (и по праву) нечто вроде морской лилии, отделив-
592
шейся от своего стебля, то есть неофита-путешественника, нуждающегося в советах и поучении, и побудили меня, вопреки нашей программе, застрять в Лиссабоне, одобрения чему я и прошу у вас, дорогие родители, с сыновней почтительностью, хотя, если уж говорить начистоту, истинной причиной моей задержки явились все-таки не они.
Внешним поводом для нее послужило следующее. Я считал долгом вежливости и думал, что поступлю в соответствии с вашими желаниями, если, прежде чем покинуть Лиссабон, оставлю свою карточку у нашего дипломатического представителя господина де Гюйона и его супруги. Более того, я счел желательным выполнить эту формальность в первый же день моего приезда, но, принимая во внимание время года, не ждал от своего визита никаких последствий. Тем не менее через два или три дня мне в отель пришло приглашение от посланника отужинать у него в мужском обществе; видимо, этот ужин был намечен еще до моего приезда и должен был состояться почти в канун отбытия моего парохода. Таким образом, мне не понадобилось бы менять срок своего пребывания здесь, даже если бы я хотел воспользоваться этим приглашением.
Я воспользовался им, дорогие мама и папа, и провел в нашем посольстве на руа Аугуста весьма приятный вечер. Желая доставить вам радость, не скрою, что на этом вечере я решительно пользовался успехом, который всецело отношу за счет полученного мною воспитания. Прием был устроен в честь румынского принца Иоанна-Фердинанда, молодого человека чуть постарше меня, который сейчас пребывает в Лиссабоне вместе со своим воспитателем полковником Цамфиреску. Приглашены были одни мужчины, потому что госпожа де Гюйон находится на португальской Ривьере, супруг же ее из-за ряда неотложных дел вынужден был прервать свой отпуск и возвратиться в столицу. Число гостей было ограничено— человек десять, не больше, и все же прием носил довольно торжественный характер: лакеи — в коротких штанах и в обшитых галунами ливреях,
593
гости, в честь принца, — во фраках и при регалиях. Признаться, я с удовольствием смотрел на кресты и звезды этих сановитых людей, почти поголовно превосходивших меня годами, с удовольствием и даже не без известной зависти к столь почтенным украшениям на фраках. Впрочем, не льстя ни вам, ни себе, должен заметить, что я в своем неукрашенном фраке, едва переступив порог гостиной, уже завоевал симпатии хозяина дома и гостей не только своим именем, но достойной его непринужденной любезностью и светскостью.
За ужином в столовой с деревянными панелями, в кругу всех этих иностранных и отечественных дипломатов, военных и негоциантов, среди которых находился австро-венгерский советник посольства в Мадриде некий граф Фестетих, живописно выделявшийся своей опушенной мехом национальной венгерской одеждой, сапогами с отворотами и кривой саблей, я оказался за столом между бородатым капитаном бельгийского фрегата и крупным португальским виноторговцем с усталым лицом, чьи величаво небрежные манеры свидетельствовали о немалом богатстве; общество для меня несколько скучноватое, ибо разговор довольно долго вращался вокруг политических и экономических предметов, так что я принимал в нем хотя и оживленное, но чисто пантомимическое участие. Но затем сидевший наискосок от меня принц с одутловатым скучливым лицом, заикаясь и пришепетывая, втянул меня в разговор о Париже, вскоре ставший всеобщим (ибо кому не хочется поговорить о Париже), в котором я, ободренный не слишком внятным бормотанием его высочества, позволил себе некоторое время играть первую скрипку. После ужина, когда мы уютно расположились в курительной комнате за кофе и ликерами, мне как-то само собой досталось место подле высокого гостя, по другую сторону которого сел хозяин дома. Безукоризненная, но и бесцветная внешность господина де Гюйона, его лысеющий череп, водянисто-голубые глаза и тонкие, вытянутые щипцами усы вам, несомненно, знакомы. Иоанн-Фердинанд почти совсем к нему не
594
обращался, предоставив мне одному занимать свою особу, что, видимо, пришлось по вкусу нашему хозяину. Надо думать, что и мое неожиданное приглашение объяснялось желанием господина де Гюйона развлечь принца обществом сверстника, по своему рождению достойного составить ему компанию.
Надо сказать, что я и вправду превосходно занимал его, к тому же простейшими средствами, самыми для него подходящими. Я рассказывал принцу о своем детстве и отрочестве у нас в замке, о дряхлости нашего славного Радикюля и при этом воспроизводил его походку, а принц захлебывался от восторга, узнавая в нем незадачливую услужливость своего старого камердинера в Бухаресте, перешедшего к нему от отца. Рассказывал я, милая мама, и о невероятном жеманстве твоей Аделаиды и под восторженное хихикание принца показал, как она старается не ходить, а парить, словно сказочная фея; о собаках — Фрипоне, о том, как он скрежещет зубами, когда у Миниме наступают известные периоды, и о ней самой с ее роковой склонностью, особенно опасной в болонке и не раз уже гибельно отражавшейся на твоих платьях, мама. В мужской компании я мог себе позволить рассказать об этом так же, как и о «зубовном скрежете» Фрипона — о, конечно, в самых изысканных выражениях. Оправданием мне послужили слезы, которые отпрыск королевского дома, задыхаясь от смеха, то и дело отирал со своих щек, слушая о деликатной слабости бедняжки Миниме. Есть что-то трогательное, когда такое косноязычное и потому как бы «заторможенное» существо предается буйной веселости.
Возможно, милая мама, ты почувствуешь себя уязвленной, что я выставил на потеху обществу слабое здоровье твоей любимицы, но эффект, которого я этим достиг, безусловно примирил бы тебя с такой нескромностью.
Все предались безудержному веселью, а принца просто скорчило пополам, так что крест, висевший у него на воротнике мундира, заболтался в воздухе.
595
Меня наперебой стали упрашивать повторить рассказ о Радикюле, Аделаиде и Миниме. Венгерец с меховой опушкой так колотил себя ладонью по ляжке, что ему, верно, было очень больно, у дородного и за свое богатство усыпанного орденскими звездами виноторговца от хохота отскочила пуговица на жилете, а на лице нашего посланника изображалось живейшее удовольствие.
Следствием всего этого было, что по окончании soirée1[108], оставшись со мной наедине, он предложил представить меня его величеству королю Карлосу I, который тоже в настоящее время находится в столице, о чем я мог судить по развевающемуся над дворцом флагу Браганца. В какой-то степени он считает своей обязанностью, пояснил господин де Гюйон, представить монарху находящегося здесь проездом сына знатных люксембуржцев, к тому же — так он выразился — являющегося весьма «приятно одаренным» молодым человеком. Он просил меня иметь в виду, что благородная душа короля — душа художника, ибо его величество время от времени пишет маслом, и одновременно душа ученого — его величество любитель океанографии, то есть науки о море и населяющих его живых существах. Эта душа находится в состоянии несколько подавленном под влиянием политических забот, которые обрушились на его величество сразу же после вступления на престол шесть лет назад вследствие расхождения португальских и английских интересов по вопросу владений в Центральной Африке. В то время уступчивость короля восстановила против него общественное мнение, так что он был даже обрадован английским ультиматумом, позволившим португальскому правительству уступить требованиям Великобритании после официально заявленного протеста. Тем не менее в ряде португальских городов возникли досадные беспорядки, а в Лиссабоне пришлось даже подавлять республиканское восстание. И ко всему этому еще роковой дефицит португальских железных дорог, три
596
года назад приведший к тяжкому финансовому кризису и к акту государственного банкротства, то есть к декретированному сокращению государственных обязательств на две трети! Такое стечение обстоятельств значительно повысило шансы республиканской партии и помогло радикальным элементам страны в их разрушительной работе. Его величеству довелось, и не однажды, узнавать о том, что полиция своевременно напала на след заговорщиков, злоумышлявших против его особы. Мое представление ко двору, нарушив ежедневную рутину официальных аудиенций, могло бы благотворно подействовать на августейшего печальника. Господин де Гюйон добавил, что мне, со своей стороны, надо постараться, если к тому представится малейшая возможность, навести разговор на Миниме, доставившей сегодня вечером такое большое удовольствие бедному принцу Иоанну-Фердинанду.
Вы поймете, милые мама и папа, что для меня, при моих роялистских убеждениях и энтузиастическом стремлении (о котором вы, может быть, и не подозревали) склониться перед легитимным государем, предложение нашего посланника имело немалую притягательную силу. Этому проекту препятствовало только то досадное обстоятельство, что для исхлопотания аудиенции потребно было время от четырех до пяти дней, то есть больше, чем оставалось до отплытия «Кап Арконы». Что мне было делать? Желание предстать перед королем, воссоединившееся с увещаниями моего ученого ментора Кукука не ограничиваться беглым осмотром такого города, как Лиссабон, в последнюю минуту заставило меня решиться пропустить этот пароход, с тем чтобы уехать на следующем. Я отправился в пароходное агентство и там узнал, что на следующий пароход этой же линии — «Амфитрита», который должен отбыть из Лиссабона недели через две, почти все каюты уже разобраны и что вдобавок комфортабельностью он сильно уступает «Кап Аркона», так что ехать на нем мне как бы и не пристало. Тамошний клерк посоветовал дождаться возвращения «Кап Арконы», которое состоится
597
недель через шесть или семь, считая от пятнадцатого сего месяца, заявив о том, что я откладываю свою поездку до следующего рейса, и, следовательно, пробыть в Лиссабоне до конца сентября или даже до первых чисел октября.
Вы, дорогие родители, меня знаете. Не склонный долго колебаться, я согласился с предложением клерка, отдал необходимые распоряжения и, само собой разумеется, немедленно отправил корректнейшую телеграмму вашим друзьям Мейер-Новаро с извещением о задержке и с просьбой не ждать меня раньше октября.
Таким образом, в моем распоряжении остался срок даже более длительный, чем тот, какого я желал для пребывания в Лиссабоне. Но да будет так! В отеле я, по правде говоря, устроен вполне сносно, а в поучительных развлечениях у меня здесь не будет недостатка до самого моего отбытия. Итак, смею ли я надеяться, что вы одобрите мой поступок? В противном случае я лишился бы душевного спокойствия. Но я думаю, что вы задним числом охотно дадите мне свое согласие, тем более услышав, как удачно для меня прошла теперь уже состоявшаяся аудиенция у его величества. Господин де Гюйон заблаговременно известил меня о всемилостивейшем изволении его величества и в собственном экипаже заехал за мной, чтобы везти меня во дворец, где внешняя и внутренняя стража благодаря его аккредитованное™ при дворе и парадному дипломатическому мундиру не только не остановила нас, но торжественно взяла на караул. По широкой лестнице с двумя кариатидами, в мучительно напряженных позах стоящими у ее подножия, мы поднимаемся в анфиладу приемных зал, уставленных бюстами прежних королей, изобилующую картинами и сияющими хрустальными люстрами, которая ведет в королевскую аудиенц-залу. Медленно проходим мы по этим покоям из одного в другой, и уже во втором из них нас останавливает дежурный чиновник гофмаршальской части и приглашает обождать. Если бы не роскошь, царившая вокруг, то все это походило бы на прием у знаменитого врача, который никак не мо-
598
жет точно соблюсти часы, так как пациенты, задерживаясь у него в кабинете, задерживают тех, что идут вслед за ними. Эти покои были полны сановников, отечественных и иноземных, в мундирах и во фраках; стоя небольшими группами, они тихо переговаривались между собой или скучали, сидя на диванах вдоль стен. Каких я только здесь не насмотрелся плюмажей, орденов, золотого шитья. В каждой следующей зале посланник, обменявшись учтивым приветствием с тем или другим из знакомых ему дипломатов, спешил меня представить, и так как я всякий раз наново убеждался в своем уменье поддержать светский разговор (что мне было приятно), то время ожидания, минут сорок, если не больше, пролетело очень быстро.
Наконец флигель-адъютант, с шарфом через плечо и со списком в руке, попросил нас встать у двери, ведущей в кабинет его величества и охраняемой лакеями в пудреных париках. Оттуда навстречу нам вышел пожилой господин в мундире генерала королевской гвардии, видимо явившийся благодарить короля за какую-то милость. Адъютант вошел в кабинет, чтобы доложить о нас, и лакеи почти тотчас же распахнули золоченые створки двери.
Король, которому едва ли за тридцать, тем не менее лысоват и выглядит несколько обрюзгшим. В мундире оливкового цвета, с красными обшлагами и одним только орденом на груди, звездой, в центре которой орел держит в когтях державу и скипетр, он стоял у своего письменного стола. Лицо его раскраснелось от непрестанных разговоров. Брови у него черные как смоль, но кустистые усы, на концах остро закрученные кверху, уже слегка начинают седеть. На наш низкий поклон он ответил заученно милостивым жестом и затем бросил на господина де Гюйона взгляд, в который ему удалось вложить немало лестной доверительности.
— Мой милый ambassadeur1, рад, рад, как всегда… И вы тоже в городе? Знаю, знаю… Ce nouveau traité
599
de c
Конечно, дорогие мои родители, вы поймете, что это восклицание было не более как шутливой и ни к чему не обязывающей куртуазностью. Правда, фрак очень идет к моей фигуре, кстати сказать, унаследованной от папы. Впрочем, вы не хуже меня знаете, что в моих щеках-яблоках и глазах-щелочках, которые я всегда с досадой созерцал в зеркале, при всем желании ничего мифологического не сыщешь. На царственную шутку я отвечал недоуменно веселым жестом, и король, словно стараясь загладить ее и предать забвению, поспешил милостиво добавить, не выпуская моей руки из своих рук:
— Мой милый маркиз, приветствую вас в Лиссабоне! Ваше имя мне хорошо знакомо, и я очень рад видеть у себя юного и знатного представителя страны, с которой Португалия, в значительной мере благодаря стараниям вашего спутника, пребывает в наилучших отношениях. Скажите мне, —на секунду он задумался, что именно я должен ему сказать, — что привело вас к нам?
Дорогие мама и папа, я не хочу хвалиться увлекательной, вполне достойной опытного царедворца, одновременно почтительной и непринужденной беседой, которую я вел с монархом. Скажу только для вашего успокоения, что я не был ни неловок, ни излишне развязен. Я рассказал его величеству о подарке, полученном мною от великодушных родителей, то есть о кругосветном путешествии, в которое я пустился из Парижа, постоянного моего местопребывания, и также сказал, что Лиссабон, его несравненная столица, является первой станцией на моем пути. — Ах, вам, значит, нравится Лиссабон? — Sire, énormément! Je suis tout à fait transporté
600
par la beauté de votre capitale qui est vraiment digne d'être
la résidence d'un grand souverain c
601
Скажу вам по секрету, мои дорогие, что я еще не удосужился побывать ни в замке, ни в монастыре Белем, об изящной архитектуре которого я тоже сказал несколько слов королю. А не удосужился потому, что большую часть своего времени провожу в клубе, куда меня ввели Кукуки, играя в теннис с весьма благовоспитанными молодыми людьми. Но все это не существенно! Перед королем я превозносил впечатления, которых еще не испытал, и его величество изволил заметить, что моя восприимчивость достойна всяческих похвал.
Это меня ободрило, и я продолжал со всем красноречием, на которое был способен, или, вернее, которое мне придала необычная ситуация, превозносить перед монархом Португалию и португальцев. Ведь в страну приезжаешь, говорил я, не только ради нее самой, но — и это, пожалуй, в первую очередь — ради людей, из некоей тоски — если можно так выразиться — по неведомой человечности. Из желания заглянуть в чужие глаза, в чужие лица… Я знаю, что говорю сбивчиво, но я имею в виду желание порадоваться иной стати, иным обычаям и нравам. Португалия — à la bonne heure1, но португальцы, подданные его королевского величества — вот на ком сосредоточилось все мое внимание. Коренное кельтско-иберийское население, к которому мало-помалу примешалась финикийская, карфагенская, римская и арабская кровь, — какую очаровательную, пленяющую ум и сердце породу людей создало это смешение: мило горделивую, а иногда и облагороженную расовым высокомерием, невольно внушающим робость. Быть властителем народа столь обаятельного, право же, с этим можно только поздравить ваше величество!
— Очень, очень мило, — отвечал дон Карлос. — Благодарю вас за то, что вы с таким дружелюбием отнеслись к Португалии и португальцам. — Я было подумал, что этими словами он собирается закончить аудиенцию, и приятно удивился, когда он вдруг ска-
602
зал: — Но почему мы, собственно, стоим? Cher ambassadeur1, давайте все-таки присядем!
Без сомнения, он, поначалу, намеревался провести аудиенцию стоя и, поскольку речь шла только о моем представлении, закончить ее в несколько минут. Если он ее продлил и выразил желание расположиться поудобнее, то вы смело можете отнести это — я не хвалюсь, а хочу вас порадовать — за счет моего красноречия, видимо его позабавившего, да и вообще приятности всего моего tenue2.
Король, посланник и я уселись в кожаные кресла возле мраморного камина с традиционными часами, канделябрами и восточными вазами на верхней доске. Кабинет короля — превосходно обставленная комната: в ней имеется даже два книжных шкафа со стеклянными дверцами, а пол покрыт персидским ковром гигантских размеров. По обе стороны камина в массивных золоченых рамах висят две картины. На одной из них изображен гористый пейзаж, на другой — цветущая долина. Господин де Гюйон, указав мне глазами на эти ландшафты, тут же перевел взгляд на короля, который как раз перешел к резному столику, чтобы взять с него серебряный ящичек для сигар. Я понял.
— Sire, — сказал я, — прошу прощения за то, что эти шедевры на минуту отвлекли мое внимание от августейшей особы вашего величества, поневоле приковав к себе мой взгляд. Позвольте мне рассмотреть их поближе. Да, вот это живопись! Вот это гений! Я не могу разобрать подписи, но обе картины, несомненно, сделаны рукой первого художника вашей страны!
— Первого? — улыбаясь, повторил король. — Смотря в каком смысле. Картины написаны мной. Вот эта, налево, — вид на Серра да Эстрелья, там у меня есть охотничий домик, а в этой, справа, я стремился передать настроение наших болотистых низменностей, где я частенько стреляю бекасов. Как видите, мне
603
хотелось воссоздать прелесть полевых гвоздик, покрывающих наши долины.
— Мне кажется, я слышу их аромат, — отвечал я. — Бог мой, перед таким мастерством дилетанту остается только краснеть. — Но его-то как раз и считают дилетантским, — отвечал дон Карлос, пожимая плечами, в то время как я, садясь на место, сделал вид, что с трудом отрываю глаза от его творений. — Король всегда будет слыть дилетантом. Каждому тотчас приходит на ум Нерон и его псевдоартистические претензии.
— Жалкие люди, — заметил я, — если они не в силах освободиться от такого предрассудка. Им следовало бы радоваться воссоединению высшего с высшим: блага высокого рождения с благоволением муз.
Его величество выслушал это с явным удовольствием. Августейший хозяин сидел, удобно развалясь, тогда как посланник и я, согласно этикету, избегали малейшего соприкосновения с выпуклыми спинками наших кресел.
Король сказал:
— Мне нравится, милый маркиз, радостная непосредственность, с которой вы воспринимаете мир, людей и произведения искусства, непосредственность и чудесная наивность, право же, достойная зависти. Она мыслима, пожалуй, только на одной общественной ступени, то есть именно той, на которой вы стоите. Уродство и горечь жизни открываются лишь в низах общества и на самой его верхушке. Они хорошо знакомы простолюдину и главе государства, непрестанно вдыхающему миазмы политики.
— Замечание вашего величества, — отвечал я, — более чем остроумно. Но я осмеливаюсь обратиться с покорной просьбой: не думайте, ваше величество, что я в блаженном упоении вижу только поверхность вещей, не пытаясь проникнуть в их отнюдь не радостные глубины. Я взял на себя смелость принести поздравление вашему величеству с завидным жребием— повелевать такой славной страной, как Португалия. Но я не настолько слеп, чтобы не видеть теней, которые хотят затмить эту радость, и знаю о тех каплях
604
желчи и горечи, которые злоба подливает в золотой напиток вашей жизни. Мне известно, что и здесь, даже здесь — я бы предпочел сказать: неужто здесь? — нет недостатка в элементах, которые называют себя радикальными, наверно потому, что они, как полевые мыши, подтачивают корни общества; отвратительные элементы, если этим сравнительно мягким выражением можно передать чувства, которые они во мне вызывают, элементы, радующиеся любой неудаче, любому затруднению — политическому или финансовому, — испытываемому государством, и старающиеся на нем нажить капитал для своих гнусных целей. Они именуют себя народолюбцами, хотя все их отношение к народу состоит в том, что они разлагают его здоровые инстинкты, на его беду отнимают у него естественную веру в необходимость многоступенного общественного устройства. Чем они этого достигают? Тем, что пытаются привить ему абсолютно противоестественную, а потому антинародную идею равенства и при помощи плоской болтовни совращают его, уверяя, что необходимо или по крайней мере желательно (о возможности этого они умалчивают) снять различия рождения, крови, различия между бедными и богатыми, между знатью и чернью, то есть различия, во имя вечного существования которых природа объединяется с красотой. Одетый в лохмотья нищий вносит своим существованием ту же лепту в пеструю картину мира, что и вельможа, который кладет милостыню в его смиренно протянутую руку, стараясь из брезгливости избежать соприкосновения с ней. И поверьте мне, ваше величество, что нищий это понимает: он сознает своеобразное достоинство, определенное ему существующим миропорядком, и в глубине души не хочет быть ничем иным. Без злонамеренного подстрекательства он никогда не усомнился бы в своей живописной роли, и в его мозгу не зародились бы возмутительные идеи равенства. Равенства не существует, и люди знают это от рождения. Аристократизм — врожденное чувство. При всей своей молодости я успел в этом убедиться. Любому человеку, кто бы он ни был — клирик, член церковной
605
или какой-нибудь другой иерархии, военной, например, — скажем, бравый унтер-офицер в казарме, — присуще инстинктивное ощущение субстанции, грубой или изысканной, ощущение материала, из которого он сделан. Хороши народолюбцы! Отнимают у простолюдина способность радоваться тому, что стоит над ним: богатству, благородным обычаям, жизненному укладу высшего общества, — и эту радость для него превращают в зависть, в алчность, в строптивость! Они отнимают у масс религию, которая держит их в счастливых рамках богобоязненности, и уверяют, что с переменой формы государственного управления, с падением монархии и учреждением республики изменится природа человека и на земле по мановению волшебного жезла установятся равенство и всеобщее счастье… Но я должен просить ваше величество не прогневаться на меня за сердечные излияния, которые я себе позволил.
Король, высоко вздернув брови, кивнул посланнику, чему тот очень обрадовался.
— Милый маркиз, — начал его величество, — вы высказали весьма похвальные убеждения, убеждения, не только достойные отпрыска старинного дворянского рода, но, разрешите мне это добавить, наилучшим образом рекомендующие вас лично. Да, да, я говорю то, что думаю. A propos, вы упомянули о поджигательской риторике демагогов, об их умении словесно околпачивать народ. Увы, такое владение словом по большей части свойственно именно этому сорту людей — адвокатам, честолюбивым политикам, апостолам либерализма и врагам существующего строя. Наш режим почти не имеет красноречивых защитников. Слышать разумную, убедительную речь во славу добра — случай редкий и поистине благодетельный.
— Не умею выразить, — отвечал я, — сколь мне лестно и радостно слышать это слово «благодетельный» из уст вашего величества. Смешно, кажется, чтобы простой дворянин мог благодетельствовать королю, но тем не менее признаюсь: именно таково было мое намерение. Спрашивается, каким же обра-
606
зом оно возникло? Из сочувствия, ваше величество. Сочувствие стало частью моего благоговения. Может, это слишком смело, но я все же дерзну сказать: ничто так не волнует душу, как эта смесь благоговения и сочувствия. То, что мне в моем неведении все же стало известно о печалях вашего величества, о враждебных выпадах, которым подвергается не только принцип, олицетворяемый вами, но и сама августейшая особа вашего величества, глубоко меня затрагивает, и я от всего сердца желаю вам почаще отвлекаться от этих огорчительных впечатлений. Такое отвлечение ваше величество, несомненно, ищет и находит в живописи. А теперь я еще с радостью услышал, что вы с любовью предаетесь охотничьей страсти…
— Вы правы, — сказал король. — Я не скрываю, что лучше всего чувствую себя вдали от столицы и политических происков, среди вольной природы — в полях и горах, где возле меня находятся только несколько близких мне и добропорядочных людей, на облаве или когда мы гоним зверя. А вы тоже охотник, маркиз?
— Этого бы я не сказал. Конечно, охота — самое рыцарственное из всех развлечений, но оружие не моя страсть, и я только от случая к случаю принимаю приглашения на охоту. Наибольшее удовольствие при этом мне доставляют собаки. Трепещущие от страсти гончие, которых егеря едва удерживают на смычке, роют носом землю, машут хвостами, все мускулы у них напряжены. А горделиво-торжественный бег собаки, когда она, вскинув голову, несется к вам, держа в зубах птицу или зайца? О, это восхитительное зрелище! Одним словом, я большой любитель собак и с самого раннего детства привык к этим исконным друзьям человека. Проникновенный взгляд собаки, то, как она смеется с открытой пастью, когда ты шутишь с нею, — единственное животное, умеющее смеяться, — ее неуклюжие ласки, упругая красота ее движений, если это породистый пес, — все это согревает мне сердце! Происхождение собаки от волка или шакала стерлось в огромном количестве
607
пород. Во всяком случае, теперь мы об этом так же мало думаем, как о происхождении лошади от тапира или носорога. Уже болотный шпиц в эпоху свайных построек ничем не напоминал своих предков, а кто вспомнит о волке при виде спаниэля, таксы, пуделя, шотландского терьера, который словно ходит на животе, или добродушнейшего сенбернара? Какое многоразличие видов! У других животных этого не существует. Свинья — всегда свинья, корова и есть корова. Но как поверить, что датский дог величиной с большого теленка и крохотный пинчер — то же самое животное! Интересно, — продолжал я болтать, приняв несколько более непринужденную позу и даже откинувшись на спинку кресла (посланник не замедлил последовать моему примеру), — что эти существа, огромные или крохотные, не отдают себе отчета в своих размерах и во взаимном общении не считаются с ними. Ведь любовь — простите, ваше величество, что я позволил себе коснуться этой темы, — начисто стирает представление о подходящем или неподходящем. У нас в замке имеется русская борзая по имени Фрипон — пес с повадками вельможи и надменно-сонной физиономией, обусловленной ничтожной величиной его мозга. С другой стороны, есть там еще и Миниме, мальтийская болонка моей мамы, комочек белого шелка, едва ли больше моего кулака. Казалось бы, Фрипон должен понимать, что эта вечно дрожащая маленькая принцесса в определенном отношении ему не пара. Так нет же, его хоть и держат вдали от нее, но стоит только ее женственности активизироваться, и он начинает скрежетать зубами от безотчетной влюбленности, так что слышно в соседней комнате. Король развеселился при упоминании о скрежете зубовном.
— Ах, — заспешил я с продолжением, — надо мне еще рассказать вашему величеству об этой самой Миниме, чудном созданьице, чья конституция находится в весьма опасном противоречии с ее любовью вечно лежать на коленях у моей матушки. — И тут, милая мама, я воспроизвел, только гораздо лучше и с еще
608
более комичной точностью, недавний рассказ о не раз повторявшейся трагедии на твоих коленях, испуганные возгласы, звонки, описал явление Аделаиды, невероятная жеманность которой только усиливается перед лицом разразившейся катастрофы, и ее вид, когда она уносит твою злополучную любимицу, а также старания нашего старика Радикюля, спешащего к тебе на выручку с лопаткой и ведром для золы.
Успех я имел беспримерный. Король держался за бока от смеха. И какая же это была радость видеть, как отягощенный заботами венценосец, в чьей стране существует мятежная партия, столь самозабвенно предается веселью. Не знаю, что подумали, слыша этот смех, дожидающиеся аудиенции, но одно достоверно — его величество искренне наслаждался невинным развлечением, которое я ему доставил. Но наконец он все-таки вспомнил, что имя посланника, так и светившегося гордостью оттого, что представленный им юноша сумел угодить повелителю, и мое собственное имя отнюдь не последние во флигель-адъютантском списке, и поднялся с кресел, тем самым давая знак, что аудиенция окончена. Покуда мы откланивались, я услышал, хотя это и не предназначалось для моих ушей, дважды повторенное: «Charmant! Charmant!»1 — с которым монарх адресовался к господину де Гюйону. И вот, дорогие мои родители, то, что я сейчас скажу, надо думать, заставит вас мягче отнестись как к моим маленьким погрешностям против сыновнего пиетета, так и к самовольной задержке в Лиссабоне: ровно через два дня мне был вручен пакет из гофмаршальской части, вскрыв который я обнаружил нашейную звезду португальского ордена Красного Льва второй степени на алой ленте; так что отныне на официальных приемах я уже не буду появляться, как еще недавно у посланника, в ничем не украшенном фраке. Я, конечно, понимаю, что подлинная ценность человека определяется не эмалью на его манишке,
609
а тем, что́ у него в сердце. Но люди — вы знаете их дольше и лучше, чем я, — любят видимое, наглядное, осязаемые знаки достоинства, и я не браню их за это, сердцем понимая такое пристрастие, и поверьте, что только симпатия и любовь к ближним заставляют меня радоваться при мысли, что отныне мой Красный Лев второй степени будет тешить их детски наивное восприятие.
Итак, на сегодня хватит, дорогие мама и папа. Плут дает больше, чем имеет, и я надеюсь вскоре рассказать вам о новых впечатлениях, о дальнейшем познании мира, то есть о всем том, что стало мне доступно благодаря вашему великодушию. И если ответное письмо с сообщением о вашем благополучии еще успеет прийти по вышеуказанному адресу, то это сделает окончательно счастливым Вашего нежного и покорного сына
Лулу.
Это послание, тщательно написанное слегка склоняющимся влево почерком частично по-немецки, частично по-французски, — целая кипа маленьких бланков «Савой палас», — заканчивающееся окруженной овалом подписью, ушло к моим родителям в люксембургский замок Монрефюж. Я немало потрудился над ним, ибо был очень заинтересован в переписке с этими столь близкими мне людьми, и с превеликим нетерпением стал ждать ответа, который, как мне почему-то думалось, будет написан рукой маркизы. Над этим сочиненьицем я просидел много дней, и надо сказать, что оно, за исключением нескольких слегка затуманенных мест в начале, правдиво воссоздает события, даже в том пункте, где я говорю, что предложение господина де Гюйона представить меня ко двору совпало с моими заветными желаниями. Старательность, с которой писался этот лиссабонский отчет, я тем более вменяю себе в заслугу, что время для него мне приходилось отрывать от постоянного, уже с трудом удерживаемого в границах благоприличия общения с семейством Кукук, общения, которое — кто бы мог это подумать — главным образом
610
сводилось к спорту, до сих пор известному мне не лучше, чем и все остальные виды спорта, а именно к игре в теннис с Зузу и ее приятелями по клубу. Для того чтобы согласиться на предложение сыграть партию в теннис и действительно прийти на корт, требовалось немало дерзости. Но на третий день, как и было условлено, в точно назначенный мне час, в безукоризненном спортивном костюме — белых фланелевых брюках с белым же поясом, в рубашке с отложным воротничком, поверх которой я надел для улицы синюю куртку, в бесшумных парусиновых туфлях на тонкой резиновой подошве, придающих танцевальную легкость походке, — я явился на расположенную вблизи от дома Зузу двойную площадку, которую в эти часы оставляли за ней и ее друзьями. На душе у меня было почти так же, как в свое время, когда я, волнуясь, но полный радостной решимости, предстал перед военной врачебной комиссией. Решимость — все. Воодушевленный своим спортивным костюмом и окрыляющими туфлями, я твердо решил не ударить лицом в грязь в игре, которую мне хоть и доводилось видеть, но в которой я никогда не участвовал.
Я пришел раньше времени и оказался один на корте. Там имелся домик, служивший для раздеванья и хранения теннисных принадлежностей. Я вошел в него, снял куртку, взял ракетку, несколько штук прехорошеньких белых как снег мячиков и, вернувшись на площадку, начал упражняться в манипулировании этими предметами. Легонько подкидывал мяч на пружинящей сетке ракетки, а когда он высоко подпрыгивал — ловил его в воздухе или всем известным движением, напоминающим легкое движение лопатой, поднимал с земли на ракетку. Чтобы размять плечи и испытать силу, необходимую для подачи, я посылал его обычным приемом или back hand’ом1 через сетку — весьма относительно, конечно, ибо большей частью мои мячи ударялись об нее, летели за черту противоположного поля или, если я стано-
611
вился слишком ретив, то и через проволочную ограду площадки. Так, с удовольствием сжимая рукоятку чудесного орудия игры, носился я в singl’е1 с невидимым противником, за каковым занятием меня и застала Зузу Кукук, появившаяся вместе с двумя партнерами, юношей и девицей, тоже с ног до головы в белом, которые, как выяснилось, были не братом и сестрой, а кузеном и кузиной. Его звали, кажется, Коста, а может — Куна, ее — если не Лопсс, то Камоэс, точно я уже не помню.
— Смотрите-ка, маркиз тренируется соло. Это выглядит весьма любопытно, — насмешливо объявила Зузу и стала знакомить меня с обоими своими спутниками, очень изящными, но бесконечно уступающими ей в прелести, а затем и с подошедшими членами клуба, дамами и мужчинами: Салдаха, Виченте, де Менезес, Феррейра и как там их еще всех звали.
Игроков собралось уже двенадцать человек, включая меня, но четверо, болтая и смеясь, уселись на скамейку, добровольно взяв на себя роль зрителей. Остальные разошлись по площадкам. Зузу и я очутились друг против друга на одной из них. Какой-то долговязый юнец вскарабкался на место судьи, чтобы отмечать и объявлять, кому засчитывается удар, а также все ауты, геймы и сеты. Зузу встала у сетки, я же, предоставив это место своей партнерше, зеленоглазой барышне с желтоватым цветом лица, отошел к задней черте и, придав своему телу максимально собранное положение, приготовился к игре. Первым подавал партнер Зузу, вышеупомянутый субтильный кузен, и надо сказать, что подача у него была сильная. Тем не менее первый мяч мне удалось отбить таким точным и низким ударом, что Зузу даже снисходительно проговорила: «Ну что ж!» Но затем я наделал массу глупостей и, скрывая за суетливой беготней и прыжками полное свое неумение, сильно увеличил счет противника. Да-
612
лее, с деланным хладнокровием и небрежностью играя игрока, я запускал отчаянные «свечи» и вообще проделывал с мячом какие-то немыслимые трюки, которые наряду с моими безбожными аутами или ударами в сетку возбуждали веселье зрителей, и все же в силу чистого наития мне часто удавались удары, странно не вязавшиеся с полным моим невежеством в этом виде спорта, отчего могло создаться впечатление, что я играю спустя рукава и не тороплюсь продемонстрировать свои способности. Я озадачивал партнеров и зрителей то невероятной стремительностью подачи, то тем, как я «гасил» мяч у сетки, то превосходнейшей отдачей с самых разных точек площадки — и всем этим я был обязан тому горению и подъему, которые испытывал в присутствии Зузу. Как сейчас вижу себя то принимающим труднейший драйв — одна нога у меня вытянута вперед, другая, согнутая в колене, почти касается земли, — вероятно, это была красивая картина, так как зрители наградили меня аплодисментами; то — взвившимся высоко в воздух, чтобы опять под аплодисменты и крики «браво» с силой отдать мяч, посланный маленьким кузеном и прошедший высоко над головой моей партнерши, а также в прочих невероятных, вдохновенных положениях, приносивших мне неожиданные удачи.
Надо сказать, что Зузу, игравшая умело, со спокойной корректностью, отнюдь не смеялась над моими промахами — когда, например, при подаче я, вместо того чтобы ударить ракеткой по мной же подброшенному мячу, ударял ею по воздуху, ни над прочими нелепыми выходками, но и никак не реагировала на неожиданные удачи и успех, который они мне приносили. Слишком уж случайные, эти лавры не могли помешать тому, что, несмотря на энергичную работу моей партнерши, через двадцать минут сторона Зузу уже насчитывала четыре выигранных гейма, а в последующие десять — и сет. Мы прекратили игру, уступив площадку ожидавшим своей очереди, и, разгоряченные, уселись на одну из скамеек.
613
— Игра маркиза не лишена занятности, — заметила моя желто-зеленая партнерша, которой я испортил немало крови.
— Un peu phantastique pourtant1, — отозвалась Зузу, заинтересованная в моей репутации, так как она рекомендовала меня в клуб.
Но я чувствовал, что эта «фантастичность» не повредила мне в ее глазах. Я опять сослался на то, что давно не держал в руках ракетки, и выразил надежду, вновь обретя былую сноровку, стать достойным своих партнеров и противников. В то время как мы, уже перестав болтать, смотрели на игру тех, кто нас сменил, и радовались хорошим ударам, к нам подошел какой-то господин, некий Фиделио, и, обратившись по-португальски к кузену и желто-зеленой девице, отозвал их в сторону. Не успели мы остаться наедине с Зузу, как она спросила:
— Ну, а рисунки, маркиз? Где они? Вы же знаете, что я хочу посмотреть их и оставить себе.
— Помилуйте, Зузу, — отвечал я. — Не мог же я принести их сюда. Куда бы я их дел и как бы вам показал, ведь здесь нас каждую минуту могли бы застать врасплох…
— Это еще что за оборот — «застать врасплох»?
— Милая Зузу, ведь эти результаты моих мечтательных воспоминаний о встрече с вами не предназначены для глаз третьего, не говоря уже о том, что они вряд ли предназначены и для ваших глаз. Честное слово, я бы очень хотел, чтобы обстоятельства здесь, и у вас дома, и вообще везде давали нам больше возможности посекретничать.
Посекретничать! Будьте добры выбирать выражения!
— Но вы же сами принуждаете меня к секретничанью, а между тем все складывается так, что это невозможно устроить.
— Я просто говорю, что вам нужно найти способ передать мне рисунки. Для этого вы достаточно ловки. Вы проявили ловкость в теннисе, я из дели-
614
катности назвала вашу игру фантастической, на деле вы часто мазали так, словно первый раз в жизни играли в теннис. Но ловким вы все-таки оставались.
— Как мне приятно, Зузу, слышать это из ваших уст…
— А, собственно, по какому праву вы называете меня Зузу?
— Да ведь вас никто не зовет иначе, а кроме того, я так полюбил это ваше имя. Я весь встрепенулся, когда впервые его услышал, и тотчас же заключил его в свое сердце…
— Как можно заключить в сердце имя?
— Имя неразрывно связано с человеком, который его носит. Поэтому, Зузу, мне и было так радостно услышать из ваших уст — как приятно мне говорить о ваших устах! — снисходительный и отчасти даже похвальный отзыв о моей злополучной игре. Поверьте мне, если она выглядела хоть относительно сносно, то только в силу счастливого сознания, что ваши дивные черные глаза следят за мной.
— Очень мило. А известно ли вам, маркиз, что то, чем вы сейчас занимаетесь, называется ухаживанием? По оригинальности это сильно уступает вашей игре. Большинство здешних молодых людей рассматривает теннис как более или менее подходящий предлог для этого мерзкого занятия.
— Мерзкого, Зузу? Почему же? На днях я уже слышал, как вы называли любовь неприличной темой и при этом слове даже сказали «фу».
— Я и опять так скажу. Все вы противные, испорченные мальчишки, только и думающие о неприличном.
— О, если вы собрались уходить, вы лишаете меня возможности сказать несколько слов в защиту любви.
— Я и хочу лишить вас этой возможности. Мы уже слишком долго сидим здесь вдвоем. Во-первых, это не принято, а во-вторых (когда я говорю «во-первых», то у меня всегда есть наготове «во-вторых»), во-вторых, на вас не производит впечатления одиноч-
615
ное и в восторг вы приходите только от комбинированного.
«Она ревнует меня к своей матери», — не без удовольствия подумал я.
Зузу обронила «au revoir»1 и удалилась. Ах, если бы и царственная мамаша ревновала меня к дочке! Это гармонировало бы с ревностью, которая нередко крылась в моем чувстве к одной из-за чувства к другой.
Расстояние от теннисной площадки до виллы Кукук мы прошли
вместе с кузиной и кузеном, жившими чуть подальше. За завтраком, который,
собственно, должен был быть прощальным, но теперь уже таковым не считался, на
этот раз нас было четверо; Хуртадо сегодня отсутствовал. Приправой к кушаньям
служили шпильки, отпускаемые Зузу относительно моей игры в теннис, которой,
судя по ее благосклонным расспросам, в известной мере интересовалась и донна
— Сержусь? Конечно. Такие удары не вязались с вашим неумением играть. Это было противоестественно.
— Скажи лучше — сверхъестественно,— рассмеялся профессор. — По-моему, все объясняется галантностью маркиза, который хотел уступить вам победу.
— Вот и видно, что ты ничего не смыслишь в спорте, папочка, — злобно отозвалась она, — если думаешь, что галантность могла тут играть какую-нибудь роль, и слишком уж мягко объясняешь абсурдное поведение твоего дорожного знакомого.
— Папа вообще мягкий человек, — подытожила сеньора состоявшийся обмен мнениями.
Этот завтрак завершился прогулкой, как многие другие завтраки, на которые меня приглашали Ку-
616
куки в течение последующих недель. В дальнейшем поездки в окрестности Лиссабона следовали почти за каждым завтраком. Но об этом я скажу несколько позднее. Теперь же мне хочется еще только вспомнить о радости, которую я испытал, когда, недели через две после ухода моего письма, портье вручил мне письмо от моей матери, маркизы. Написанное по-немецки, оно гласило:
Виктория, маркиза де Веноста, урожденная фон
Плеттгнберг. Замок Монрефюою, 3 сентября 1895 г.
Мой милый Лулу!
Твое письмо от 25-го прошлого месяца было своевременно вручено папе и мне, и теперь мы оба благодарим тебя за это, несомненно, интересное и подробное послание. Твой почерк, Лулу, всегда оставлявший желать лучшего, и сейчас не лишен известной манерности, но зато твой стиль стал заметно изящнее и округленнее, что я отчасти приписываю влиянию парижской атмосферы, все более заметно сказывающемуся на тебе; ведь парижане превыше всего ценят острое и меткое слово, а ты долго дышал парижским воздухом. Кроме того, видно, правду говорят, что любовь к красивой и благородной форме (а она всегда была тебе присуща, потому что мы заронили ее в твою душу) насквозь проникает человека, обусловливая не только его внешние манеры, но и всю его жизнь, а следовательно, простирается и на его способ выражаться как устно, так и письменно. И все же я не верю, что ты действительно был так элегантно красноречив перед лицом его величества короля Карлоса, как ты это изображаешь в своем письме. Это, надо думать, эпистолярная вольность. Тем не менее ты доставил нам искреннее удовольствие, в первую очередь, конечно, высказанными тобой убеждениями: они столь же близки твоему отцу, сколь и его величеству королю Португалии. Мы оба полностью разделяем твою мысль о божественном предопределении земных различий между
617
богатыми и бедными, знатными и простыми, а также о необходимости нищенства. Как могли бы мы благотворительствовать и совершать христианские добрые дела, если б на свете не было бедных и несчастных?
Но это лишь в виде предисловия.
Не скрою — впрочем, ты ничего другого и не ожидаешь, — что твое достаточно своевольное решение отложить на столь долгий срок поездку в Аргентину вначале привело нас в некоторую растерянность. Но затем мы с ним примирились, ибо основания, которые ты приводишь, достаточно уважительны, и ты прав, говоря, что результаты оправдывают твой поступок. В первую очередь я, конечно, имею в виду награждение тебя орденом Красного Льва, которым ты обязан как милости его величества, так и личному своему обаянию. Папа и я от души поздравляем тебя с наградой. Это весьма почтенный орден, редко достающийся человеку в столь юном возрасте, и хотя ты пожалован орденом второй степени, но, право же, второстепенным такое отличие назвать нельзя. Оно послужит к чести всей нашей семьи.
Об этом радостном событии мне рассказала и госпожа Ирмингард де Гюйон в письме, которое пришло почти одновременно с твоим; в нем подробно говорится о твоих успехах в обществе, известных ей со слов мужа. Она хотела порадовать мое материнское сердце и достигла цели. Но, не желая, конечно, тебя огорчить, замечу, что ее описания, вернее описания посланника, я читала не без некоторого недоумения. Шутником ты был всегда, но таких пародийных талантов и дара перевоплощения, позволившего тебе весь вечер потешать общество, и в том числе принца королевской крови, а также заставить смеяться почти уже не по-королевски обремененного заботами короля, — этого мы за тобой не знали. Но хватит! Письмо г-жи Гюйон подтверждает твои собственные сообщения, и я здесь еще раз замечу, что успех оправдывает средства. Прощаю тебе, дитя мое, что ты использовал для своих «представлений» подробности нашей домашней жизни, которые лучше
618
было бы не предавать гласности. Я пишу тебе, а Миниме лежит на моих коленях, и я уверена, что она присоединилась бы к моей точке зрения, если бы ее умишко мог все это обнять и взвесить. Ты позволил себе крайние преувеличения и гротескные вольности и выставил свою мать в достаточно смешном свете, изображая, как она, вся перепачканная и чуть ли не в обмороке, лежит в кресле, а старый Радикюль спешит к ней на помощь с лопаткой и ведром для золы. Такого ведра я и в глаза не видывала, оно продукт твоего рвения во что бы то ни стало занять общество, но поскольку это рвение принесло столь отрадные плоды, я не в претензии, что мое достоинство понесло известный урон. Конечно, рассчитанные на материнское сердце уверения госпожи де Гюйон, что ты повсюду считаешься писаным красавцем, даже образцом юношеской красоты, тоже в известной мере удивили нас. Ты, правда, недурен собой и, конечно, стараешься принизить свои внешние данные, с благодушной насмешкой над самим собою говоря, что у тебя щеки-яблоки и глазки-щелочки. Это, разумеется, не так. Но писаным красавцем ты считаться не можешь, и такого рода комплименты рассердили бы меня, если б я, как женщина, не знала, что желание нравиться делает человека красивее, как бы просветляет его изнутри, одним словом, является наилучшим средством pour corriger la nature1.
Но что это я распространяюсь о твоей внешности, не все ли равно, хорош ты собой или только passable!2 Дело ведь не в твоей красоте, а в твоем душевном, здоровье, в том, чтобы ты избег опасности общественного крушения (нередко заставлявшей дрожать нас, твоих родителей). У нас камень свалился с души, когда из твоего письма и даже раньше — из твоей телеграммы — мы поняли, что это путешествие явилось наилучшим средством освободить твой дух из плена унижающих его желаний и
619
проектов, показать их тебе в истинном свете, то есть как немыслимые и порочные, и заставить тебя позабыть о них, а заодно и о той особе, которая, к нашему ужасу, тебе все эти желания внушила.
Судя по твоему письму, на помощь нам пришли еще и дополнительные обстоятельства. Я не могу не усматривать счастливого предопределения в твоей встрече с этим профессором и директором музея, чье имя звучит, правда, несколько смешно; то, что ты принят в его доме, тоже приносит тебе немалую пользу и способствует твоему исцелению. Развлечение необходимо человеку, а когда оно еще обогащает его блистательными знаниями, как в твоем случае — я сужу но упоминанию о морской лилии (растении мне незнакомом) и твоем кратком рассказе о происхождении собаки и лошади, — то это тем более хорошо. Такие вещи служат украшением светской беседы и выгодно отличают молодого человека, который умеет непретенциозно и тактично вставить их в разговор, от тех, что располагают лишь спортивным лексиконом. Не сделай из этого вывода, будто мы недовольны, что ты возобновил заброшенную тобой игру в лаун-теннис, очень полезную для твоего здоровья.
Если общение с дамами Кукук, матерью и дочерью, о которых ты отзываешься не без иронии, для тебя менее интересно и поучительно, чем общение с хозяином дома и его помощником, то, полагаю, мне не надо напоминать тебе (хотя тем, что я это пишу, я уже тебе напоминаю), что, постоянно оставаясь рыцарем, как и подобает кавалеру, ты не должен дать им заметить такое твое равнодушие.
Итак, всего тебе хорошего, милый Лулу! Если через месяц или полтора, когда вернется «Кап Аркона», ты наконец отплывешь от берегов Европы, то мы вознесем молитвы господу о ниспослании тебе плаванья, не мучительного для желудка. Из-за долгой задержки ты прибудешь в разгар аргентинской весны и, верно, испытаешь всю прелесть лета на противоположном полушарии. Надеюсь, ты заботишься о соответствующем гардеробе? Я особенно рекомен-
620
дую тебе легкую фланель, ибо она наилучшим образом предохраняет от простуды, которую, как это ни странно, иногда даже легче схватить в жару, чем в холодную погоду. Если тебе недостанет средств, имеющихся в твоем распоряжении, то положись на меня, я уж всегда сумею добиться у твоего отца разумной и умеренной прибавки. По прибытии в Аргентину передай самый дружеский поклон господину консулу Мейеру и его супруге.
Благословляющая тебя maman.
Когда я вспоминаю об удивительно элегантных экипажах, блестящих лакированных викториях, фаэтонах и обитых шелком купе, временами находившихся в моем владении, меня умиляет ребяческая радость, которую мне доставлял разве что приличный экипаж, помесячно нанятый мною в Лиссабоне и почти всегда дожидавшийся меня у «Савой паласа», так что мне лишь изредка приходилось просить портье протелефонировать в контору наемных экипажей, чтобы его вызвать. Собственно, это была обыкновенная четырехместная пролетка, правда, с откидным верхом и, видимо, купленная конторой уже в подержанном виде у бывшего владельца. Лошади и экипаж выглядели вполне сносно, а приличествующую «собственному выезду» кучерскую одежду, то есть цилиндр с розеткой, синий сюртук и сапоги с отворотами, контора по моему требованию раздобыла за небольшую приплату.
Я с удовольствием садился в экипаж; ступеньку откидывал мальчик, помощник швейцара, а кучер, сняв цилиндр, кланялся мне с высоты козел. Экипаж был мне нужен не только для катанья в парках и за городом ради собственного удовольствия, но и для того, чтобы солидно подъезжать к тем высокопоставленным домам, куда меня наперебой приглашали после вечера у посланника и тем более после аудиен-
621
ции у короля. Так я получил приглашение от богача-виноторговца по фамилии Салдаха и его необыкновенно дородной супруги на garden party1 в их великолепном пригородном имении, где, поскольку летний сезон был уже на исходе и лиссабонцы начинали возвращаться в город, собралось действительно светское общество. Почти ту же компанию, только с некоторыми вариациями и менее многочисленную, встретил я на двух обедах; один из них давали греческий поверенный в делах князь Маврокордато и его классически прекрасная и при этом на редкость податливая супруга, другой — в голландском посольстве — барон и баронесса Фос ван Стинвик. Эти оказии давали мне возможность щегольнуть своим Красным Львом, с которым все меня поздравляли. На авенида мне теперь приходилось то и дело снимать шляпу, так как мои светские знакомства приумножились, но все это была чисто внешняя сторона жизни, вернее безразличная; подлинный же мой интерес был прикован к белому домику там, на горе, к двуединому образу матери и дочери.
Стоит ли говорить, что и экипажем я обзавелся прежде всего для них. Ведь таким образом я мог доставить им удовольствие загородных поездок, к примеру в исторические места, красоту которых я, еще не видев их, прославлял перед королем. И не было для меня ничего более приятного, чем смотреть на величаво породистую мать и ее обворожительную дочку, сидя на передней скамеечке экипажа рядом с доном Мигелем, который иной раз специально освобождался для того, чтобы ехать с нами в какой-нибудь замок или монастырь и объяснять нам эти исторические достопримечательности.
Таким прогулкам и пикникам, устраивавшимся раз, а то и два в неделю, обычно предшествовали партия в теннис и завтрак в семейном кругу Кукуков.
В скором времени моя игра сделалась ровнее, независимо от того, бывал ли я партнером Зузу, или ее противником, или играл без нее на соседнем корте.
622
Удивительные и вдохновенные мои подвиги тоже кончились заодно с комичными промахами, изобличавшими мое невежество в этом виде спорта, я стал просто заурядным игроком, хотя волнующая близость любимой временами сообщала моим действиям больше физического вдохновения — если можно так выразиться, — чем это свойственно заурядности. Если б только мне чаще удавалось оставаться с ней с глазу на глаз! Южная строгость нравов на каждом шагу чинила этому препятствия.
О том, чтобы зайти за Зузу и вместе с нею отправиться на теннисную площадку, не могло быть и речи; мы встречались уже на месте. Побыть с ней вдвоем на обратном пути тоже не представлялось возможным; нас всегда кто-нибудь сопровождал, это стало уже чем-то само собой разумеющимся. О тет-а-тет у нее дома перед обедом, после него в гостиной или где бы то ни было нечего было и помышлять. Только в краткие минуты отдыха на скамье по ту сторону сетки, огораживавшей корт, мне изредка удавалось наедине перекинуться с нею словом, и она всякий раз напоминала мне о злополучных рисунках, требовала, чтобы я их ей показал, вернее — отдал бы в полное ее распоряжение. Не вступая с ней в пререкания по поводу ее своенравных претензий на право владеть ими, я отговаривался невозможностью улучить подходящую минуту, для того чтобы исполнить ее желание. На деле я не был уверен, что у меня когда-нибудь хватить духа показать ей эти дерзостные творения, и цеплялся за свою неуверенность, равно как и за ее неутоленное любопытство — если это правильное слово, — ибо таинственные рисунки стали узами, связывавшими меня с нею, узами бесконечно радостными для меня и которые я ни за что на свете не хотел порвать.
Иметь общую тайну, как бы состоять с Зузу в заговоре против всех остальных — по душе это было ей или не по душе — мне представлялось необыкновенно важным и сладостным. Так, я всегда с нею первой делился своими светскими впечатлениями и лишь после того рассказывал о них за столом у Кукуков, причем
623
ей я все описывал точнее, доверительнее, острее, чем ее домашним, радуясь, что нам можно обменяться понимающим взглядом, улыбкой воспоминания о чем-то нам одним известном. К примеру, я рассказал о знакомстве с княгиней Маврокордато, чьи божественно прекрасные черты и осанка ни в какой мере не вязались с ее поведением, поведением не богини, а субретки. Я в лицах воспроизвел для Зузу сцену в гостиной княгини, где она то и дело хлопала меня веером по плечу, кокетливо высовывая при этом кончик языка, подмигивала и вообще делала мне самые откровенные авансы, вовсе позабыв о строгости и достоинстве, подобающим женщине такой классической красоты. Сидя на нашей скамейке, мы тогда долго обсуждали это непостижимое противоречие между внешностью и манерой держать себя и вместе пришли к заключению, что княгиня либо сама не рада своей удивительной красоте, считает ее за докуку и своим поведением бунтует против нее, либо она непроходимо глупа и действует бессознательно: так красавец пудель, только что выкупанный и белый как снег, спешит вываляться в глинистой луже.
Конечно, все эти подробности я упустил, рассказывая за столом о греческом вечере и совершенной красоте княгини.
— …которая, конечно, произвела на вас неотразимое
впечатление, — заметила сеньора
Я отвечал:
— Впечатление, сеньора? Нет, первый мой день в Лиссабоне судил мне такие впечатления от женской красоты, что, признаюсь откровенно, к другим я уже стал нечувствителен. — Я поцеловал, ее руку и одновременно, улыбаясь, посмотрел на Зузу. Это был мой постоянный метод, его мне диктовало двуединство. Говоря какую-нибудь любезность дочери, я взглядывал на мать, и наоборот. Звездные глаза хозяина дома, сидевшего во главе небольшого семейного стола, благосклонно смотрели на эти сценки, благо Сириус,
624
откуда шел его взгляд, так удален от нашей планеты.
Почтительное уважение, которое я питал к профессору, ничуть не умалялось от того[109], что, ухаживая за двуединым образом — матерью и дочерью, — я иногда попросту забывал о нем.
— Папа всегда добр, — справедливо обмолвилась однажды
сеньора
— Вы опять за мной ухаживаете, Луи (да, да, наедине она стала иногда называть меня Луи, как я ее — Зузу), несете слащавый вздор и смотрите на меня своими голубыми глазами, — которые, вы сами это знаете, в сочетании с белокурыми волосами так
625
удивительно контрастируют с вашей смуглой кожей, что даже не знаешь, что о вас и думать, — смотрите настойчиво, чтобы не сказать — нахально. А чего вы от меня хотите? Чего вы добиваетесь этими льстивыми словами и томными взглядами? Чего-то несказанно смешного, ребячливо абсурдного и неаппетитного. Я сказала «несказанно»… Какой вздор, что тут несказанного, я вам все скажу. Вы хотите, чтобы я согласилась обниматься с вами; природа позаботилась разделить, обособить одного человека от другого, а теперь они, по-вашему, должны обниматься. Вы прижметесь ртом к моему рту, наши ноздри окажутся крест-накрест, и один будет чувствовать дыхание другого. Препротивное неприличие и ничего больше; только чувственность умудрилась обернуть его в наслажденье. Да, да, а то, что кроется под словом «чувственность», — это трясина нескромностей, в которую вы стараетесь нас завлечь, чтобы мы там сходили с ума вместе с вами и два цивилизованных существа вели себя как людоеды. Вот к чему сводятся ваши ухаживания.
Она умолкла и сумела остаться совершенно спокойной, даже дыхание ее не участилось после такого взрыва прямодушия, бывшего, впрочем, не столько взрывом, сколько неуклонным следованием тезису «вещи надо называть своими именами». Я тоже молчал, испуганный, растроганный и опечаленный.
— Зузу, — проговорил я наконец, держа руку над ее рукой, но до нее не дотрагиваясь, затем, словно защищая Зузу, я этой же рукой провел по воздуху над ее волосами — взад и вперед. — Зузу, вы причиняете мне боль, потому что такими словами, не знаю уж, как и назвать их — черствыми, жестокими, может быть, слишком правдивыми и именно потому правдивыми только наполовину, нет, вовсе не правдивыми, срываете нежную пелену, что окутывает мне сердце и разум, зачарованные вашей прелестью. Не смейтесь над «пеленой». Я нарочно, сознательно говорю так, потому что стремлюсь поэтическими выражениями защитить поэзию любви от ваших злых карикатурных речей. Ну можно ли в таких словах говорить о любви
626
и о том, чего она домогается! Любовь ничего не домогается, она ничего не хочет кроме себя самой, ни о чем кроме себя самой не думает, она сама по себе и окутана собственной дымкой; пожалуйста не фыркайте, не морщите свой носик, я уже сказал, что нарочно выбираю поэтические, то есть попросту пристойные выражения, говоря о любви, ибо любовь всегда пристойна, а ваши злые слова забегают далеко вперед на ее пути — пути, о котором она знать не знает, хотя и идет по нему. Ну как, скажите на милость, вы говорите о поцелуе! Ведь на земле нет общения более тонкого, молчаливого, прелестного, как цветок! Об этом нечаянном, почти непроизвольном, сладостном взаимообретении уст, когда чувство ни к чему другому не стремится, ибо поцелуй и есть подтверждение блаженного единства двух существ.
Клянусь, так я говорил. Говорил потому, что манера Зузу поносить любовь и вправду казалась мне ребячливой, а поэзию я считал менее инфантильной, чем черствость этой девочки. Но поэзия давалась мне легко благодаря зыбкости моего существования, и распространяться о том, что любовь ничего не домогается, не помышляет ни о чем, кроме поцелуя, мне тоже было нетрудно, ибо в ирреальности моего существования мне было не дозволено помышлять о реальном, скажем, просить руки Зузу. Я мог разве что попытаться соблазнить ее, но тут обстоятельства чинили мне слишком много препятствий, и главным препятствием было ее фантастически прямолинейное, абсурдно неприкрашенное представление о комической непристойности любви. Послушайте только, хотя бы с досадой и горечью, как она ратоборствовала с поэзией, призванной мной на помощь.
— Па-та-ти-па-та-та! — воскликнула Зузу. — Пелена, дымка и прелестный поцелуй-цветок! Все слащавая болтовня, чтобы втянуть нас в вашу мальчишескую испорченность! Фу, поцелуй — тонкое, молчаливое общенье! С него-то и начинается, по-настоящему начинается, mais oui1, ибо отчасти он уже все,
627
toute la lyre1, и в то же время самое худшее из всего. Почему? Да потому, что кожа нужна вашей любви, кожа, телесный покров, а на губах кожа нежная, под ней сразу кровь — и отсюда поэтическое слияние уст; они, эти нежные уста, куда только не устремляются, потому что все, что вам нужно, это голыми лежать с нами, кожа к коже, и наставлять нас в нелепейшем занятии, которое сводится к тому, что один жалкий человек губами и руками елозит по пахучей поверхности другого, и оба они не стыдятся этого жалкого, смехотворного занятия и не думают о том, — это сразу отравило бы им удовольствие,— что я однажды вычитала в духовной книге:
Человек красивым, блестящим, нарядным бывает,
Но внутри у него потроха, и они воняют.
— Это мерзкий стишок, Зузу, — отвечал я, укоризненно и с достоинством покачивая головой, — мерзкий, хотя он и выдает себя за духовный. Я готов принять всю вашу черствость, но стишок — увольте, он вопиет к небесам. Вы хотите знать почему? Да, да, я уверен, что вы это хотите знать, и я вам скажу. Да потому что коварные эти стишонки стремятся разрушить веру в красоту и форму, в образ и в мечту. Но чем была бы жизнь и радость, без которой нет жизни, если бы не было видимости, пленяющей наши чувства? Слушайте, что я вам сейчас скажу, прелестная Зузу. Ваш религиозный стишок грешнее самой греховной похоти, так как он отравляет удовольствие, а отравлять жизни удовольствие не только грешно — это сатанинское деяние. Ну, что вы мне скажете? Нет, нет, я спрашиваю не для того, чтобы вы меня прерывали. Я ведь не мешал вам говорить, как ни черствы были ваши речи, а я говорю благородные слова, и они сами слетают у меня с языка. Если бы все обстояло так, как говорится в этом зловредном стишке, то непреложной действительностью, а не только ложной видимостью пришлось бы считать раз-
628
ве что безжизненный мир, неорганическое бытие; я говорю «разве что», ибо если думать об этом зловредно, то и здесь сыщется своя загвоздка. Я лично, Зузу, отнюдь не уверен, что сияние альпийских вершин или, скажем, водопад непреложнее, действительнее образа и мечты, иными словами, так ли уж непреложно действительна, а не только видима их красота без нашего восхищения ими, без нашей любви? Ведь сколько-то времени назад из безжизненного, неорганического бытия благодаря празачатию, что уже само по себе таинственно и темно, возникла жизнь, и если внутри у нее не все так уж чисто обстоит, — это понятно само собой. Какой-нибудь дуралей мог бы, например, объявить, что вся природа — гниль и плесень, но его утверждение так и осталось бы злобной, дурацкой клеветой и до конца дней не могло бы уничтожить любовь и радость, восхищение образом. Я слышал эти слова от одного художника: он всю жизнь почтительно писал плесень, земную бренность, и за это получил звание профессора. Но человека он тоже заставлял себе позировать для греческого бога. В Париже, в приемной зубного врача, к которому я пришел запломбировать зуб, я видел альбом, книгу с иллюстрациями, под названием «La beauté humaine»1 в ней были снимки со всевозможных изображений прекрасного человеческого образа, образа, который во все времена тщательно и усердно воссоздавался в красках, в бронзе и в мраморе. Но почему же альбом кишел прославлениями человека? Да потому, что свет испокон веков кишел дураками, которые нимало не заботясь о пресловутом духовном стишке за истину почитали форму, видимость, поверхность, становились ее жрецами и нередко вознаграждались за это профессорским званием.
Клянусь, так я говорил, потому что слова сами слетали у меня с языка. И говорил не однажды, а много раз, едва только мне представлялся случай остаться наедине с Зузу, будь то на скамье у теннисного корта или на прогулке вчетвером, с сеньором
629
Хуртадо, после совместного завтрака, большей частью заканчивавшегося гулянием по лесным дорожкам Кампо Гранде, среди банановых плантаций и тропических деревьев Ларго до Принсипе Реаль. И хорошо, что мы гуляли вчетвером, иначе я не оставался бы с глазу на глаз то с величавой половиной двуединого образа, то с дочкой: поотстав с ней немного, я в благородных продуманных словах оспаривал ее ребячливое отношение к любви как к некоему неаппетитному мальчишескому пороку, отношение, на котором она продолжала настаивать с прямолинейным упорством.
Она упрямо держалась своей теории, хотя иной раз я уже стал подмечать вызванные, очевидно, моим красноречием признаки известного смущения, нерешительной благосклонности; временами ее молчаливо испытующий взгляд свидетельствовал о том, что мое ретивое заступничество за радость и любовь не пропало даром.
Такое мгновение наступило, и в жизни мне его не забыть, когда мы наконец (эта поездка почему-то долго откладывалась) отправились в моей коляске за город, в деревушку Цинтра; под ученым руководством дона Мигеля осмотрели старинный замок в деревне, сторожевые башни, глядящие вдаль со скалистых высот, а потом посетили знаменитый монастырь Белем, то есть Вифлеем, воздвигнутый столь же благочестивым, сколь и приверженным к роскоши королем Эммануэлем Счастливым в память и честь португальских первооткрывателей. Откровенно говоря, поучения дона Мигеля касательно стиля монастыря и дворцов, вобравшего в себя элементы мавританского, готического и итальянского зодчества, дополненные экскурсами в чудеса индийской архитектуры, входили мне, что называется, в одно ухо и выходили в другое. Я думал не о зодчестве, но о том, как внушить черствой Зузу правильное понятие о любви, а для ума, занятого чисто человеческими интересами, и ландшафт и самое прекрасное здание не более как декорация, едва замечаемый фон.
630
Тем не менее признаюсь, что неправдоподобная, льющаяся из всех времен и ни в одном из знакомых нам не задерживающаяся, словно увиденная во сне ребенком волшебная прелесть крытой галереи в монастыре Белем, с ее остроконечными башенками, тонкими-претонкими столбиками в арках и, словно сработанной руками ангелов сказочно великолепной резьбой по белому песчанику, при виде которой начинаешь верить, что камень можно обрабатывать крохотным напильником и изготовлять из него тончайшие кружева, — вся эта каменная феерия привела меня в восторг, и такое приподнятое состояние духа, несомненно, способствовало моему красноречию, когда я заговорил с Зузу.
Мы довольно долго пробыли в этой дивной галерее, несколько раз обошли ее, а дон Мигель, заметив, что мы, молодежь, не очень-то прислушиваемся к его поучениям относительно зодчества времен короля Эммануэля, догнал донну Марию-Пиа и пошел с нею вперед; мы следовали за ними на некотором расстоянии, об увеличении которого я уж сумел позаботиться.
— Итак, Зузу, — сказал я, — при виде этого строения наши сердца, конечно, бьются в унисон. Такой чудесной крытой галереи мне еще видеть не приходилось (мне вообще не приходилось видеть крытой галереи, и подумать только, что первая из них оказалась такой, какая может разве что пригрезиться, да и то в детстве!). Я очень счастлив, что любуюсь ею вместе с вами. Давайте договоримся, какое слово нам избрать для ее восхваления: «прекрасная», «красивая»? Нет, не подходит, хотя, конечно, она заслуживает этих эпитетов. Но «прекрасная» — это слишком строгое слово, так ведь, Зузу? Надо возвысить смысл таких слов, как «обворожительно», «прелестно» до самой вершины, до крайности, тогда мы сыщем правильное обозначение для этой галереи. Да, собственно, она это делает и без нас, то есть доводит обворожительное до крайности.
— Ну что вы пустословите, маркиз! Прелестно, до крайности обворожительно. Но ведь крайне обворожительное в конце концов и значит прекрасное.
631
— Нет, разница тут все же существует. Как мне это вам объяснить? Ваша мама, например…
— Прекрасна, — живо перебила меня Зузу, — а я обворожительна, так ведь? И на нас обеих вы хотите продемонстрировать эту пустословную разницу?
— Вы предвосхищаете мою мысль, — отвечал я, сознательно
сделав паузу, — и при этом несколько искажаете ее. Она движется почти, как вы
сказали, почти, но не совсем. Мне так радостно слышать, когда вы говорите «мы»,
вернее — «нас», «нас обеих» про себя и про свою мать. Но, насладившись этим
сближением, я хочу от двойственного перейти к единичному. Донна
— О, благодарю вас! Следовательно, я девушка времен короля Эммануэля, и я же причудливое строение. Очень, очень вам признательна. Это уж, можно сказать, предел куртуазности.
— Вы вольны смеяться над моими идущими от сердца словами, переиначивать их и называть себя самое строением. А на деле ничего тут нет удивительного: эта галерея заставила меня утратить душевное равновесие, и вы сделали со мной то же самое, так почему бы мне и не сравнить вас с нею? Я вижу ее впервые. Вы же, наверно, не однажды бывали здесь.
— Бывала!
— Так вам надо бы радоваться, что хоть раз вы приехали сюда с новичком, с человеком, который видит ее впервые. Ведь таким образом и вы взглянете на давно знакомое свежим взглядом, точно в первый раз. Надо стараться на все вещи, даже самые обыденные, само собой разумеющиеся, смотреть свежим,
632
удивленным взглядом, как будто вы никогда их не видели. К ним тогда возвращается их удивительность, уснувшая в обыденности, и мир остается свежим, а иначе все погружается в сон — жизнь, радость и изумленье. Любовь, например…,
— Fi donc! Taisez-vous!1
— Но почему? Вы ведь тоже говорили о любви, и неоднократно; согласно вашему, вероятно правильному, принципу — молчание вредно. Но при этом вы подбирали такие жестокие слова, да еще цитировали мерзкий духовный стишок, что оставалось только удивляться, можно ли до того безлюбо говорить о любви. Вы так очерствели, что вас уже не трогает самый факт существования этого чувства, что тоже вредно; и я считаю себя обязанным вразумить вас, извините за выражение, вправить вам мозги. Если взглянуть на любовь свежим глазом, словно впервые ее заметив, какой трогательной, какой удивительной покажется она! Любовь — это чудо, не более и не менее. Конечно, в итоге, так сказать, в общем и целом, чудо — все бытие, но любовь, по моему убеждению,— величайшее из чудес бытия. Вы вот сказали, что природа заботливо отделила человека от человека, размежевала их. Очень меткое и верное замечание. Таково правило. Но в любви природа делает исключение, изумительное исключение, если смотреть на него свежим глазом. Заметьте себе, что сама природа придумала и установила это исключение, и если вы становитесь на сторону природы, против любви, то природа все равно не чувствует к вам ни малейшей благодарности; это остается вашим faux pas1. И вы по ошибке ополчаетесь на природу. Сейчас я все объясню, раз уж я взялся вправить вам мозги. Правда, каждый человек живет в своей шкуре раздельно от другого, и не только потому, что он должен так жить, но и потому, что он этого хочет. Ему по душе такое обособленное существование, потому что о других он в конце концов и знать ничего не желает. Всякий
633
другой, любой другой в его шкуре ему противен, не противен только он сам. Таков закон природы, и я говорю лишь то, что есть. Вот он, задумавшись, сидит у стола, склонив голову на руку, двумя пальцами он подпирает щеку, а третий засунул в рот. И что ж такого? Это его рот и его палец. Но почувствовать у себя во рту чужой палец ему было бы непереносимо, непереносимо до отвращения. Или, может быть, это не так? Его отношение к другому по самой своей природе в основном сводится к отвращению. Физическая близость другого его гнетет, возмущает все его существо. Ему лучше удавиться, чем своим телом ощущать чужое тело. Щадя обособленность другого, он на самом деле щадит только собственную обособленность. Хорошо. Или по крайней мере верно. В общих чертах я уже набросал картину естественного и всеобщего положения вещей и сейчас перейду к следующему пункту моей речи, специально для вас заготовленной. Ибо теперь я хочу сказать о том, из-за чего природа вдруг резко отступает от своего давнего статуса, из-за чего железный закон брезгливой обособленности человека, его стремление оставаться наедине со своей плотью нежданно-негаданно рассыпается прахом, да так, что у того, кто видит это в первый раз — а видеть это обязан всякий, — от удивления и растроганности слезы струятся по ланитам. Я говорю «ланиты» и «струятся», потому что это звучит поэтично и, следовательно, подобающе. Сказать просто «щека» в такой связи я себе не позволю, — это слишком низко… Щеки можно, например, перепачкать вареньем. Но «ланита» — возвышенное слово.
Вы уж простите меня, Зузу, если я в своей заготовленной для вас речи время от времени делаю паузу и после нее начинаю, так сказать, новый параграф. Я склонен к лирическим отступлениям, вот заговорил о «ланите» и теперь вынужден снова собираться с мыслями, для того чтобы выполнить свой урок, то есть вправить вам мозги. Итак! Что же заставляет природу отступаться от своего закона, на удивление всему свету уничтожать обособленность одной плоти от другой, «я» от «ты»? Любовь. Буднич-
634
ное явление, но вечно новое и, если хорошенько в него всмотреться, даже неслыханное. Что здесь происходит? Взоры обособленных друг от друга существ встречаются не так, как обычно встречаются взоры. Испуганные, позабыв обо всем на свете, смятенные и слегка затуманенные от стыда, из-за того, что они так отличны от всех прочих взоров, и в то же время ни за какие блага мира не согласные поступиться этим своим отличием, они сливаются друг с другом, если хотите, я даже скажу «впиваются» друг в друга, но это уже лишнее — «сливаются» тоже хорошо… Может, совесть у них и не совсем чиста, но не будем в это углубляться. Я не слишком образованный молодой дворянин, и нельзя с меня спрашивать обоснования мировых тайн. Но одно я знаю — нет ничего сладостнее такой нечистой совести, с которой эти оба, внезапно изъятые из всего остального миропорядка, устремляются друг к другу. Они говорят между собой на обыкновенном языке о том о сем, но поскольку и то и се — ложь, так же как и обыкновенный язык, то в разговоре их губы кривятся чуть лживо и глаза тоже полны блаженной лживости. Один смотрит на волосы, губы, на тело другого, и затем они потупляют свои лживые взоры или отводят их в сторону, где им все равно нечего высматривать, ибо они слепы и кроме друг друга ничего на свете не видят. Их взоры только прячутся в божьем мире, чтобы тотчас же и еще ярче сияя вновь обратиться на волосы, губы, тело другого, ибо все это, вопреки законам природы, перестало быть чужим, более чем безразличным, то есть неприятным, даже противным, и нежданно сделалось предметом восторга, вожделения — тем, чего так трогательно и страстно жаждешь коснуться, блаженством, которое предчувствовал и тайно предвкушал твой взор.
Вот вам еще один параграф моей речи, Зузу, сейчас я перехожу к следующему. Вы меня слушаете внимательно? Так, словно первый раз слышите о любви? Я очень на это надеюсь. Скоро настанет миг, когда погаснут огоньки лжи в глазах, постылым станет лживый изгиб рта и взор, обращенный куда-то
635
вдаль, и они сбросят все это с себя, словно уже сбрасывая одежду, и скажут единственно правдивые слова, рядом с которыми все остальное только притворство и болтовня, эти слова: «Я люблю тебя!» Это будет истинным освобождением, самым смелым и самым сладостным из всех освобождений. И в миг, когда оно настанет, губы одного сольются с губами другого, можно даже сказать — вопьются в них для поцелуя, этого беспримерного события в мире разделенности и обособленности, такого, что при одной мысли о нем слезы готовы заструиться по ланитам. Подумайте, Зузу, как черство вы говорили о поцелуе, этой печати, скрепляющей конец раздельного существования и брезгливого желания не знать ни о чем, что не ты сам! Я не спорю и охотно соглашаюсь, что поцелуй — начало остального, дальнейшего, ибо он молчаливое подтверждение того, что близость, самая близкая близость, бесконечная, если существует бесконечность, та самая близость, от которой другой раз лучше удавиться, стала олицетворением всего желанного. Любовь, Зузу, все творит через посредство любящих, она пускается на все, чтобы сделать близость бесконечной и абсолютной, довести ее до подлинного, полного слияния двух жизней, но. это ей, несмотря на все ее усилия, как это ни смешно и ни печально, никогда не удается. Все-таки не может она пересилить природу, которая хоть и создала любовь, но твердо блюдет закон обособленности. А если двое и становятся одним, то это случается уже не с любящими, а вне их: они едины в ребенке, явившемся на свет от их любви. Но я говорю не о детях и не о семейном счастье; это уже за пределами моей темы. Я говорю о любви в новых и благородных словах для того, чтобы вы, Зузу, по-новому взглянули на нее, поняли бы, как она трогательна, и больше бы никогда столь черство о ней не отзывались. Я потому говорю по пунктам, что одним духом мне всего не сказать, и сейчас опять перейду к следующему параграфу.
Любовь, милая Зузу, не только во влюбленности, когда одна обособленная плоть странным образом
636
перестает быть неприятной другой. Следы ее, напоминания о том, что она существует в мире, — повсюду. Когда на улице вы не только подаете несколько монеток нищему ребенку, что умоляюще смотрит на вас, но проводите рукой без перчатки по его волосам, в которых, наверно, водятся вши, улыбаясь, заглядываете ему в глаза и потом идете своей дорогой, чувствуя себя счастливее, чем до этого мгновения, — что это, как не чуть приметный след любви? И вот еще что я хочу сказать, Зузу: то, что вы обнаженной рукой дотрагиваетесь до вшивой головы нищего ребенка и потом чувствуете себя несколько более счастливой, нежели минуту назад, — это, пожалуй, еще более удивительное проявление любви, нежели ласки, подаренные любимому телу. Осмотритесь вокруг, взгляните на людей так, словно вы видите их впервые! Везде следы любви, напоминания о ней, признания ее прав вопреки тяге к обособленности и отвращению одной обособленной плоти к другой. Люди подают друг другу руки — что может быть обыкновеннее, будничнее, условнее; при этом никто ничего не думает, кроме любящих, — тех, что наслаждаются этим прикосновением, ибо большее им пока не дозволено. Другие обмениваются рукопожатием и не подозревая, что это любовь, закрепленная обычаем. Тела их отделены друг от друга положенным расстоянием— только не излишняя близость, боже упаси! Но, блюдя эту дистанцию и строго охраняемую обособленность, они все же протягивают руки, и чужие ладони соприкасаются, сжимают одна другую; сплетаются, а это ведь ничто, обыкновенное приветствие, ничего в нем нет особенного, — так, кажется, представляется многим. На деле же, если всмотреться попристальнее, это тоже маленький праздник отклонения природы от своих же законов, отрицание брезгливой обособленности, след вездесущей любви.
Моя матушка, сидя в своем люксембургском замке, наверно, решила бы, что я не мог так говорить, что это беллетристика. Но, клянусь честью, так я говорил. Ибо слова сами слетали у меня с языка. Может быть,
637
то, что мне удалась столь оригинальная речь, следует отнести за счет удивительной прелести и необычного своеобразия галереи в монастыре Белем, впрочем это уже несущественно. Так или иначе, но, когда я кончил, произошло нечто невероятное. Зузу протянула мне руку! Не глядя на меня, отвернувшись и будто бы любуясь чудесной резьбой, протянула правую руку, я пожал ее, и она ответила на это пожатие. Но в то же мгновенье резко выдернула ее из моей руки и сказала, сердито нахмурив брови:
— А рисунки, которые вы дерзнули сделать? Где они? Когда же вы мне их передадите?
— Поверьте, Зузу, я помню об этом. И не собираюсь забыть. Но вы сами знаете, я никак не выберу удобного момента…
— Отсутствие изобретательности в выборе момента прямо-таки жалкое! — отвечала она. — Видно, мне надо будет прийти вам на помощь, если вы так неловки. Будь у вас побольше наблюдательности, вы бы давно знали и без моей указки, что в саду за нашим домом, в олеандровых кустах, можно даже сказать — в беседке, имеется скамейка, на которой я люблю сидеть после завтрака. Вы могли бы это знать, но, конечно, не знаете, в чем я всякий раз убеждалась, сидя там. При наличии хоть капли воображения и находчивости вы в любой день после завтрака могли бы сделать вид, что уходите, пожалуй, могли бы на самом деле уйти, а потом вернуться, разыскать меня в беседке и вручить мне наконец свою мазню. Какое откровение, не так ли? Гениальная идея? Да, для вашего разумения. Итак, будьте любезны проделать это в ближайший же день, хорошо?[110]
— Непременно, Зузу! Это, правда, мысль столь же простая, сколь и блестящая. Извините, что я не знал о существовании скамейки в олеандрах. Она так глубоко в них запрятана, что я ее не заметил. Значит, после завтрака вы обычно сидите там одна? Превосходно! Я все сделаю в точности, как вы сказали. Для вида распрощаюсь, и с вами тоже, притворюсь, что пошел домой, и вместо того явлюсь к вам с рисунками. Вот вам моя рука.
638
— Оставьте вашу руку при себе! Обменяться рукопожатиями мы можем после возвращения в город, а то и дело жать друг другу руки, честное слово, бессмысленно.
Конечно, я был счастлив предстоящим свиданием, хотя меня и охватывал вполне понятный страх при мысли показать Зузу эти рискованные рисунки, явно преступавшие границу дозволенного. Как-никак, а к прелестному телу Заза, изображенному на них в разных позах, я пририсовал головку с характерными зачесами на ушах, и думать о том, как Зузу отнесется к столь дерзкому портретированию, было мне несколько страшновато. Вдобавок, я спрашивал себя, почему этому свиданию в беседке Кукуков непременно должен предшествовать завтрак и почему мне вменяется в обязанность разыграть комедию ухода? Если Зузу всегда сидит там в одиночестве после завтрака, то я мог бы в любой день, никем не замеченный, прийти к олеандровой скамейке, тем более что это час сиесты. Ах, если бы мне можно было явиться на рандеву без этих проклятых и совершенно непозволительных рисунков!
Потому ли, что я не смел этого сделать, или из страха перед негодованием Зузу, — один бог знает, в какие формы оно могло вылиться, — или же потому, что новые захватывающие впечатления, о которых я сейчас расскажу, заглушали эту потребность в моем сердце, отзывчивом на всякую новизну, — так или иначе, но день проходил за днем, а я все медлил воспользоваться ее предложением. В моих чувствах, приходится это повторить, под наплывом новых впечатлений наметился своеобразный поворот. Покорив меня своей мрачной торжественностью, они с часу на час изменяли мое отношение к двуединому образу: одну его половину, материнскую, теперь заливал сильный кроваво-красный свет, отчего отступала в тень другая половина, обворожительно юная, дочерняя.
639
Вероятно, я прибег к этому сравнению — свет и тень — потому, что во время боя быков играет столь значительную роль различие между ослепительно освещенной и лежащей в тени частью амфитеатра, причем преимущество отдается, конечно, тенистой, на которой сидим мы, высшее общество, тогда как простой люд принужден томиться на беспощадном солнцепеке… Но я заговорил о бое быков так, словно читатель знает, сколь важно для меня оказалось это в высшей степени достопримечательное, исконно иберийское зрелище. А между тем писать книгу не то же, что говорить с самим собой. Книга требует последовательности, обдуманности и не допускает внезапных скачков.
Прежде всего надо сказать, что мое пребывание в Лиссабоне приближалось к концу; наступили уже последние числа сентября. Со дня на день должен был возвратиться «Кап Аркона», и до моего отъезда оставалось не более недели. Поэтому мне и вздумалось во второй и последний раз посетить музей Sciências Naturaes на руа да Прата. Я хотел еще раз повидать белого оленя в вестибюле, доисторическую птицу, беднягу динозавра, гигантского муравьеда, прелестную ночную обезьянку и далеко не в последнюю очередь милейшее неандертальское семейство, а также древнего человека, презентующего букет цветов восходящему солнцу. Так я и сделал. С сердцем, преисполненным всесимпатии, прошел однажды утром, никем не сопровождаемый, по комнатам и залам первого и подвального этажей этого кукуковского творения, не преминув, конечно, на минуточку заглянуть в кабинет хозяина, — пусть все же знает, что меня опять потянуло сюда. Он, по обыкновению, встретил меня приветливо и сердечно, похвалил мою приверженность к его музею и сделал мне следующее предложение.
Сегодня, в субботу, день рождения принца Луи-Педро, брата короля. В честь этого события завтра, то есть в воскресенье, в три часа пополудни назначена Corrida de toiros, бой быков, на котором будет присутствовать сам принц; он, Кукук, вместе со сво-
640
ими дамами и господином Хуртадо тоже намерен посетить это народное зрелище. У него имеются билеты на теневую сторону, в том числе и для меня. Он считает необыкновенно удачным совпадением, что мне, путешествующему в образовательных целях, представилась неожиданная возможность присутствовать на португальской корриде. А что думает об этом сам путешественник?
Я думал об этом не без робости, в чем ему и признался. Меня пугает вид крови, сказал я, да и вообще, поскольку я себя знаю, эта традиционная резня вряд ли доставит мне удовольствие. Вот лошади, например. Я слыхал, что бык нередко вспарывает им брюхо так, что вываливаются внутренности; смотреть на это очень неприятно, да и сам бык будет внушать мне жалость. Можно, конечно, возразить, что зрелище, которое выносят нервы дам, для меня и подавно должно быть выносимо или даже интересно. Но дамы — исконные иберийки и сроднились с этим жестоким обычаем, тогда как я — иностранец, не привыкший… и так далее в этом роде.
Кукук поспешил меня успокоить. Напрасно, мол, я составил себе столь отталкивающее представление об этом празднестве. Коррида, конечно, вещь серьезная, но не отвратительная. Португальцы любят животных и до отвратительности это зрелище не доводят. Что касается лошадей, то на них издавна надевают толстые защитные попоны, предохраняющие их от серьезных ранений, а бык в конце концов здесь принимает смерть куда более благородную, чем на бойне. Кроме того, я ведь всегда могу смотреть не на арену, а на празднично разряженную толпу, заполняющую ряды амфитеатра, на общий вид цирка, весьма живописный и исполненный этнографического своеобразия.
Ну что ж, согласившись, что мне грех упустить такой случай, я поблагодарил профессора за внимание. Мы условились, что я заблаговременно буду дожидаться в своем экипаже у станции канатной дороги, чтобы вместе с семейством Кукук проделать весь остальной путь до цирка. Можно заранее сказать,
641
добавил профессор, что мы будем двигаться очень медленно по запруженным народом улицам. Я убедился в правильности его прогноза, когда в воскресенье, боясь опоздать, уже в четверть третьего вышел из отеля. Да, таким Лиссабона я еще не знал, хотя провел здесь уже не один воскресный день. Видимо, только коррида и могла в такой мере взбудоражить его. Вся необъятно широкая авенида была забита разными экипажами, повозками, запряженными лошадьми и мулами, всадниками верхом на ослах и пешеходами; и так на всех улицах, по которым мой экипаж пробирался шагом из-за невероятной толчеи. Из всех переулков и закоулков, из старого города, из предместий и окрестных деревень текла толпа сельских жителей и горожан, празднично разряженная в уборы, сегодня только вынутые из сундуков, а потому с несколько горделивыми, хотя и оживленными, лицами, выражающими достоинство, даже умильность; текла степенно, так мне по крайней мере казалось, без шума и бранчливых возгласов, в направлении Кампо Пекуэно.
Откуда это странное чувство душевного стеснения, смешанного
с состраданием, благоговением и чуть меланхолической веселостью, которое
охватывает тебя при виде празднично приподнятой, торжественной и слитной толпы
народа? В нем есть что-то далекое, первозданное, пробуждающее глубокое
уважение, но и тревогу тоже. Погода стояла еще летняя, солнце ярко светило,
блестя на медной оковке посохов, на которые опирались идущие издалека мужчины.
На них были пестрые шарфы и шляпы с широкими полями. На женщинах — платья из
накрахмаленной до блеска бумажной материи, обшитые на лифах, рукавах и подолах
золотой и серебряной тесьмой ажурной работы. У некоторых в волосах были высокие
испанские гребни, а поверх них иногда еще ниспадающие с головы на плечи вуали
из черных или белых кружев, так называемые мантильи. То, что их носили
крестьянские женщины, меня не удивляло, но когда предо мной предстала донна
642
маленном ситцевом платье, а в элегантном туалете, но тоже в мантилье поверх высокого гребня, — я, признаться, был поражен. Поскольку она не сочла нужным отметить улыбкой такой этнографический маскарад, я тоже не улыбнулся и лишь еще почтительнее склонился к ее руке. Мантилья чудо как шла к ней. Лучи солнца, проникая сквозь тонкое плетенье кружева, бросали филигранные тени на ее щеки, на ее крупное, строгое и по-южному бледное лицо.
Зузу была без мантильи. Но в моих глазах и очаровательные пряди черных волос, спущенные на уши, были достаточной национальной метой. Зато одета она была даже темнее, чем мать, как для обедни; мужчины, профессор и дон Мигель, который пришел пешком и, пока мы обменивались взаимными приветствиями, присоединился к нам, были в строгих костюмах — черный сюртук и цилиндр, тогда как я оставался в обычном своем синем костюме с цветными полосками. Это оказалось несколько gênant1 но неопытность иностранца заслуживала снисхождения.
Я велел кучеру ехать парком и через Кампо Гранде — такой путь был спокойнее.
Профессор и его супруга сели на заднее сиденье. Зузу и я — напротив них, а дон Мигель — рядом с кучером. Мы ехали молча, лишь изредка перекидываясь словами, что было главным образом вызвано необыкновенно важной, даже чопорной и, казалось, осуждающей всякую болтовню осанкой сеньоры Марии. Муж ее один раз обратился ко мне с каким-то незначительным вопросом, но я, как бы спрашивая разрешения, непроизвольно поднял глаза на эту сурово торжественную женщину в иберийском уборе и ответил ему по возможности кратко. Серьги с подвесками из черного янтаря покачивались в ее ушах при легких толчках коляски. Скопление экипажей у входа в цирк было огромное. Наши лошади медленно пробирались к подъезду сквозь эту гущу. Затем нас принял огромный шатер цирка с его перегородками, балюстрадами и все
643
возвышающимся амфитеатром, где лишь изредка можно было заметить пустующее место. Служители с бантами на плече провели нас на теневую сторону, и мы уселись — не слишком высоко — над желтым кругом арены, посыпанной опилками и песком.
Гигантский амфитеатр быстро заполнился вплоть до самого последнего места. Кукук ничуть не преувеличил, рассказывая мне о живописном величии этого зрелища. В яркую картину цирка, казалось, была вписана вся нация, даже высокопоставленная публика на тенистой стороне уже самым своим видом старалась, пусть робко и стыдливо, слиться с народом, там, на солнцепеке.
Некоторые дамы, в том числе иностранки, как, например, госпожа де Гюйон и княгиня Маврокордато, щеголяли высокими гребнями и мантильями, на других, в подражанье национальному костюму крестьянок, были платья, обшитые золотой и серебряной тесьмой, а строгая одежда мужчин являлась как бы знаком внимания к народу или хотя бы к народности празднества.
В гигантском цирке царило радостно выжидательное, но сдержанное настроение, даже на солнечной стороне оно заметно отличалось от обычного настроения черни, чувствующей себя как дома на «мирских» стадионах и спортивных трибунах. Нетерпеливое возбуждение, которое я разделял со всею массой зрителей, уставившихся на пустой еще круг арены, — желтый ее покров вскоре должен был задымиться алыми лужами крови, — явно сдерживалось сознанием предстоящего священнодействия. Музыка на мгновение смолкла, и вместо какой-то концертной вещицы мавритано-испанского характера оркестр заиграл гимн, едва только принц, сухопарый мужчина со звездой на сюртуке и хризантемой в петлице, и его супруга, с мантильей на волосах, показались в ложе. Все встали с мест и зааплодировали. То же самое произошло и несколько позднее в честь совсем другого человека.
Выход принца и принцессы состоялся за одну минуту до трех. Когда часы начали бить, большие сред-
644
ние ворота растворились, под непрекращающуюся музыку пропуская процессию актеров — впереди три меченосца с аксельбантами на коротких болеро, в расшитых узких штанах, доходивших до половины икр, в белых чулках и туфлях с пряжками. За ними — бандерильеры, держащие в руках остроконечные, украшенные пестрыми лентами бандерильи, и столь же нарядно одетые капеадоры с узкими черными галстуками, струящимися по рубашке, и пунцовыми плащами, перекинутыми через руку. За бандерильерами показалась кавалькада пикадоров, вооруженных пиками[111], в шляпах с развевающимися лентами, на лошадях, стеганые попоны которых, наподобие матрацев, свисали на грудь и бока, и, наконец, упряжка разубранных цветами и лентами мулов, замыкающая процессию, которая двигалась по желтой арене прямо к ложе принца, где она и распалась, после того как каждый ее участник отвесил почтительный поклон. Я заметил, что некоторые тореадоры, направляясь к защитным барьерам, осеняли себя крестом.
Маленький оркестр снова умолк, внезапно, на полутакте; послышался одинокий и пронзительный звук трубы. Тишина вокруг была немая. И тут из распахнувшихся низких ворот, которых я раньше не заметил, выскакивает и мчится — я перешел здесь на настоящее время, потому что опять словно воочию вижу все это, — мчится нечто стихийное — бык, черный, тяжелый, могучий с виду, — непреодолимое скопище родящей и умерщвляющей силы, в котором древние, ранние народы видели бы богозверя, зверебога; грозно вращаются его глаза, рога изогнуты наподобие тех, из которых пили наши предки, но они крепко вросли в его широкий лоб и на торчащих, загнутых кверху, концах несут неотвратимую смерть. Он рвется вперед, останавливается, упершись передними ногами, с яростью смотрит на красный плащ, который один из пикадоров, угодливо согнувшись, волочит по песку арены, бросается на это красное пятно, сверлит его рогами, зарывает в песок, и в тот миг, когда, склонив голову набок, он собирается еще раз ударить
645
рогами красную тряпку, маленький человек отдергивает ее и одним прыжком оказывается позади быка. В ту же самую секунду два бандерильера втыкают пестрые бандерильи в жировую прослойку на его затылке. Бандерильи ушли в нее; они, видимо, снабжены крючками и держатся крепко, так как покачиваются и косо торчат из его тела до самого конца игры. Третий бандерильер всадил ему точно в холку короткую оперенную бандерилью, и это украшение, похожее на распростертые крылья голубя, тоже остается на нем в продолжение всей его дальнейшей смертоубийственной борьбы со смертью.
Я сидел между Кукуком и донной Марией-Пиа. Профессор время от времени наклонялся ко мне и шепотом комментировал происходящее. От него я узнал названия различных участников этой боевой игры. Он же рассказал мне, что бык до сегодняшнего дня вел счастливую жизнь на вольном пастбище, избалованный заботой и учтивым обхождением. Моя величавая соседка справа хранила молчание. Она отводила глаза от бога рожденья и смерти там внизу, на арене, только затем, чтобы укоризненно взглянуть на мужа, когда он говорил. Ее суровое бледное лицо в тени мантильи было неподвижно, но грудь быстро вздымалась и опускалась; уверенный, что она ничего не замечает, я больше смотрел на эту грудь, вздымающуюся от необоренного волнения, чем на проткнутое бандерильями с комично маленькими крылышками, залитое кровью жертвенное животное[112].
Я называю его так, потому что надо было быть уж очень тупым, чтобы не почувствовать охватившей вся и всех накаленной и в то же время священно радостной атмосферы, окружавшей это ни с чем не сравнимое смешение веселости, крови и благоговения, это пришедшее наружу первобытно-народное начало, это почерпнутое из глуби веков древнее празднество смерти. Позднее в экипаже профессор Кукук, уже получивший право говорить, стал распространяться о том же самом, но моему и без того тонкому, теперь же особенно обострившемуся чутью его ученые домыслы ничего существенно нового не сказали,
646
Веселье и ярость разразились бешеным взрывом, когда бык чуть позднее, осененный внезапной догадкой, что эта неравная игра силы и разума добром не кончится, повернул к воротам, через которые выбежал на арену, и с вонзенными в его жир и мускулы нарядными остриями вознамерился уйти обратно в свое стойло[113].
По рядам пронеслась буря возмущения и насмешливого хохота.
Не только на солнечной стороне, но и на нашей зрители повскакали с мест,
свистя, крича, бранясь и отплевываясь. Моя пава тоже вскочила на ноги,
свистнула что было силы, показала трусу длинный нос и — «хо-хо-хо!» — пронесся
по цирку ее зычный насмешливый хохот. Пикадоры преградили путь быку, тыча, в
него своими тупыми пиками. Опять пестрые бандерильи! Некоторые для пущего
веселья были снабжены потешными ракетами, которые с треском и шипом взрывались
на его живом теле, впивались ему в шею, спину, бока. От боли и оскорбления его
мимолетный приступ разума, так возмутивший толпу, перешел в слепую ярость,
подобавшую могучему животному в этой смертной игре. Лошадь и всадник уже
валялись на арене. Один зазевавшийся капеадор был поднят на рога и тяжело
грохнулся наземь. Но взбесившегося быка удалось отвлечь от неподвижного тела,
пользуясь его ненавистью к красному цвету; поверженный был поднят и унесен с
арены под громкие аплодисменты. Надо сказать, что я так и не понял, к кому они
относились: к потерпевшему или к яростному быку — возможно, к тому и другому.
Профессор высказал предположение, что бедняга отделался переломом нескольких ребер и сотрясением мозга.
—А вот и Рибейро, -— сказал он вдруг. — Красивый малый!
От группы участников боя отделился один из эспадо, встреченный громким «ах» и приветствиями,
647
свидетельствовавшими о его популярности; в то время как все остальные жались к барьеру, он остался на арене один на один с истекающим кровью разъяренным быком. Я обратил на него внимание еще во время процессии, ибо мой глаз немедленно отличает красивое и элегантное от обыденного. Юноша лет восемнадцати или девятнадцати, Рибейро и вправду был писаный красавец. Под черными волосами, спадавшими ему на самые брови, виднелось точеное, типично испанское лицо, на котором играла едва заметная улыбка, возможно, вызванная приемом, оказанным ему зрителями, а возможно, говорившая лишь о презрении к смерти и о сознании своей смелости; при этом черные его глаза смотрели серьезно и спокойно. Вышитая курточка с наплечниками и сужавшимися к запястью рукавами (ах, крестный Шиммельпристер некогда наряжал меня в точно такую) шла ему не меньше, чем мне в те далекие времена.
Я заметил, что у него тонкие, на редкость аристократические руки; в одной из них он держал вынутый из ножен блестящий дамасский клинок, держал, как трость на прогулке. Другою прижимал к себе пунцовый плащ. Впрочем, дойдя до середины уже взрытой и окровавленной арены, он бросил кинжал в песок и только слегка помахал плащом в направлении быка, всеми силами пытавшегося стряхнуть с себя бандерильи. Затем он встал неподвижно, с чуть заметной улыбкой, серьезным взглядом следя за несущимся на него зловещим мучеником, для которого он был единственной целью, словно одинокое дерево для удара молнии. Он стоял как вкопанный — слишком долго, несомненно, слишком долго. Надо было хорошо знать его, чтобы с ужасом не думать: еще секунда — и он будет сбит с ног, вспорот, убит, растоптан. Но вместо этого произошло нечто удивительно грациозное, тонко продуманное, прекрасное. Рога уже коснулись его, на них повис кусок вышивки с куртки, когда одно-единственное, почти неприметное движение, передавшееся красному плащу, заставило эти орудия смерти ударить туда, где его уже не было, ибо один неуловимый шаг — и он стоял
648
сбоку от чудовища; бык и фигура человека с рукой, вытянутой вдоль черной спины, туда, где рога целились в извивающийся алый плащ, слились в одну дивную группу. Толпа повскакала с мест и с криком: «Рибейро!» и «toiro» — разразилась овацией. Я захлопал в ладоши, то же самое сделала и иберийская пава с бурно вздымающейся грудью.
Я успевал смотреть попеременно то на быстро распавшуюся группу «зверь и человек», то на нее, ибо эта женщина, суровая и стихийная, становилась для меня все более неотделимой от кровавой игры там внизу.
Рибейро в дуэте с toiro порадовал нас еще несколькими блистательными трюками; мне уже стало ясно, что все дело здесь в грациозных позах перед лицом опасности, в пластическом единении изящества и могучей силы.
Был момент, когда бык, ослабев и наскучив тщетностью своей злобы, отворотился от Рибейро и тупо уставился в землю, а его партнер, вдруг повернувшись к нему спиной, опустился на колени в песок, тотчас же легко вскочил и пошел на него, склонив голову, высоко подняв одну руку и волоча за собой красный плащ. Это выглядело очень смело, но он был уверен, что рогатый глупец хоть на мгновенье да оцепенеет. В другой раз, мчась впереди быка, он почти упал, но удержался на вытянутой руке, далеко отставив другую с бьющимся в воздухе плащом, неизменно повергающим в ярость его четвероногого противника, и тотчас же легким движением перескочил через его спину. Опять раздались оглушительные аплодисменты, за которые он не благодарил, считая, что они в такой же мере относятся к toiro, а этот последний не имел вкуса ни к славе, ни к благодарности. Хотя мне даже казалось, что он ощущает непристойность такого обхождения с жертвенным животным, до того, на вольном пастбище, знавшим лишь почтительную учтивость. Но в этом и была соль, которой здесь по-народному приправляли благоговенье перед кровью. Покончив с игрой, Рибейро подбежал к брошенному им кинжалу, опустился на одно колено, все тем
649
же приглашающим жестом распластал перед собой плащ и стал в упор глядеть, как бык, изготовившийся к нападению, приближается к нему неуклюжим галопом. Он подпустил его совсем близко, вплотную, точно рассчитав секунды, схватил с полу кинжал и молниеносно вонзил в его холку блестящий узкий клинок почти по самую рукоятку. Бык осел[114], перекатился с боку на бок, на мгновенье зарылся рогами в песок, словно это был пунцовый плащ, затих, и глаза его остекленели.
Право же, это был элегантнейший способ убоя, Я как сейчас вижу Рибейро: с плащом под мышкой он идет на цыпочках, словно стараясь потише отойти в сторонку, и оглядывается на свою бездыханную жертву. Но уже во время этой короткой схватки не на жизнь, а на смерть вся публика, как один человек, встала, бурей аплодисментов приветствуя быка — героя страшной игры, который так мужественно вел себя после того, как вначале сделал было попытку удрать с арены. Овация продолжалась до тех пор, пока упряжка мулов не увезла огромную тушу. Рибейро шел рядом с повозкой, воздавая последнюю почесть своему противнику. На арену он уже не возвратился. Под другим именем, в другой жизненной роли, как часть двуединого образа, суждено было мне встретить его несколько позднее. Но об этом в свое время и на своем месте.
Мы видели еще двух быков, менее интересных, как, впрочем, и эспада, сражавшиеся с ними. Один, например, всадил свой книжал столь неумело, что бык не упал, хотя из него потоком хлынула кровь« Он стоял в такой позе, словно его рвало, расставив ноги, далеко вытянув шею, извергая в песок широкую струю крови, — неприятная картина. Ражий матадор, не в меру франтоватый и очень важничающий, вынужден был дать ему еще «удар милосердия», так что из тела быка торчали уже рукоятки двух кинжалов. Мы ушли. В экипаже супруг Марии-Пиа научна прокомментировал то, что мы, то есть я, впервые видели сегодня. Он долго говорил о древнем римском веровании,
659
спустившемся с вершин христианства до почитания не в меру кроволюбивого бога, культ которого едва не стал поперек дороги культу господа нашего Иисуса Христа как мировой религии, ибо тайны его были очень по сердцу народу. Новообращенных, согласно этому верованию, крестили не водой, но кровью быка, который, возможно, сам был богом и оживал в каждом, пролившем его кровь. В этом учении было какое-то извечное единство, нечто объединяющее жизнь и смерть в неделимое целое, и таинства его тоже зиждились на равенстве и единстве убийцы и убиенного, топора и жертвы, стрелы и цели… Я слушал профессора не слишком внимательно и лишь постольку, поскольку это не мешало мне смотреть на женщину, чья красота и сущность так ярко проявились на этом народном празднике, который, вернув ее к себе самой, сделал тем более достойной восхищенного созерцания. Грудь ее сейчас была спокойна. А я хотел вновь видеть ее вздымающейся.
О Зузу — теперь мне это стало ясно — я начисто забыл во время кровавого спектакля. Тем отважнее я решил исполнить наконец ее настойчивое требование и, благословясь, вручить ей рисунки, которые она заранее считала своей собственностью: голую Заза со спущенными на уши волосами Зузу. На следующий день я снова был приглашен завтракать у Кукуков.
Некоторое похолодание, наступившее после прошедшего ночью дождя, позволило мне надеть пальто, во внутренний карман которого я положил свернутые трубочкой рисунки. Хуртадо тоже был там. За столом разговор вращался вокруг вчерашних впечатлений, и я, чтобы сделать приятное профессору, стал расспрашивать его о «вышедшей в тираж» религии, к которой с вершин христианства спускалась прямая дорожка. Многого он ко вчерашнему добавить не сумел и только возразил мне, что далеко не все ее обряды «вышли в тираж», так как подлинно народные священнодействия искони дымились жертвенной
651
кровью, кровью бога, и пояснил мне связи, существующие между закланием жертвы и вчерашним кровавым празднеством. Я взглянул на грудь хозяйки дома, не вздымается ли она.
После кофе я распрощался с дамами, выговорив себе право нанести им еще последний визит, так как день моего отъезда был совсем близок. Вместе с профессором и сеньором Хуртадо, отправлявшимися обратно в музей, я сел в вагончик канатной дороги и уже в нижней части города простился с ними, выразив надежду на то, что благосклонная судьба в недалеком будущем позволит мне снова насладиться их обществом. Для вида я направился к «Савой паласу», но, зайдя за угол, огляделся по сторонам, повернул обратно и сел в тот же вагончик, отправляющийся наверх.
Я знал, что калитка в палисадник открыта. Погода с самого утра стояла по-осеннему мягкая и солнечная. У донны Марии-Пиа был час сиесты. Я не сомневался, что найду Зузу в садике за домом, куда из палисадника вела посыпанная гравием дорожка. В середине маленького газона цвели далии и астры. В глубине, по правую руку, олеандровые кусты защитным полукругом опоясывали скамейку. Моя милая сидела там под сенью олеандров в платье, похожем на то, в котором я увидел ее впервые, свободном, как она любила, в голубую полоску, с кушаком из той же материи и кружевным шитьем на полудлинных рукавах. Она читала книгу и не оторвалась от нее, не подняла на меня глаз, хотя, конечно, слышала мои осторожные шаги, пока я не встал перед нею. Сердце мое учащенно забилось.
— Ах, — она приоткрыла губы, показавшиеся мне, так же как и ее прелестное лицо, бледнее обыкновенного. — Вы еще здесь?
— Снова здесь, Зузу, я уже побывал в городе и тайком вернулся сюда, чтобы исполнить свое обещание.
— Весьма похвально, — сказала она. — Господин маркиз вспомнил о своем обязательстве, — наконец-то! Эта скамейка мало-помалу превратилась в какую-то
652
ожидальню… — Она сказала лишнее и прикусила язычок.
— Как вы могли подумать, — заторопившись, возразил я, — что я позабуду о нашем уговоре, состоявшемся в той дивной галерее? Можно мне подсесть к вам? Эта скамейка в кустах куда укромнее, чем все остальные, на корте например. Боюсь, что теперь я снова заброшу теннис и разучусь играть…
— Ну, у Мейер-Новаро в Аргентине, наверно, есть теннисная площадка.
— Возможно. Но другая. Мне тяжело расставаться с Лиссабоном, Зузу. Я только что простился с вашим досточтимым отцом. Как замечательно он сегодня говорил о народных священнодействиях. Вчерашняя коррида, мягко говоря, курьезное зрелище.
— Я почти не смотрела на арену. Да и ваше внимание не было нераздельным -гкак всегда. Но к делу, маркиз! Где мои dessins?1
— Вот, — отвечал я. — Вы сами этого пожелали, Зузу… Поймите, это продукт моих мечтаний, так сказать, бессознательное творчество…
Она держала в руках эти несколько листков, рассматривая верхний. На нем рукой влюбленного было нарисовано тело Заза в разных позах. Диски серег совпадали и пряди на ушах тоже. В лице сходства было меньше, но что тут значило лицо!
Я сидел прямо, как донна
653
снова опустилась на скамейку, обвила руками мою шею, спрятала пылающее личико на моей груди; короткие прерывистые вздохи вырывались у нее почти неслышно, тем не менее они мне сказали все; в то же время — и это было самое трогательное — маленький кулачок непрерывно и ритмично молотил по моему плечу. Я поцеловал ее руку на моей шее, притянул к себе лицо, покрывая поцелуями ее губы, и они ответили мне, совсем как в моих мечтах, совсем как я этого хотел, как представлял себе это, когда впервые увидел ее, мою Заза на площади О Рочо. И кто же, пробегая глазами эти строки, не позавидует мне? Не позавидует ей, впервые узнавшей любовь, хотя она и молотила по мне кулачком. Но какой неожиданный оборот судьбы! Какая превратность счастья!
Зузу резко откинула голову, разорвала наше объятие. Перед олеандрами и скамейкой, перед нами, стояла ее мать.
Молча, словно нас ударили по только что страстно соединенным губам, смотрели мы на величественную даму; возле ее большого бледного лица с суровым ртом, с нахмуренными бровями и раздувающимися крыльями носа покачивались подвески из черного янтаря. Вернее — смотрел на нее только я; Зузу прижала подбородок к груди и усиленно молотила кулачком, теперь уже по скамейке, на которой мы сидели.
Читатель поверит мне, что я был меньше обескуражен появлением матери, чем это можно было предположить. Возникшая передо мной столь неожиданно, она точно явилась на мой зов, и к понятной моей растерянности вдруг примешалась радость.
— Мадам, — учтиво сказал я, поднявшись с места: — Прошу прощения за то, что потревожил вас в час отдыха. Все это случилось как-то само собой и не переступило границ благопристойного…
— Молчите! — повелела властительница своим удивительно звучным, чуть гортанным голосом и обратилась к Зузу: — Сюзанна, ты сейчас пойдешь в свою комнату и останешься там, покуда тебя не позовут!
654
Затем она перевела взгляд на меня:
— Маркиз, я хочу поговорить с вами, следуйте за мной.
Зузу уже бежала по газону, который, видимо, и сделал шаги сеньоры неслышными. Сеньора же шла теперь по усыпанной гравием дорожке, и я, послушный ее велению, «следовал» за ней, иными словами, шел не подле нее, а немного поодаль и наискосок. Так мы вошли в дом, затем в гостиную, откуда одна дверь вела в столовую. За противоположной, неплотно прикрытой дверью, видимо, находилось помещение интимного характера. Рука суровой хозяйки дома прикрыла ее.
Наши взгляды встретились. Она была не то что красива, а удивительно хороша собой.
— Луи, — сказала она, — прежде всего мне следовало бы спросить, считаете ли вы, что именно так вам надлежало нас отблагодарить за наше португальское гостеприимство? Нет, молчите! Я отнюдь не хочу утруждать себя этим вопросом, а вас ответом на него. Я позвала вас сюда не затем, чтобы дать вам возможность принести вздорные извинения. Ими вы не искупите неразумия ваших поступков. Чудовищного неразумия. Все, что вам теперь остается и подобает, — это молчать, предоставив человеку более зрелому взять на себя заботу о вас и вернуть вас на правый путь с безответственно ребяческого пути, по которому вы ушли так далеко в вашей юношеской беспечности. Ну можно ли было столько намутить и напортить, поддавшись пагубному стремлению юности к юности. О чем вы думали? Что вам нужно от этого ребенка? Позабыв о благодарности, вы вносите сумбур и смятение в дом, гостеприимно открывший вам свои двери из уважения к вашему имени и прочим качествам, в дом, где царят порядок, разум, твердые правила. Сюзанна рано или поздно, скорее всего в самом недалеком будущем, станет женой дона Мигеля, достойного ассистента дона Антонио Хосе, — такова непреложная воля ее отца. Как же неразумно вы поступили, позволив своим желаниям обратиться на эту девочку. Ваш выбор и ваши
655
поступки недостойны мужчины, это мальчишество. Еще хорошо, что в эту историю вовремя вмешался зрелый разум. Однажды в разговоре вы обмолвились о доброте зрелости, о той доброте, с которой она произносит имя юности. Для того чтобы встреча юности со зрелостью стала счастливой встречей, нужны решительность и отвага, и если бы юность проявила эти качества, вместо того чтобы искать утешенья в детской, она не должна была бы теперь ретироваться, как мокрый пудель, не унося с собой за океан даже сладостного воспоминания…
—
— Оле! Хе-хо! А-а-э! — ликуя, крикнула она.
Вихрь первозданных сил унес меня в края блаженства. И еще выше, еще более бурно вздымалась ее царственная грудь под жгучим« моими ласками, нежели тогда, во время кровавой иберийской игры.
ПРИМЕЧАНИЯ
Легенда о папе Григории стала известна Томасу Манну из
средневекового сборника «Gesta R
Главным источником Томасу Манну послужили, однако, не «Gesta», а поэма немецкого (швабского) поэта Гартмана фон Ауэ (1165—1210) «Григорий столпник», с которой Томас Манн познакомился позднее и сюжета которой он придерживается в «Избраннике».
Кроме поэмы Гартмана фон Ауэ, в «Избраннике», по собственному свидетельству Томаса Манна, получили пародийное переосмысление куртуазный эпос «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха, старинные песни, посвященные деве Марии, «Песнь о Нибелунгах».
Местом действия «Избранника» является не Аквитания, как в поэме Гартмана фон Ауэ, а вымышленное герцогство Фландрия-Артуа. Действие романа не приурочено к какой-либо конкретной эпохе. «Я придумал, — пишет Томас Манн, — некое лишенное временной определенности сверхнациональное западноевропейское средневековье, в языковой сфере которого юмористически смешаны архаичные и современные древненемецкие, старофранцузские, а подчас и английские элементы». Таким образом, «Избранник» не является историческим романом, более или менее достоверно повествующим о подлинных событиях. Поэтому географические названия, встречающиеся в романе, не комментируются.
659
Стр. 7. Ходящий в ключах — апостол Петр, могила которого находится в соборе св. Петра в Риме.
Стр. 9. Остров св. Патрика — Ирландия. Апостол Патриций (389—461) — национальный святой Ирландии.
Стр. 13. Император Каролус — Карл Великий (742—814), король франконский, с 768 года римский император.
Стр. 18. Тйост — рыцарский поединок.
Стр. 47. …divum Benedictum — Божественного Бенедикта (лат.). Имеется в виду Бенедикт Нурсийский (480—543), реформатор западноевропейского монашества, основатель ордена бенедиктинцев, с половины VI столетия ставшего самым многочисленным и богатым монашеским орденом в Европе. Одним из положений устава бенедиктинцев является обязательность для монахов физического труда, главным образом по обработке земли.
Стр. 56. Двадцать марок — десять фунтов золота.
Стр. 67. Киновия — так называемый общежительный монастырь с выборным настоятелем, где монахи обязаны трудиться в пользу монастыря, за что обеспечиваются пищей, одеждой и т. д.
…послушный уставу Цистерциума… — Имеется в виду монашеский орден цистерцианцев, являющийся ветвью ордена бенедиктинцев и отличающийся более строгим уставом.
Бельцы — лица, готовящиеся к пострижению в монахи и живущие в монастыре.
…так оно и быть должно. — Слово «аббат» происходит от арамейского «абба», что значит «отец».
Стр. 69. Капитул — собрание и место собраний членов духовной коллегии.
Стр. 71. Друиды — жреческая каста у кельтов (племен, обитавших со 2-го тысячелетия до н. э. в Западной Европе к северу и западу от Альп, от реки Роны, через Южную Германию, до областей по верхнему течению Дуная), религия которых состояла в почитании природы и требовала жертвоприношений, иногда — человеческих.
Стр. 95. Бушприт — горизонтальная или наклонная мачта, выставленная вперед с носа судна.
Утлегарь — продолжение бушприта.
Стр. 96. Форштевень — носовая оконечность судна, продолжение киля.
Стр. 195. …плоды… материнского лона… — Ср. Лукреций, «О природе вещей», I, 251: «Gremium matris terrai», «земли материнское лоно».
660
Стр. 200. …«жезл Ассур» — цитата из библии, книга Исайи, гл. 10, ст. 5. «Ассур… жезл ярости моей».
Стр. 204. Ориген (ок. 185—ок. 254) — греческий раннехристианский богослов, пытавшийся внести в христианское вероучение элементы греческой философии; основоположник критики библейских текстов.
Стр. 206. Седисваканция — время, когда папский (или епископский) престол не занят.
Стр. 240. Апсида — полукруглая или многогранная ниша в глубине церкви.
Стр. 241. Манихейцы, присциллианцы, пелагианцы — последователи средневековых еретических учений, отвергнутых римской церковью. Так, например, пелагианство (по имени британского монаха Пелагия, умершего около 429 года), отрицавшее первородный грех, было осуждено Эфесским собором в 431 году.
Монофизитская ересь — учение о чисто божественной природе Христа, отрицавшее его человеческую природу; в V веке положило начало самостоятельности некоторых церквей, например армянской, сирийской.
Стр. 242. Донатисты (по имени Доната, епископа Карфагенского) — североафриканская религиозная секта IV—V веков, ставившая своей целью создание независимой от Рима африканской церкви.
Тертуллиан Квинт — Септимий Флоренс (род. между 150 и 160 — ум. 222) — богослов, один из основоположников христианской догматики, провозгласивший примат религии над наукой (ему приписывается известное изречение «credo quia absurdum est» — «верую, ибо это нелепо»).
Стр. 244. Примас — в католической церкви первый по своим правам епископ какой-либо страны.
С.
Апт
ПРИЗНАНИЯ АВАНТЮРИСТА ФЕЛИКСА КРУЛЯ
КНИГА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Стр. 267. …Мой крестный Шиммельпристер. — Фамилия Шиммельпристер состоит из двух немецких слов: Schimmel — плесень и Priester — пастырь, священник.
661
ГЛАВА ВТОРАЯ
Стр. 273. …с именем Феликс. — Феликс (felix) по-латыни означает «счастливый».
…я любил воображать себя кайзером. — Речь идет о германском императоре и короле прусском Вильгельме I (1797—1888). «Седовласым героем» художник Шиммельпристер называет кайзера потому, что он номинально числился главнокомандующим во время франко-прусской войны 1870—1871 годов (фактически главнокомандующим немецкой армии был начальник генерального штаба Мольтке-старший). В 1871 году Бисмарк осуществил давно намеченное им объединение немецких земель под гегемонией Пруссии, и Вильгельм I, на 75-м году жизни, был провозглашен главою новой («второй») германской империи.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Стр. 283. …крестный… давал следующее толкование своему имени. — См. примечание к стр. 267.
КНИГА ВТОРАЯ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Стр. 365. После… победы истинно давидовой… — Речь идет о славной победе отрока Давида (позднее, с 1033 года до н. э, царя Израиля) над филистимлянским богатырем Голиафом; автор сравнивает с нею победу симулянта Круля над военной машиной империи Гогенцоллернов.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Стр. 378. …в канун Михайлова дня… — то есть накануне 29 сентября (по католическому церковному календарю).
Стр. 382. непримиримый противник отторжения Эльзас-Лотарингии. — Эльзас и Лотарингия, две восточные провинции Франции, были отторгнуты Германией в 1872 году, согласно Франкфуртскому мирному договору.
662
КНИГА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
Стр. 476. …на гэльском наречии… — одно из кельтских наречий, на котором говорят в некоторых районах Ирландии, в высокогорной Шотландии и на острове Мэн.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Стр. 528. …древовидный папоротник… растение каменноугольного периода. — Современнее тропические древовидные папоротники, ствол которых достигает 20 метров в высоту, не являются столь древними, как утверждает Кукук. Они впервые появляются не в каменноугольном периоде, относящемся к первичной эре истории земли (палеозою), а лишь в конце вторичной эры (мезозоя). — в меловом периоде.
Стр. 529. Впрочем: Кукук. — В лице профессора Антонио Хосе Кукука Томас Манн нарисовал обобщенный образ биолога-идеалиста начала XX века. Трудно сказать, почему автор окрестил его комической фамилией Кукук (что по-немецки значит кукушка). Быть может, он хотел этим подчеркнуть любовь профессора Кукука к разговорам о «недолговечности жизни», к предсказаниям скорых сроков гибели человечества; а ведь известно, что кукушке народ приписывает дар предсказывать, сколько лет кому положено прожить. Это предположение кажется тем более вероятным уже потому, что длительность отдельных геологических эпох и периодов Кукуком повсюду резко преуменьшается по сравнению не только с принятыми в наше время представлениями, но и с представлениями, господствовавшими в конце XIX и начале XX веков. Такое систематическое, а потому, надо думать, неслучайное «сокращение сроков жизни» как бы предназначено для удержания народов от борьбы за новый справедливый миропорядок, рассчитанный на непрерывную чреду поколений. Впрочем, очень вероятно, что Томасу Манну фамилия Кукук встретилась на обложке книги петербургского немца, врача Мартина Кукука, изданной в Лейпциге (на немецком языке) в 1907 году под претенциозным заглавием «Разрешение проблемы самопроизвольного зарождения жизни». Это предположение (вполне совместимое с ранее высказанным) кажется тем более соблазнительным, что Мартин
663
Кукук, как и Антонио Хосе Кукук, в своих рассуждениях о происхождении жизни исходит из получивших в начале века громкую известность работ немецкого физика Лемана по жидким кристаллам (см. ниже примечание к стр. 541).
В биологических и палеонтологических пояснениях, даваемых Антонио Хосе Кукуком герою романа в вагоне и затем в музее, содержится много фактических ошибок, которые нельзя объяснить состоянием научной мысли начала века.
Но прежде, чем остановиться на частностях, — несколько слов об эволюционной концепции Кукука.
Философствующий биолог развертывает перед своим слушателем картину протекавшей на протяжении истории земли последовательной смены форм жизни, начиная с примитивных одноклеточных организмов и кончая появлением человека. В соответствии с общепринятыми эволюционными представлениями Кукук признает генетическую связь организмов, их происхождение друг от друга в процессе эволюции, все более и более возрастающее усложнение их организации. Однако в своем объяснении эволюционного процесса Кукук явно придерживается идеалистических представлений. Его общая схема эволюции мира сводится к следующему: «Сотворение мира свершилось не один раз, а трижды: возникновение бытия из небытия, пробуждение жизни из бытия и рождение человека» (стр. 538). Бытие для Кукука только «эпизод» в бесконечной чреде небытия: «…первое содрогание бытия прорвалось из небытия благодаря некоему «да будет», уже неизбежно вобравшему в себя «да прейдет» (стр. 538). Точно так же и жизнь возникла из бытия благодаря новому фидеистическому «да будет» творца, а когда природа в своем развитии дошла до человека, понадобилось еще и третье «да будет». Кукуку явно не нравится учение о происхождении человека от обезьянообразных предков: «…не надо, — говорит он, — чтобы нас так уж ослепляло сходство его внутренних органов с органами человекоподобных обезьян, из-за этого и так было поднято слишком много шума» (стр. 537). Но в то же время он отнюдь не отрицает генетической связи человека с животным миром, с характерной, однако, оговоркой: «…человек произошел от зверя в той же мере, в какой органическое произошло от неорганического. Тут примешалось что-то еще» (стр. 537) (очевидно, все то же третье «да будет»).
664
Эта общая мистико-идеалистическая концепция мира определяет и ту «теорию» процесса эволюции органического мира, которую развивает Кукук. Ученый ни звуком не упоминает о теории естественного отбора Дарвина, дающей материалистическое объяснение приспособляемости животных и растений к условиям среды, предпочитая говорить: о «первозданной способности хлорофилла» (см. примечание к стр. 541), о том, что весь мир вымерших организмов можно рассматривать как «предварительные эксперименты для создания… человека» (стр. 570), о том, что гигантские динозавры юрского периода были «досадливо отвергнуты природой» (стр. 570), о том, что, совершенствуя строение «гигантского муравьеда» и саблезубого тигра, «природа только подшучивала над обоими и, доведя своих детищ до предела их возможностей, взяла да и покинула их в беде» (стр. 572) и т. п. Такая система воззрений приводит Кукука в конечном счете к отрицанию причинного объяснения явлений природы: «Что, собственно, думает природа? Да ровно ничего. И человеку нечего о ней раздумывать, ему остается только дивиться ее деятельному равнодушию…» Очевидно, что Томас Манн не разделял воззрений Кукука. Он намеренно столкнул своего авантюриста с ученым, подводившим «теоретическую базу» под воззрения господствующих классов современного буржуазного мира, «живущего под знаком конца».
…Нынешняя морская звезда, потомок морской лилии… — Морские звезды не являются «потомками» морских лилий: эти два класса иглокожих животных развились в кембрийском периоде (т. е. в начале палеозоя) из общих для них докембрийских, более примитивных, предков, очень рано обособились друг от друга и образовали два самостоятельных ствола единого родословного древа. Описанная Кукуком смена стадий развития (прикрепленная личинка и свободно плавающая взрослая форма) характерна не для морских звезд, а для некоторых видов морских лилий: взрослые морские звезды — не плавающие, а медленно ползающие по дну животные.
Стр. 531. Как? Лошадь происходит от тапира? — И от носорога. — Лошадь не происходит от тапира или носорога. Лошадь, тапир и носорог — рано обособившиеся друг от друга самостоятельные ветви родословного древа непарнокопытных, развившиеся из общих для них доэоценовых предков. Eohippus — не родоначальник тапиров, а древнейшая вымершая форма лошади.
665
Стр. 532. Эпоха эоцена. — Эоцен действительно относится к «новейшей» эре истории земли (кайнозой); однако от эоцена нас отделяют не «несколько сот тысячелетий», как утверждает Кукук, а по меньшей мере 50—60 миллионов лет.
…его (человека) развитие завершилось… вместе с развитием млекопитающих. — Кукук сам говорит, что человек вряд ли существовал в эоцене. В настоящее время считается, что человек выделился из животного мира как самостоятельный вид около миллиона лет назад (не ранее начала четвертичного периода). Между тем млекопитающие впервые появляются около 200 миллионов лет назад.
Органическая жизнь на земле… существует пятьсот пятьдесят миллионов лет. — Поскольку уже в архейской эре (до протерозоя и палеозоя), несомненно, существовали какие-то примитивные организмы, продолжительность жизни на земле составляет (по современным подсчетам) не 550, а по меньшей мере около 1500 миллионов лет.
Стр. 534. В кембрии растительный мир еще очень скуден: Морские водоросли — ничего другого там не встретишь. — Помимо широкого развития водорослей и бактерий, в кембрии констатировано появление первых наземных простейших растений — псилофитов. Что касается животного мира, то в кембрии были представлены не только все типы беспозвоночных, но, по всей вероятности, и первые, наиболее примитивные позвоночные животные. Наземные позвоночные и насекомые появляются в каменноугольном периоде, т. е. не 50, а примерно 250 миллионов лет назад (даже в конце XIX века отдаленность от нас каменноугольного периода исчислялась в 185 миллионов лет). Млекопитающие, как уже было указано, возникают в триасовом периоде мезозоя, а птицы позже — в юрском периоде.
Стр. 535. …у него была склонность передвигаться в вертикальном положении. — Описываемый Кукуком бронтозавр или диплодок (крупнейшие позвоночные, когда-либо жившие на земле) в действительности передвигались[115] на четырех ногах. Вертикальный способ передвижения был свойствен большому числу других динозавров, значительно меньшего, однако, размера, чем диплодок и бронтозавр. Среди динозавров были как травоядные, так и хищники, и последние во всяком случае вовсе не отличались «добродушием».
Стр. 536. Весьма примечательно, сколь первобытными остались руки и ноги человека в сравнении с его мозгом. — В про-
666
цессе эволюции человека как его конечности, так и его мозг претерпели громадные изменения: если руки человека превратились в тончайшее орудие для выполнения самых сложных трудовых процессов, то его мозг стал органом нашей познавательной деятельности. Поэтому очень трудно «измерить», насколько более «первобытными» остались руки и ноги человека по сравнению с его мозгом.
Стр. 541. Первозданная способность хлорофилла… — Хлорофилл (зеленый пигмент растений) представляет собой органическое соединение, близкое по своему химическому составу к красящему веществу (пигменту) гемоглобина в крови животных. Как известно, важнейшая функция хлорофилла заключается в поглощении световой (солнечной) энергии, которую он трансформирует в химическую энергию веществ, образующихся в процессе фотосинтеза, В результате фотосинтеза растения из углекислого газа и воды образуют органические вещества, необходимые для их развития, роста и жизнедеятельности. Таким образом — в противоположность животным, не обладающим этой способностью, — растения могут преобразовывать неорганические вещества в органические. Это, собственно, и хочет сказать Кукук, прибегший к высокопарному термину «первозданная способность хлорофилла».
В мнимой полужизни жидких кристаллов одно природное царство наглядно переходит в другое. — Жидкими кристаллами немецкий физик Леман назвал в начале XX века такие жидкости, у которых некоторые физические свойства (например, преломление света) распределяются неодинаково по различным направлениям и плоскостям. Своеобразные физические особенности жидких кристаллов привели Лемана и некоторых других ученых к попытке провести аналогию между жидкими кристаллами и живым веществом клеток животных и растений и на этом пути искать разрешения проблемы возникновения живого из неживого. Позднейшие исследования показали несостоятельность выдвинутой Леманом аналогии[116].
Животное переходит в растительное… — Границу между растительным и животным миром действительно трудно провести, когда мы подходим к некоторым наиболее примитивно устроенным одноклеточным организмам. Однако рассуждение Кукука о том, что «животное переходит в растительное», основанное на чисто внешнем сходстве сидячих морских лилий, являющихся совершенно несомненными животными и достаточно высоко-
667
развитыми, с цветком, а также на факте питания насекомоядных растений животной пищей, отдает старинными представлениями XVII—XVIII веков (питание животной пищей — вторичное приспособление, наблюдающееся у некоторых высокоразвитых цветковых растений).
Стр. 542. …одноклеточным праживотным… — Современных нам одноклеточных нельзя называть «праживотными», ибо не они, а какие-то их прародичи дали начало другим более высоко организованным типам растений и животных.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Стр. 571. …тупорылые гиганты муравьеды. — Это, конечно, недоразумение. Костный панцирь имелся не у «гигантских муравьедов», а у так называемых глиптодонтов — громадных вымерших броненосцев Южной Америки, имевших около 3 метров в длину. Ископаемые муравьеды вообще неизвестны. Путаница, вероятно, объясняется тем, что вымершие глиптодонты, мегатерии (наземные ленивцы) и другие неполнозубые являются родичами современных маленьких броненосцев, древесных ленивцев и муравьедов.
…алчного их пожирателя — саблезубого тигра. — Саблезубые тигры охотились не на глиптодонтов (см. предыдущее примечание), а главным образом на мастодонтов и мамонтов, толстую кожу которых они кололи и резали своими громадными верхними клыками.
Стр. 574. …младенец выглядел совершенно так же… — «Во времена Кукука», то есть в конце XIX — начале XX века, скелеты детей неандертальцев не были известны. Позднее найденные неполные скелеты и черепа детей-неандертальцев не дают оснований для утверждения, будто дети неандертальцев «выглядели совершенно так же, как выглядят грудные младенцы в наши дни».
Стр. 574—575. Его собратья, верно, и вправду охотились, а он сидел здесь, писал на стене цветными соками… — Для идеалиста Кукука рождение искусства есть акт появления гениальной личности, которая в силу каких-то внутренних стимулов начала рисовать, резать на кости и пр. В действительности рисунки первобытных людей каменного века имели в их глазах магическое значение: отправляясь на охоту, рисовали живот-
668
ных, на которых предстояла охота, бросали в изображения дротики (а иногда и изображали эти дротики вонзившимися в тело животного) и тем «обеспечивали» себе удачную охоту[117].
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Древовидные папоротники — см. примечание к стр. 528.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Стр. 593. Иоан-Фердинанд (1865—1927) — племянник и наследник бездетного короля Румынии Карла I; с 1914 года — король, участник (с 1916 г.) первой мировой войны и душитель молодой Венгерской советской республики в 1919 году.
Стр. 594. Принц… заикаясь и пришепетывая… — наследственный дефект речи представителей династии Гогенцоллернов-Зигмаринген, занимавшей румынский княжеский, позднее королевский, престол с 1866 по 1947 год.
Стр. 596. Карлос I (1863—1918) — король Португалии с 1889 года. В 1910 году свергнут с престола в результате буржуазной революции, провозгласившей Португальскую республику.
Браганца — низложенная (в 1910 г.) династия португальских королей, незаконная ветвь угасшего (в 1580 г.) бургундского дома; укрепилась на португальском престоле с 1640 года после народного восстания, положившего конец испанскому владычеству (1580—1640) в Португалии. В 1859 году фамилия Браганца была унаследована сыновьями последней представительницы дома Браганца Марии II да Глориа и ее мужа, саксонского герцога Фердинанда. Карлос I — внук последней Браганца.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Стр. 659. Он говорил о древнем римском веровании… — Речь идет о культе Митры, зародившемся в древней Персии и получившем широкое распространение в Римской империи в нашу
669
эру. Императоры Троян и Домициан официально ввели культ Митры (отождествленного с солнцем) в Риме и в своих легионах. Митра обыкновенно изображался в виде юноши в восточной одежде, вонзающего жертвенный меч в затылок быка. «Божественными» одинаково почитались и жертвоприноситель и жертвенное животное, равно как и кровь, пролитая при культовом жертвоприношении, каковой окроплялись участники мистерий в честь Митры-Солнца («крещение кровью»). В 355 году император Юлиан Отступник, неудачливый восстановитель и обновитель древнеэллинских верований, заменил на городских форумах и в войске изображение культа агнца или рыбы (символов Христа и христианства) изображениями «двуединого божества» Митры.
Н. Вильмонт и С. Соболь
СОДЕРЖАНИЕ
ИЗБРАННИК
Кто звонит? 7
Гримальд и Бадугенна 14
Дети 19
Скверные дети 31
Господин Эйзенгрейн 38
Госпожа Эйзенгрейн 47
Подмет 52
Пять мечей 58
Санкт-Дунстанские рыбаки 65
Заветные деньги 79
Печальник 86
Удар кулаком 95
Открытие 101
Диспут 107
Господин Пуатвин 117
Встреча 127
Поединок 136
Поцелуй в руку 148
Молитва Сибиллы 154
Свадьба 161
Иешута 165
Прощание 175
Камень 184
Покаяние 192
671
Откровение 199
Второе посещение 211
Отыскание 224
Превращение 233
Величайший папа 237
Пенкгарт 246
Аудиенция 253
ПРИЗНАНИЯ АВАНТЮРИСТА ФЕЛИКСА КРУЛЯ 267
Примечания 659
Томас Манн
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ 6
Редактор В. Смирнов Художественный редактор Д. Ермоленко Технический редактор В. Овсеенко Корректоры Л. Борец и Т. Тихомирова
Сдано
в набор Î7/XII 1959 г. Подписано к печати 23/11 1960 г. Бумага 84×1081/32—21
печ. л. = 34,44 усл. печ. л., 32,61 уч.-изд. л. Тираж 140 000 экз. Заказ № 956.
Цена 12 р. Гослитиздат. Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19
Типография № 2 им. Евг. Соколовой УПП Ленсовнархоза Ленинград, Измайловский пр., 29