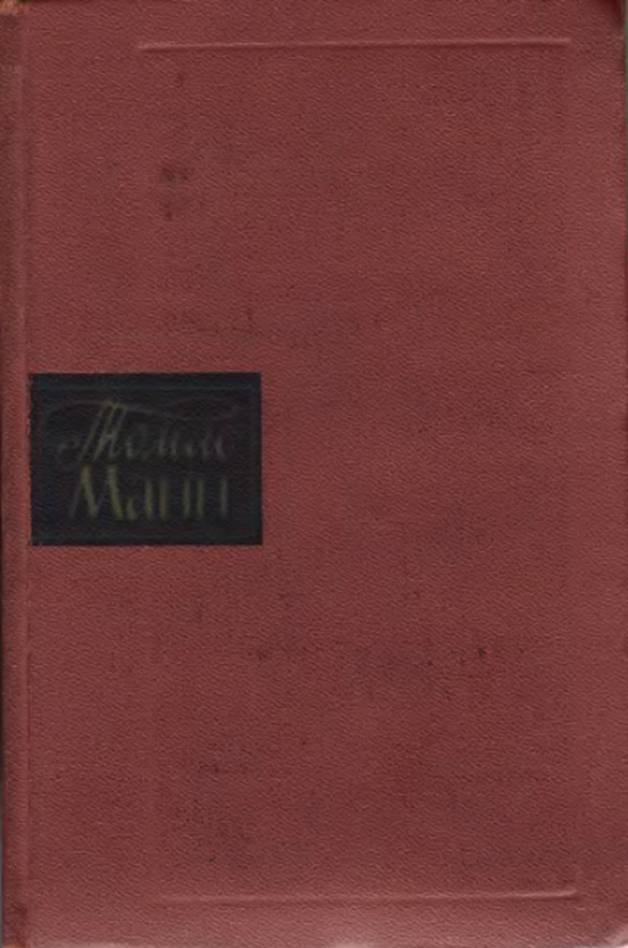
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Томас МАНН
собрание сочинений в десяти томах
Под редакцией Н. Н. ВИЛЬМОНТА и Б. Л. СУЧКОВА
Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960
Томас МАНН
собрание сочинений
ТОМ ДЕСЯТЫЙ
СТАТЬИ
1929 — 1955
Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960
THOMAS MANN
AUFSÄTZE
1929—1955
Перевод с немецкого под редакцией
В. СМИРНОВА
Примечания
В. ГОЛAHTА
СТАТЬИ
1929 — 1955
«Рационалист и просветитель. Что может он дать, что может сказать нам, современным людям, для ко- торых путь к праматерям всего сущего стал повсе- дневной прогулкой? Нам, кто не просто питает недо- верие к разуму, но испытывает, презирая разум, усладу, чуть ли не величайшее внутреннее удовлетво- рение, кто угрюмо поклоняется божеству иррациона- лизма, кто поносит человеческий дух, видя в нем па- лача живой жизни, кто издевается над мыслью, ставя ее к позорному столбу, и кто во время празднеств, справляемых приверженцами некоего динамического романтизма во славу кровожадной богини Астарты, с садистическим сладострастием убеждается в брат- ском единодушии всех ему подобных! Что может он сказать нам, кто под покровом ночи похитил изобра- жение революции, уволок его в наш лагерь, лагерь реакции, и теперь превратил в знамя «консервативной революции» (а ведь это — хитроумное и лукавое самоновейшее открытие, игра, от участия в которой уклоняются лишь изменники родины, игра, благодаря которой все самое зловеще-реакционное неожиданно является в сверкающем ореоле отваги и юности, воз- вышая нас в собственных глазах)?» Что может он сказать вам? Боюсь, что ничего,— хотя, с другой стороны, он мог бы вам многое сказать, именно вам, если бы уши у вас не были настолько длинны, что вы уже не в состоянии воспринимать его
7[1]
речи; если бы вы умели поднять голову выше и по- смотреть поверх новой, набегающей волны времени, которая уносит вас и сопротивляться которой вы не хотите, да уже и не можете; если бы вы, трусливо тор- жествуя победу, не прятались за согревающую вас мимолетную моду, но постарались сохранить хоть не- много неприкаянности и свободы, а ведь только это помогло бы вам проникнуть в будущее — в то самое будущее, гражданином которого он является и кото- рое будет приветствовать его, друга человечества, как современного мыслителя, современного в неизмеримо большей степени, нежели модные философы, которые в наши дни поставляют духовную пищу вашему че- ловеконенавистничеству… Двухсотлетний юбилей Лессинга озаряет его образ светом столь мощного прожектора, что становятся ясно различимы отдельные черты, и их современность, их родственность близкому нам духовному миру поис- тине изумительна. В его трактате о религии Христа, которую он полемически противополагает христиан- ской религии, встречаются замечания, удивительно напоминающие Толстого. В другой раз он напоминает Ницше. Я имею в виду то место, где он берет под защиту «антитезу» против определенного типа людей, «которые питают какое-то врожденное, отвращение ко всякому остроумию», и заявляет, что она лишь потому стала несколько подозрительной, что нередко вместо испепеляющей молнии сарказма вспыхивает слабая зарница шутки — «в особенности у милых поэтов». В точности так говорил Ницше о «милых художни- ках»,— мне кажется, когда он так говорит, в его со- знании непроизвольно вспыхивают воспоминания о Лессинге. Оба они не причисляли себя к сословию поэтов, — впрочем, не из скромности: они это делали с такой насмешливо-снисходительной надменностью, что невозможно предположить, будто они считали себя недостойными такого звания. У Лессинга чувство собственного достоинства было более здоровым, чем у Ницше, но оно отнюдь не было меньшим. Если Лес- синг говорил о «рычагах и насосах», якобы необходи-
8
мых ему для творчества, и заявлял, что он не поэт, то не следует думать, что в иерархии талантов он ставил свой тип дарования ниже духовного склада поэта; Лессинг, подобно Ницше, не претендовал на звание поэта, потому что мыслил более широко, потому что или несмотря на то, что он сам, помимо прочего, был поэт, и, к тому же, в более новом, более свободном, духовном и мирском смысле этого слова, чем то мог вообразить себе набожный народ немцев, мечтавший о национальном поэте. Мне кажется, он именно по- тому так современен, так устремлен в будущее, что исконно немецкое представление о поэте слишком узко для него, не подходит к его масштабу, — оно ру- шится при сопоставлении с ним. Как нелеп этот спор, вечный спор о том, поэт ли Лессинг! Что за удиви- тельная querelle allemande \ немыслимая ни в одной другой стране! Разве человеку, носящему имя «Лес- синг», непременно нужно быть поэтом? Кем же он, в таком случае, был? Ученым? Нимало. «Я не ученый, — восклицает он, — я никогда не имел намерения стать ученым, и я бы не хотел стать уче- ным, даже если бы во сне на меня снизошла благо- дать ученой эрудиции. Я разве что стремился к тому, чтобы уметь в случае необходимости воспользоваться ученой книгой». Кому он возражает? Ученая братия никогда не принимала его всерьез, никогда не видела в нем достойного собрата, и он отплатил ей, поте- шаясь над «высокомудрым профессором» и воздавая дань восхищения историографу Вольтеру, умевшему выразить самое грандиозное историческое событие в форме эпиграммы и сказать обо всем «с каким-то изящным лукавством», которое… обличает в нем поэта. Он усвоил уроки Вольтера на немецкий, вернее, на лютеровский лад. «Давайте-ка лучше еще побол- таем…»— на таких зачинах строит он свою религиозную полемику с главным гамбургским пастором, и поскольку этот фанатический враг театрального ис- кусства не перестает нападать с надменных высот своей «суровости», своего кастового богословия на Немецкий спор (франц.).
9
театральную логику, на образы и «двусмысленности» Лессинга, последний защищает свойственный ему ли- тературный стиль, прибегая к таким аргументам, ко- торые также вполне ясно «обличают» характер его духовного склада. «Этот стиль, — утверждает он,— тем более резво играет материей, чем я больше — уси- лием холодного размышления — постарался под- няться над этой материей и овладеть ею». Что же та- кое эта игра с побежденной материей, озорная игра, пересыпанная намеками и шутками? Что же это зна- чит— растворить содержание в форме? Это и есть ис- кусство. А критики бьются над пьесами Лессинга, стремясь найти в них доказательства того, что Лес- синг достоин звания поэта! Разве Лютер был поэтом потому, что написал «Господь — надежда и оплот», а Ницше — потому, что был автором дифирамбов? Я знаю лишь одно-единственное назначение поэта: чувство, воплотившееся в слово, страсть, ставшая сло- вом. Страстью могут быть и поиски истины, как у уче- ного. Однако для ученого страсть и слово не состав- ляют единства. Ученому свойственна трезвая объектив- ность. Но когда Гердер, рассуждая о Лессинге, гово- рит о «жарком холоде», о «бесстрастной страстности», то мы имеем дело с такой объективностью, которая отличается от научной лишь одним: она окрашена субъективизмом поэзии. Ученый — это живое олице- творение почтенного уродства, между тем как у Лес- синга каждая строка дышит прелестью, для которой у человечества испокон веков существует лишь одно- единственное название. Мы много говорили о страсти — применительно к мыслителю, который пользуется, видимо, сомнитель- ной славой у всех почитателей подземных божеств вследствие своего рассудочно-просветительского ха- рактера. Что и говорить, сочетание «поэт-рациона- лист» звучит странно; в этом сочетании есть противо- речие; с понятием «ratio» слишком прочно связано представление о плоском оптимизме, чтобы можно было сколько-нибудь удовлетворительным образом
10
сочетать его с понятием «поэт». Однако прежде всего Лессинг не был поэтом — он сам об этом говорит, А, во-вторых, доброта совсем не тождественна опти- мизму; эти понятия смешивать не следует. Он был добр глубокой и трогательной добротой, тем более трогательной у такого диалектика, как он, который легко мог бы стать нигилистом и насмешником. Что касается его оптимизма, то он не представляется нам безупречным. Лессинг оживил немецкую комедию, введя в нее новый тип героя, меланхолического, даже болезненного, и критики не могли надивиться на эти его свойства. Создавая образ Тельгейма, автор вло- жил в него немало лиризма. Нельзя сказать, чтобы именно о безоблачном оптимизме свидетельствовало страшное и шутливое письмо, повествовавшее о ро- ждении и смерти маленького Траугота, «умного сына», которого пришлось щипцами вытаскивать на свет бо- жий для того только, чтобы он сразу же снова поки- нул сей мир. По этому письму можно судить о том, что представляет собою шутка Лессинга: в ней мало смешного. Для человека, который шутит над гробом своего ребенка, шутит от горя, — для такого человека шутка, видимо, выражает нечто весьма серьезное и естественное: в ней сказывается его реакция на бес- пощадный трагизм жизни. Разве Лессинг не написал трактат «Как древние представляли себе смерть?». Заглавие это чем-то напоминает Бахофена… Допу- скаю, что ход мысли у Лессинга иной, но в выборе темы есть нечто, не согласующееся с оптимизмом, ка- кой-то привкус религиозности, не имеющий ничего общего с рационалистическим духом. Что предста- вляет собой свойственная ему диалектика, глубинный скепсис, отрицание возможности овладеть истиной-^ в пользу неутомимого изучения природы? Все это—* смирение перед бесконечным, вечная устремленность вперед. «Неправда, — воскликнул он, осмысляя путь, по которому незримое провидение ведет род человече- ский, порою, казалось бы, поворачивающий вспять, —. неправда, что кратчайшим путем всегда является пря- мая линия». Нет, это не рационалистическое мышле- ние математика!
11
До чего же ошибочно связывать это всепобеждаю- щее соединение глубокомыслия и простодушия, эту гениальность (по духу родственную гению великого монарха, который, к своему позору, не понял Лессинга) с плоско рационалистическими представлениями о бездушной ясности! Кто мог бы пройти такой жизнен- ный путь, исполнить такую миссию, такое предназна- чение, оказать столь беспредельное влияние на свой народ, не обладая демонизмом и одержимостью, не об- ладая той глубиной натуры и силой страсти, которые мы считаем неотъемлемым свойством гения, поэта? «Лишь глупец, лишь поэт». — «Нам был необхо- дим такой человек, как Лессинг, — говорил Гете,— ибо в чем же величие его, как не в цельности харак- тера, в стойкости». Поэт и в то же время мужествен- ный человек, цельный характер — вот что такое Лес- синг как общественное явление. Таким он видит себя и сам, говоря о «милых поэтах». Beaux esprits 1 он переводил как «пустые головы» и, будучи воинствен- ным любителем богословия, насмехался над религиоз- ными остроумцами, для характеристики которых из- брал презрительное словечко «занятный». Однако и его собственное богословие, с позволения сказать, «занятно», причем «занятно» на такой лад, что «обли- чает в нем поэта»; и он, — он тоже bel esprit2, хотя и без всякой женственной размягченности, одушевлен- ный глубокой ироничностью страсти. Кто же он такой, если он не поэт или более чем поэт? Он — тот, кого современный цивилизованный мир, лишенный мифо- логии и чувствительности, называет: писатель. В Гер- мании он первый олицетворяет собой европейский тип великого писателя, который становится ваяте- лем и воспитателем своей нации — властелин свобод- ного и сверкающего, материально-сверхматериального слова, личность, озаренная сиянием духовности и ис- кусства. Да, он художник. Однако та художественная 1 Острословы (франц.). 2 Острослов (франц.).
12
исключительность, которая выделяет его среди партий его
времени и нередко придает его позиции видимость ненадежности и двусмысленности,
ни в малейшей степени не мешала его доблестной борьбе за человека. Он любил
свет, — и потому его по праву называют просветителем. Он высмеивал глупость,
обличал ложь, бичевал раболепие и леность духа и с величайшим благоговением
защищал свободу мысли. Как человек он восхищался «славным рабством» во времена
Фрид- риха, но отрицал его бюрократическое государство и восхвалял «немецкую
свободу», восхвалял в такую эпоху, когда «все были о ней весьма ничтожного мне-
ния». Он верил в человечество и в грядущую пору его мужественной зрелости, —
пусть это назовут «постыд- ным оптимизмом» те, кто хочет и может так утвер-
ждать. В наше время ничто не обветшало более, чем это словцо романтических
философов, которым поно- сили революционера Вагнера. В наши дни только и
существует, что постыдный оптимизм — по крайней мере в политике, которая составляет
сущность эпохи. Отрадно читать о бесчисленных венках, которые Германия конца
восемнадцатого века возложила на его гроб, — гроб человека, который был
всего-навсего вольным литератором; о народных собраниях, кото- рые в то время
торжественно клялись исполнить его посмертную волю. Сегодня таким народным собра-
нием является поднявшаяся на новую ступень Герма- ния, дух которой устремлен к
высоким и благим це- лям. К этой Германии принадлежит каждый, кто меч- тает о
том, чтобы когда-нибудь и над его могилой были произнесены слова, сказанные
Гердером о без- временно почившем поэте: он неизменно, даже в своих заблуждениях,
жаждал цельности, неустанного и все более стремительного духовного возвышения.
1929
В сентябре 1865 года, четыре месяца спустя после смерти
своей жены Констанцы, после потрясения, ко- торому мы обязаны самыми
проникновенными сти- хами скорби и прощанья, какие, пожалуй, вообще знает немецкая
лирика, Теодор Шторм посетил в Ба- ден-Бадене Ивана Тургенева, жившего там у
своей подруги, госпожи Виардо-Гарсиа, и пославшего своему
немецкому собрату почтительное и сердечное приглашение. Две недели автор «Иммензее»
провел подле автора «Первой любви» и «Вешних вод» и, не- смотря на почти
болезненную скорбь своих траурных стихотворений, обнаружил удивительную
восприимчи- вость к природным красотам курорта и тамошнему обществу. Он и
позднее сохранил дружеские отноше- ния с русским писателем, посылал ему в
подмосков- ное имение свои рассказы, получил от него француз- ский перевод
«Дыма»; между ними не было обмена письмами, подобного переписке Шторма и
Келлера, о которой последний говаривал, что она «похожа на беседу иеромонаха со
своим собратом по соседней обители относительно поляны, усеянной гвоздикой», но
меня все же радовало всегда, что они знали друг друга, что сердечная дружба
связывала обоих масте- ров слова, на которых я в юности неизменно взирал с
благоговейной признательностью, не зная, кому от- дать предпочтение, — их
роднило между собой не только их время, но и то, что оба они, творя в различ-
14
ных сферах, походили друг на друга чувством и фор- мой, искусством настроения и грустью воспоминаний. Люди разных национальностей, они гораздо больше отличаются друг от друга, чем Шторм и Келлер, чей восхитительный юмор лишь иная, более южная ветвь того немецкого повествовательного искусства, которое воплощено и в Шторме. Но если сравнивать их шире, в плане общечеловечески типичного, тогда Шторм и Тургенев представляются нам почти брать- ями; они как бы два варианта одного и того же чело- века, у них общий отец, но разные матери, разные родины. В начале нашего столетия некий молодой сочинитель написал лирическую новеллу, содержанием кото- рой был спор в душе героя — спор между северной, бюргерской родиной чувств и суровым, причудливым и холодно-экстатическим миром искусства и духа. Юный автор изобразил отца своего героя как «высо- кого», «задумчивого» господина с умными голубыми глазами «и неизменным полевым цветком в петлице»« В этом описании он отклонился от автобиографиче- ской реальности, и все же оно не было плодом воль- ного полета фантазии. Образ, возникший перед его мысленным взором, родился из ощущения и понима- ния двойственной культурной почвы произведения, в которое он его вставил и в котором сочетались дух немецкой родины и атмосфера высшего света; образы духовных отцов его рассказа, Шторма и Тургенева — «doux géant»*, как называли скифа его парижские друзья, слились для него в фигуру высокого, задумчи- вого старика с белой бородой и неизменным полевым цветком в петлице. Я снова всматриваюсь в их глаза, за которыми роится столько дум и столько образов, в черты лица этих художников, поднявших новеллу девятнадца- того века на высшую ступень совершенства. Да, это действительно лица братьев, и различие между ними — это различие между климатом их отчизн и характером их дарований. У Шторма голова, чуть «Нежного гиганта» (франц.).
15
склоненная набок, одухотворенное лицо моряка, об- ветренные
морщины в уголках мечтательных и в то же время пытливых голубых глаз, горькая
складка у рта, говорящая о постоянной борьбе с нуждой и о мучи- тельных сомнениях,
— ярко выраженный нижненемец- кий тип, и, глядя на него, как будто слышишь не-
сколько монотонный, добродушно-тяжеловесный говорок его края,
тембр голоса и интонацию, в которой улавливаются тревожные, умоляющие нотки
протеста против всего, что идет из чужой стороны, — а она для него все, что
расположено за пределами Хузума и Гадемаршена. У Тургенева
меланхоличность славян- ской художественной натуры, немножко рисовки, на лоб
свисает непременный курчавый завиток, ласковый взгляд серых глаз с поволокой и
страдальческая свет- скость в духе Шопена, — она-то и составляет все его
неуловимое личное обаяние, чувствуются Париж, Баден-Баден, Буживаль,
весь мир, литература обще- ственных проблем, искусство европейской прозы. Тео-
дор Шторм не сумел бы изобразить того, как ковар- ная развращенность света
соблазняет непорочное чувство, как
16
и не решился бы на такую попытку. Кто станет отри* цать, что он, как рассказчик и психолог, более иску- сен и привлекателен, к тому же его искусство облег- чено для восприятия чертами критики и сатиры. Но «Стихотворения в прозе», хотя они и полны настрое- ния, уступают лирике Шторма, его песням о любви, о воспоминаниях, о разлуке, где каждый слог вол- шебно напоен задушевной теплотой, а элегическая мягкость как бы сдерживается чувством правды, ко- торое не допускает никакой сентиментальности и свиде- тельствует о мужественной природе искусства вообще. О стихах мне хочется поговорить несколько по- дробнее. Вместе с «Иммензее» они создали образ по- эта, живший в моей душе, когда я был молод и еще не представлял себе его сурового и неуклонного пути к самосовершенствованию, его внутренней борьбы за преодоление юношеской мягкости и чувствительности, его развития от лирической поэзии к высокой траги- ческой новелле характеров. В лирике Шторма, кото- рую он несчетное количество раз просеивал и проце- живал, остались, кажется, одни только жемчужины, и в любом стихотворении здесь встречаешь такую могу- чую концентрированность переживаний и ощущений, такое искусство простоты, что все мы, как бы мы ни старели и сколько бы раз ни перечитывали и ни твер- дили наизусть его строки, — все мы снова и снова чувствуем тот комок в горле, то волнение, вызываемое неумолимо сладостным и острым чувством жизни, благодаря которому голос этого поэта так пленяет нас в шестнадцать, семнадцать лет. Один французский поэт как-то заметил, что уже самое слово «искусство» (art) по своему звучанию не имеет ничего общего с благостной кротостью; это крик хищной птицы, кам- нем падающей на свою добычу. Видимо, это правда, — лирика Шторма учит нас тому, что искусство даже в самой нежной, самой задушевной своей форме без- жалостно стискивает нам горло… Я испытываю большой соблазн приводить примеры и образцы его поэзии и все же не буду этого де-
17
лать, — места у меня немного, и к тому же я обра- щаюсь к читателям, которые собираются непосред- ственно познакомиться с творческим наследием Шторма, Достаточно, если я предварительно скажу то, что сами они скажут позднее: никогда и нигде че- ловеческие переживания не были выражены с более проникновенной и бесхитростной чистотой, чем в та-, ких стихотворениях, как «Умершей», «Строки о ста- рости» («Твоя подруга молодая…»), «Младшая дочка», или в том, которое названо «Судьба» и представляет собою как бы вариант гейневского «Все это старо бесконечно», только в нем больше благоговенья и меньше иронии. Так, в изумительном двенадцати- строчном рассказе в картинках «Чужая» можно узнать прообраз шестнадцатистрочного стихотворения Георге «Чужая», где, правда, больше демонизма и стро- гости формы, а в песенке «Заблудился» («Как нежны птичьи трели…») звучат интонации Вальтера фон дер Фогельвейде. Однако искусственная стилизация под старинную народную песню, провозглашенная в на- званиям нескольких стихотворений, уступает место безусловно преобладающим новейшим средствам поэтического выражения, осознанно современному языку, книжной лирике неповторимо-личного звуча- ния, и по меньшей мере пять-шесть образцов этой ли- рики могут быть поставлены в один ряд с самыми высокими и чистыми творениями человеческого духа, которым глубина чувства и совершенство языка дают право на бессмертие. Можно ли найти где-нибудь еще, можно ли забыть ту музыку, что с волшебной силой звучит в четырех строчках стихотворения «В сторонке» — поэтической картине забытого всем миром уголка природы, кото- рый дышит безмолвием летнего полдня, благоухает нагретыми солнцем травами? А «Морской берег» — тающий в вечернем сумраке залив, и влажные отмели, и призрачные, как в сновидении, острова, окутанные туманной мглой, и шорох сухих водорослей, и одино- кий крик чайки, и однозвучно-вневременное «От века было так», и романтически таинственные заключитель- ные строки! Законченность, простота^ точность этой
18
картины выше всяких похвал, а сразу же вслед за нею еще одно маленькое чудо такого же рода—■• «В лесу», — овеянное волшебством знойного лета ви- дение маленькой лесной феи, сидящей под нависшими ветвями: Вокруг — благоуханье И терпкий аромат. Вокруг — большие мухи Летают и жужжат. …. * « « < » я Вдали кукушка стонет… Что стало вдруг со мной, Когда я глянул в очи Владычицы лесной? Эти строки отлиты не из бронзы, — они созданы из нежнейшего материала, и все же они навеки не- тленны. К столь же совершенным стихотворениям отно-' сятся «Гиацинты», с их благородной нежностью, с их звучанием, словно извлекаемым из струн виолончели, с удивительной полнотой переживания, печали, уста- лой любви, и с проникнутым бесконечной глубиной чувства символическим рефреном: «Я здесь усну, а ты уйдешь плясать»; к ним относится «Над лу- гом», — его ритм повторяет гул шагов одинокого путника, а в простой разговорной интонации звучит горе, щемящая печаль о невозвратимо ушедшем: В мае зачем приходил я сюда? Жизнь и любовь не вернуть никогда! Есть еще одно стихотворение в две строфы, ко- торым я всегда особенно восхищался, ибо оно каза- лось мне несравненным образцом утонченной чувст- вительности Шторма: это стихотворение о бледной женской руке, которая должна признаться в том4 о чем умалчивают уста: О, как рука твоя бледна, Я видел, как она дрожала, — В ту ночь бессонную она Здесь на груди моей лежала…
19
…Воздадим должное истине и не будем ничего приукрашивать. И после смерти Шторма его лири- ческая интонация продолжала звучать, вернее дро- зябать в немецкой поэзии или в тех виршах, что вы- давали себя за таковую; короче говоря, она — и это следует признать — вызвала к жизни ряд ничтож- ных подражаний. От Шторма, от его «Яви мне тайную любовь» и так далее, произошло немало мелко- травчатого вздора, немало мещанских ахов и охов в переплетах с золотым тиснением, — а ведь в его лирике, в его высокогорном незамутненном ключе все это было совсем, совсем иначе. Но разве нельзя обвинить и «Книгу песен» в том, что она вызвала столь же печальные последствия? Изречение: «О яблоне мы судим по плодам» отличается жестокостью, но от- нюдь не бесспорностью. Что же, еслиувы так неумо- лимы, возлагайте на источник соблазна ответствен- ность за все последующее зло, которое он породил вопреки своей истинной сущности, — но судить о нем по плодам не следует, и тем менее следует это де-^ лать, чем более мы склонны ошибочно отождествлять причину и следствие. То, что произошло от Шторма — не Шторм; от дряблого мещанства, которое пыталось «примазаться» к нему, его отличает благородство, сила, тонкость, точность, лиризм, полет воображения, подобно тому, как эти же качества, или, проще го- воря, искусство, отличали его от позднеромантиче- ских дилетантов, которыми кишела его собственная эпоха, да и не только от них, но и от высокоодарен- ных эпигонов его времени, от Гейбеля, даже от Гейзе. В нашей литературе прошли очистительные грозы, подлинные революции, которые вымели все эти его «плоды» на свалку забвения. Он — мастер, и он остается. Я говорил о его любви к родному краю, его одержимости родиной, егр страстном поклонении ро- дине, — о том его свойстве, которое Фонтане, бывший по сравнению с ним и более светским и более сто- личным писателем, назвал «хузумством». Тот, в ком
20
нет любви, усмотрел бы в нем какое-то слезливое упрямство, какую-то немощную елейность* против которой направлен стих Гете: Подальше от дома! Тут все нам знакомо, — Так в путь же, скорее — вперед! Не нам с домоседом Сидеть за обедом, А он пусть дома живет! Но бранденбургский гасконец, творчество кото- рого вошло в мировую литературу хотя бы романом «Эффи Брист», лишь однажды сделал презрительную гримасу и никогда больше не думал и не судил о своем .менее легком на подъем друге в духе этого «Пусть дома живет!», отлично зная, чем в его лице обладала поэзия; одаренный тонким критическим чутьем, он понимал, что поэтический дар Шторма больше, выше, значительнее, чем талант более изы- сканного Гейзе, который, впрочем, сам восхищался провинциалом из Гадемаршена. Высокое и внутрен- не зрелое искусство Шторма не имеет ничего об- щего с тупой примитивностью провинции, с тем, что одно время называли «областническим искусством». Тот язык, до которого в его творчестве поднимается, очищаясь и преображаясь, его родной нижненемец- кий диалект, решительно отличается от уютного убо- жества провинциальной речи, он обладает царствен- ным величием поэзии, и «чувству» у Шторма еще в полной мере свойственна романтическая духов- ность и интенсивность, оно еще не выродилось, не измельчало, не превратилось в «чувствительность». В его привязанности к родным местам есть что-то поэтически странное, филистер мог бы счесть ее истерической, а ведь это, по существу, душевная боль, грусть по утраченному родному очагу, тоска по родине, которую не может заглушить никакая реальная действительность, ибо грусть эта всегда о минувшем, погибшем, утраченном. Он сам говорит: Ушедший день — теперь воспоминанье. Как родина, утраченная мной, Куда в тоске летят мои мечтанья» 21
--------------------------Да, это так. Тоска поэта мучительна, или, пожа- луй, сентиментальна и немного болезненна, если отождествление минувшего и родины можно считать болезненным, как, впрочем, часто бывает в поэзии всех времен. Радость настоящего и счастье юности редко рождают стихи. Их рождают воспоминание об ушедшем, тоска по родине, и тщетно мы искали бы в лирике Шторма непосредственное воспевание юно- шеского счастья, -— блеск майского дня воспевают скорбные строки ноября («Все миновало»): Веселые дни, Счастливые годы, — ) Вы отшумели, / Как вешние воды* Это мелодия старинного романса, которая живет и в тургеневской поэзии. Но у Шторма она порою приобретает напряженность, обессиливающую поэта, и кажется выражением горестного своенравия души, для которой настоящее — холодная чужбина. Он говорит об «Иммензее»: В листочках этих аромат фиалок, Синевших дома, на родном лугу; Я с той поры ищу его повсюду И обрести на свете не могу* В благородной простоте этих строк какое-то поистине покоряющее, пьянящее, расслабляющее волшебство, секрет которого в том, что оба эти переживания: «дома» и «минувшее» — слились в аро- мате фиалок, проникнутом беспредельной тоской по родному краю. Они были бы выражением простого человеческого чувства, если бы сердечная привязан- ность поэта к «туманам града над морем», к этому однообразно-печальному ландшафту объяс- нялась лишь тем, что с непритязательным Хузумом для него связаны воспоминания о «волшебном счастье юношеских дней». Но простое человеческое чувство уступает место романтической тайне, — на- пример, в таком стихотворении, как «Утраченное», первая строфа которого гласит: 22
--------------------------Давно ушли былые дни, Душа моя о них забыла, — Не знаю, где теперь они И вправду ли все это было… И последняя: В тени зеленый городок.., Преодолев пространства эти, Быть может, я опять на свете — Как знать! — его обресть бы мог, «Преодолев пространства…» Вот вершина «хузум- ства», и это не имеет ничего общего с узко-местным патриотизмом; мы видим здесь поэтическое чувство в самом чистом его выражении, наивысшую сублима- цию этого переживания, тоску по родине как нечто трансцендентное, сокровенную мечту об отчизне. Я так настойчиво подчеркиваю одухотворенность его чувственных переживаний, крайнюю напряжен- ность его духовной жизни и даже указываю на неко- торую его болезненность для того, чтобы начисто отвергнуть представление о якобы свойственной ему бюргерской заурядности или сентиментальности, о его внутреннем филистерстве, — ведь Фонтане го- ворит о «провинциализме» Шторма. Это несправед- ливо, это заблуждение. Стихийность, эксцентрич- ность, необычайность натуры, нарушающей привыч- ные нормы, действующей во вред самой себе, — все черты духовного строя, свойственные любому худож- нику, проступают у него, быть может, отчетливее, чем у любезного и безупречно-благовоспитанного Фонтане. Шторм никогда и ни в чем не был безупре- чен, хотя создал себе некий идеал безупречности и неизменно старался стилизовать свою жизнь, свое поведение в соответствии с ним. Вот, например, семья, домашний очаг, — средото- чие жизни родного края. Шторм любил свою семью; домашняя жизнь—это, по его выражению, «святая святых его души», и в письмах к друзьям литерато- ра
--------------------------рам, например к Готфриду Келлеру, он не устает потчевать его восторженными описаниями семейного быта — приемов, дней рождения, рождественских и новогодних каникул, причем не замечает, какую смер- тельную скуку наводят его рассказы на старого цю- рихского холостяка и бражника. Что же на самом деле можно сказать об этой идиллии? Без сомнения, ничего дурного. Его двоюродная сестра Констанца Эсмарш, с которой он сочетался браком в двадцать девять лет, когда делал первые шаги на адвокатском поприще, была ему отличной женой, прежде всего в высшей степени терпеливой, потому что в качестве мужа (как, впрочем, и прежде, в качестве жениха) он неутомимо учил и воспитывал ее, стремясь во что бы то ни стало усовершенствовать образование, по- лученное ею в женской гимназии Зегеберга, чтобы между ними была возможна подлинная духовная общность; кроме того, она была снисходительной и всепонимающей, ибо снисхождение и понимание ей приходилось проявлять весьма часто, и с его сто- роны было безусловной неблагодарностью и неспра- ведливостью однажды написать ей: «Ты медленно, но верно учишь меня, что никому нельзя отдаваться всей душой». К тому же, страстная любовь, по правде говоря, никогда не связывала его с нею. «Мы шли с Констанцей по жизни, не разнимая рук, — пи- сал он после ее смерти, внушившей ему некоторые из самых проникновенных его стихотворений, — но питали друг к другу скорее безбурное чувство взаим- ной склонности… Все это было бы еще хорошо, если бы страсть к той женщине, что теперь жива, не об- рушилась на меня, когда еще была моей женой та, которой теперь нет в живых». Кто же эта женщина, ставшая его второй женой всего через год после смерти Констанцы? Это — Доротея Йензен, как-то раз, в пору его жениховства, пришедшая к нему в комнату со своей сестрой Цецилией; тогда она была тринадцатилетней девочкой, белокурой и неж- ной, и он был поражен, поняв, что этот ребенок его любит, да и он не в силах устоять против ее «непо- вторимого очарования».
24
Поддаваться подобного рода неповторимому оча- рованию не слишком подобает жениху, и это напо- минает любовный эпизод студенческой поры его жизни: встретив в одном из домов Гамбурга десяти- летнюю девочку, он влюбился в нее, и, когда она — уже в возрасте пятнадцати лет — отвергла его «тре- петное» предложение, сделал Берту, не обращавшую на него никакого внимания, предметом поэтического культа. Эта любовь к детям представляется, во вся- ком случае, не вполне безупречной. Молодые люди чаще влюбляются в зрелых женщин, чем в десяти- летних девочек. Но он был поэтом, и — «всякий ре- бенок», а значит и расцветавшая на его глазах До, которая после его женитьбы часто бывала у него в доме, «распространяет ту пьянящую атмосферу, которой он не мог противостоять». Констанца знает об этом. Она знает и о любви маленькой Йензен к ее мужу, и можно только восхищаться тем, как она ведет себя, — в сущности, гораздо лучше, чем он, ведь он даже в неверности своей неверен и из эго- изма, из привычки к уютной идиллии семейной жизни, лишенной всяких страстей, совершенно забы- вает настоящую возлюбленную; пожертвовав ради него своим счастьем, она отцветает и чахнет одна, «нередко в гнетущей нужде», а он ни разу не вспо- мнит о ней, не проявит даже обыкновенного человече- ского участия. Вместо него о ней помнит Констанца. Она заботится о бедной До, старается привлечь ее к себе в дом, дает ей выплакаться у себя на груди, и сама она еще до болезни прочит Доротею во вто- рые жены своему легко опьяняющемуся, но столь же забывчивому мужу. Он был беспредельно привязан к Констанце, а До- ротея — к нему; действительно, она «из всех людей на свете хотела лишь его», человека, чье чувство к ней дремало, но вновь пробудилось (или ему пока- залось, что пробудилось) теперь, когда он свободен. К тому же, разве Доротея в какой-то степени не за- вещана ему усопшей? Он «вынести того не в силах», что жизнь идет дальше, все счастливы, обо всем за- бывая, в то время как лунный свет пробивается 25
--------------------------сквозь землю и сплетается сетью над ее гробом; но слишком долго оставаться вдовцом он не может, этого он тоже не в силах вынести; по истечении краткого срока, необходимого для соблюдения при- личий, он сочетается браком с Доротеей Иензен, которая к семерым детям, родившимся от первой жены, дарит ему еще одного ребенка. Так ли безоблачен и мирен этот брак, как пер- вый? Он свидетельствует о несовершенстве всего земного. Долгие северонемецкие беседы за чайным столом, дни рождения и рождественские вечера — все это возобновляется по-прежнему, но если над первым браком нависали тени дремлющих страстей, то второй омрачен нечистой совестью; как выра- жается биограф, в новую семью вторгались «мучи- тельные диссонансы» — следствие всего пережитого. Доротея угнетена тем, что Теодор не позволяет де- тям называть ее «мамой» — для них она «тетя До», К тому же еще старший сын… Шторм любил старшего, своего Ганса, горячо и безраздельно. «Он чувствителен и глубок, — говорит он о мальчике, — это истинно поэтическая натура». Затем обнаруживаются «странности», порою очень неожиданные, и вот однажды вечером отец рассма- тривает спящего миловидного мальчика, и его мучает страшный вопрос — не зреет ли в нем безумие. Сын, эта поэтическая натура, становится алкоголиком. Случай безнадежный, неизлечимый; «отчаяние, от которого стынет кровь», охватывает отца, коль скоро он начинает сознавать, что «только смерть может положить этому конец». Вот трагедия, о которой он много размышлял и часто говорил. Его понимание трагического было современным, не филологически- античным. Он и слышать ничего не хотел о вине и искуплении, и прежде всего — о собственной вине «героя». «В жизни, — говорил он, — мы чаще иску- паем вину той общности людей, частью которой яв- ляемся, — человечества, эпохи, сословия… искупаем наследственность, прирожденные свойства и те чудо- вищные последствия, которые отсюда происте- кают, против которых мы бессильны, искупаем не- 26
--------------------------нозможность переступить известные границы и т. п. Кто гибнет в этой борьбе, тот истинный трагический герой». В случае с несчастным Гансом едва ли можно говорить о наследственности. Отец его не был пьяницей, он был художником с необоримой сла- бостью к неким опьяняющим чарам, поэтом, который в рассказе, дышащем величавой и безжалостной красотой, в «Карстен Куратор», поставил потрясаю- щий памятник трагедии сына и угрызениям совести отца. Поэтическое творчество — жизненно возможная форма нарушения безупречности.. Подробную биографию Шторма можно прочесть в любой энциклопедии. Я ограничусь тем, что еще некоторыми чертами дополню намеченную мною об- щую характеристику личности поэта. О его чувствительности я уже говорил много. Оборотная сторона этой чувствительности — его чув- ственность. Чувствительность и чувственность свя- заны друг с другом, по сути дела они представляют собой одно и то же: чувствительность — это, так сказать, чувственность с голубыми глазами, которые склонны увлажняться слезой. «Я натура сугубо чув- ственная и страстная», — заявляет он с некоторой гордостью, причем здесь следует учесть два обстоя- тельства: и то, что письмо, содержащее эти слова, он диктует своей племяннице, некоей фрейлейн Елене, и то, что ему уже пятьдесят шесть лет. Его чувствен- ность выражается не только в ощущении единства с природой, не только в почитании растительных сил природы, но и в весьма бюргерской форме выступает в его любовных стихотворениях — иногда светло и радостно, иногда томительно-сладко и затаенно, как поэтизация греха: Она иной была со мной, Веселая дикарка. Растерянно тропой лесной Бредет она сквозь летний зной, И ей совсем не жарко» 27
--------------------------Вот образчик его особого искусства рисовать про- буждение чувственности, попытка создать образ, вы- званный более глубоким волнением, чем то, которое может передать бесхитростная народная песня, — волнением, благодаря которому он находит трепет- ные, проникновенные слова для характеристики побе- жденной стыдливости: Зачем боишься поцелуя? Ведь устоять мы не вольны. Придется, даже негодуя, Испить сознание вины. Благодарность старости за последнее, мучитель- ное счастье и упоение никем еще не была передана в поэзии более просто и сильно, чем Штормом в сти- хотворении «Еще раз!», в котором создан идеализи- рованный символ «Красной розы страсти». Смертель- ная безысходность и роковая безнадежность любви: Почему благоухает так левкой во мраке ночи? Почему, алея, губы так горят во мраке ночи? — безнадежное раскаяние подавленного чувства: Ты руки свои опаляешь огнем, Своей искупая кровью То, что когда-то мои глаза Смотрели на них с любовью, — все это в чистых и незабываемых образах выражено в лирике Шторма; если страсть порою несет на себе печать греховного, преступного, как в «Брате и сестре»: Вдвоем с тобою, милый брат, Нельзя нам оставаться! — то даже и это, в сущности, служит более высокой идеализации страсти, тому утверждению ее, которое с отнюдь не романтическим и уж менее всего хри- стианским ликованием рвется из строк: Кто был любим своей любимой, Казной владеет неделимой, — Любовь останется верна. И даже на чужбине дальней В предсмертный миг, в глуши печальной, Ему отраду даст она.
28
В самом деле — Шторму было свойственно (и даже в немалой степени) северогерманское языче- ское восприятие жизни, которое, наряду с художест- венностью его натуры, объясняет его не по-бюргерски свободное отношение к торжествующей чувствен- ности и так же неразрывно связано с ним, как и с его любовью к родному краю. Следует помнить, что ро- дом он из той части Германии, где христианство было усвоено относительно поздно и лишь весьма поверхностно, где религиозность выражалась лишь в соблюдении родовых установлений и в культе предков («Ибо предки продолжали жить в роде»),— из фризской Фулы; край этот был наиболее удален от средиземноморской родины христианской веры и, как бы на словах и даже в собственном сознании ни мнил себя приверженцем этой веры, все же корнями верований и обычаев прочно уходил в исконно язы- ческую почву. В детстве Шторм — как ни удиви- тельно это звучит — почти ничего не слышал о Хри- стовой вере у себя дома. Став взрослым, он не веровал в Иисуса; в стихотворении «Распятие» поэт выразил свое отвращение к кресту как религиозному сим- волу, — отвращение, напоминающее слова Мефисто- феля: Отлично знаю — это предрассудок, Но мне внушает омерзенье он… — и когда ему было сорок шесть лет, он в совершенно недвусмысленных стихах высказал пожелание: Священник пусть к могиле не подходит: Я знаю, что слова развеет ветер, А все же не хочу, чтоб предавалось Проклятию все то, чем я дышал, Когда во власти вечного молчанья Я буду сам и не смогу ответить. Казалось бы, вера в воскресение из мертвых своим вегетативным мистицизмом могла привлечь по- эта, влюбленного в природу, но он упорно отвергал ее даже в такие часы, когда искушение поддаться ей особенно неотразимо — например, после смерти жены: И распадутся прахом очи милой, И нет свиданья за твоей могилой.
29
В этом презрении к утешительной иллюзии сказы- вается, несомненно, и черта эпохи — пессимистиче- ская стойкость, естественно-научный материализм девятнадцатого века. Но это — скорее на поверх- ности. В основе же его натуры лежит то нордическое язычество, в силу которого он не может не быть немножко и антисемитом — не то чтобы по убежде- нию или принципиально, это противоречило бы его образованности и человечности, терпимости века и его личному опыту, — но бессознательно, инстин- ктивно. Характерно, что в этом смысле гольштинец Шторм не находит ни малейшего сочувствия у алеманна Готфрида Келлера. Шторма возмутило непо- чтительное высказывание выдающегося египтолога и скверного писателя Георга Эберса по поводу худо- жественной формы новеллы, и в письме к Келлеру он мечет громы и молнии против этого человека, «воз- несенного на трон чернью и его соплеменниками, евреями», а Келлер холодно отвечает: ему ничего не известно о еврейском происхождении Эберса, но, впро- чем, и без евреев на свете говорится предостаточно глупостей, поскольку на каждого наглого и крикли- вого еврея приходится по два таких же христианина, Я привожу этот факт затем, чтобы указать на разли- чие в психологическом складе двух культурно-гео- графических сфер. Следует ясно представлять себе закономерность сочетания душевных свойств, нерас- торжимость в душе белокурых северян местного патриотизма и антисемитизма, и это сочетание со- храняет свою устойчивость даже в исключительных случаях, когда мы встречаемся с высшей утончен- ностью художественной натуры — как бы ни дивился этому Келлер. Последний обнаруживал и другие удивительные черты в характере своего северного друга, напри- мер, — склонность к суеверию и веру в привидения, которая также связана с его языческим мироощуще- нием; это казалось непостижимым для более свет- лого, более твердого ума южанина Готфрида и давало ему повод упрекать Шторма в художественных не- удачах. Так, например, он решительно не одобрял
30
его новеллу «Рената»; следует прочесть ее, чтобы стало понятно: и история с ведьмами, и шествие крыс не могли прийтись по вкусу Келлеру, а в заме- чательном «Всаднике на белом коне» ему еще того меньше могла понравиться двусмысленная и, с точки зрения разумного самообладания, весьма сомнитель- ная позиция автора по отношению к мистическим элементам рассказа, к той таинственной игре в прят- ки среди тумана, которую Келлер считал запрещен- ным приемом духовного и эстетического воздействия на читателя. Чего же он хотел? Ведь это — север, это — сентиментальная уступка тем языческим на- родным верованиям, противоречивость которых про- свещенный и ни во что не верующий сын девятна- дцатого столетия видит достаточно ясно. Но после- христианское просвещение слабо защищает от суеве- рия человека, перешагнувшего через христианство. Народно-языческая склонность Шторма-поэта к миру призраков и привидений, за которым он неиз- менно признает некоторую реальность, с большой силой и определенностью проявляется в его новелли- стике: помимо «Ренаты», которую мы уже называли, сюда относится и «В соседнем доме слева», где со- здан образ загадочной и жуткой старухи Янзен; не- редко Шторм заимствовал материал и атмосферу для своих повестей из диковинных старинных хроник и забытых дохристианских легенд. В молодости он опубликовал сборник рассказов о привидениях, кото- рые, правда, не включил в собрание своих сочине- ний. Но до самой старости он любил рассказывать за чаем такие истории. На его стихотворениях лежит некий налет призрачности, которая представляет со- бой художественно утонченную форму суеверия и близка спиритической мистике. К таким стихотворе- ниям относится «Будь вечно мертвым верен», полное чудесной в своей многозначительности нежностью, с которой поэт прислушивается к беззвучному шепоту ушедших и пробуждает в нас трепетно-жуткое уча- стие к их мучительным усилиям — через «рухнувший мост» послать нам слово любви. «Какой-то шепот ночь тревожит» относится к этому же кругу стихов.
31
Какой-то шепот ночь тревожит,- Но путь ко мне найти не может. И, мнится, что-то он пророчит, О чем-то мне поведать хочет. Может ли быть что-либо естественнее этого тро- гательно-страшного своей простотою «что-то»? Слова ли нежного признанья Развеял ветер мирозданья? Грядущая беда, быть может, Ко мне пробившись, душу гложет? Как удачно найдено слово «пробившись»! Оно не уступает по выразительности тому смешению рели- гиозной и органической тайны, которую мы находим в заключительных строках стихотворения, посвящен- ного смерти жены: Дыханье бога веяло в ночи, Вскричал ребенок твой — и ты уснула. Келлер писал Шторму, что уступки мистике во «Всаднике на белом коне» грозят замутнить ясную картину сознательно и вполне ответственно действую- щих людей. Это — гуманизм; и Келлер мог быть уверен, что друг его не останется глухим к призыву такого рода. Суеверие — лишь одна из форм про- явления неверия, и к тому же не самая серьезная. В основе своей антихристианство Шторма носит гу- манистический характер, в его жизни и творчестве можно обнаружить все черты гуманистического ми- ровоззрения и поведения: гордость художника, ко- торый чтит и любит добро не ради потусторонних благ, не ради награды или из страха перед возмез- дием, но во имя человеческого достоинства; целомуд- ренную чувственность, которой проникнута его по-античному прелестная, свободная и радостная «Психея», и, наконец, скепсис, сочетающий просве- щенность с мужественностью на подлинно гумани- стический лад. Он говорил: Нам вера, чтоб жить без движенья, нужна; Движению — что непригодней? Сомнение, сжатое в честный кулак, Взломает врата преисподней.
32
Это и есть гуманизм самого высокого толка. И му- жественность решительного неверия, звучащая в строках: И грозный час пробьет, и люди Землей укроют прах, скорбя. И никогда тебя не будет, Как прежде не было тебя, — проходит через все его творчество, как бы он ни ме- нялся с годами, и эта прямота, эта честность, быть может, самое прекрасное, самое поучительное свой- ство его натуры. Один твердит: «А что потом?» Другой твердит: «Судьба!» И этим отличается Свободный от раба. Эта сублимация древнегерманских общественных отношений и перенесение их в область морали — истинный Шторм. Он-то был свободен; несмотря на всю мягкость и чувствительность своей натуры, он был упорен и тверд, — это стало ясно в начале пяти- десятых годов, когда Хузум перешел в руки датчан и все вокруг него пошли в услужение к чужакам, а он, не в силах приспособиться, отряхнул от ног своих прах родины и уехал в Пруссию. Этому добро- вольному изгнанию из любви к отчизне мы обязаны изумительным прощальным стихотворением, заклю- чительные строфы которого, исполненные страстного чувства, представляют собою самое чистое и плени- тельное выражение любви к родине, которое когда- либо знала немецкая поэзия.. Тем же духом свободной, прямой человечности проникнута и стихотворная заповедь, написанная им для сыновей, — ее педагогическое воздействие не- обычайно. Могу засвидетельствовать, что, когда я был еще мальчиком, мне в плоть и кровь вошли эти строки: Чтобы выйти на дорогу, День и ночь трудись без меры; Только помни: губит душу Достижение карьеры.
33
Я уверен, что всегда найдутся на свете юноши, для которых это поучение будет священным прави- лом жизни и которые примут его с сыновней благо- дарностью как слова, обращенные непосредственно к ним. Нечего и говорить, что его мужественность не имела ничего общего с тупостью. Он отвергал рели- гиозно-утешительную идеализацию смерти, которая была для него концом sans phrase!, неизбеж- ностью, висящим над головою мечом, платой, неукос- нительно вносимой нами за то, чего мы сами не же- лали — за наше рождение, но тем не менее она за- нимала и омрачала его мысли с юношеских лет, всю жизнь, и в этом смысле, если угодно, можно даже го- ворить об ипохондрии, душевной болезни. Он, правда, заявлял в стихах, что спокойно ожидает на- ступления смертного часа, ибо ведь и уничтожение «чего-нибудь да стоит». Но до спокойствия ему было далеко, и разверзавшаяся бездна небытия дышала на него ужасом, который он, вероятно, испытывал еже- часно. Мало кто из поэтов с такой жуткой, трепет- ной силой воплотил в стихах первое предчув*. ствие приближающейся смерти, еле уловимое и все же несомненное чувство ее губительного прикоснове- ния, как это сделал Шторм в трёх строфах своего «Начала конца». В другом его стихотворении, без рифм, без размера, полном ужаса, написанном, ви- димо, в припадке смертного страха, говорится о смерти, которая наступит, когда он, истерзанный надеждой и жизнью, рухнет на краю дороги —и древняя вечная ночь погребет нас, после борьбы, усилий, страха, надежд и «страстных мечтаний»,— погребет с тем немым милосердием, которое страш- нее всего, но которое и есть истина, ибо все осталь- ное — сновидения жизни. «В конце пути мы одиноки, нас гибель и забвенье ждет»; «Страх перед ночью забвения, которой нельзя избежать», — он все снова и снова передумывает, перебирает, переживает эти мысли, облекая их в форму сетований доброго отца Безусловно, безоговорочно (франц.).
34
семейства, который в беседе с домашними нет-нет да и скажет: «Ужасно, что я ничего больше не буду знать о вас, не смогу о вас заботиться». Это — страхи поэта. Хотя объективно смерть неиз- менна в своей сущности, субъективно она не всегда означает одно и то же, не всегда имеет один и тот же метафизический вес. Так, женщине легче умирать, чем мужчине, — она больше, чем он, природа, и меньше личность. Искусство — самое сильное средство для пробуждения в человеческом «я» сознания, для реа- лизации этого «я»; но если искусство шествует рука об руку с пессимистическими убеждениями, с гумани- стическим и естественно-научным язычеством, и если «я» недостаточно гордо, чтобы допустить хоть какое- нибудь бессмертие, хоть с аристократическим выбо- ром, как у Гете, то мысль о смерти перенести трудно. Повторяю: трудно перенести лишь самую мысль, дей- ствительность же смерти поражает в конце концов и того и другого, — и неосмысленное «я», и то, что су- мело себя реализовать; страхи и ужасы проходят, и под конец человек обычно произносит двусмысленные своим благодушием и иллюзорностью слова: «Теперь я усну». Шторм дожил почти до семидесяти одного года. Он умер от болезни, которая роковым образом фигу- рирует в одном из самых сильных его рассказов, в «Исповеди», — от рака, точнее, от рака желудка. Он храбрился и требовал «ясности» от врача, требовал, чтобы тот говорил с ним как мужчина с мужчиной. Когда же врач выложил ему все начистоту, он был совершенно уничтожен и погрузился в такую глубо- кую тоску, что все поняли: ему не дописать «Всад- ника на белом коне», высочайшее и дерзновеннейшее по замыслу произведение из всех, за какие он когда- либо принимался. И тогда все сказали: «Нет, так не годится», — и решились на благодетельный обман старого поэта, который в эстетическом смысле стоял на тацитовско-германской позиции sera Juventus, но переоценил свое мужество. Его брат Эмиль, который был врачом, пригласил двух коллег, состоялся фаль- шивый консилиум, после чего наука объявила, что все
35
это чепуха, о раке не может быть и речи, а боли в желудке
никакой опасности не представляют. Шторм тотчас поверил, воспрял духом и провел
пре- восходное лето; в обществе добрых хузумцев он ве- село отпраздновал свое семидесятилетие,
а кроме того, победоносно завершил «Всадника» — монумен- тальное произведение,
создав которое он поднял но- веллу— как он понимал этот жанр, то есть как эпи-
ческую сестру драмы — на никем еще не превзойден- ную высоту. Мне хотелось в
заключение рассказать этот эпи- зод. Шедевр, явившийся венцом его творчества, —
плод милосердного обмана. Готовность поддаться обману была рождена волей к
завершенности и к жизни, свойственной великому творению искусства.
1930
ГЕТЕ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
БЮРГЕРСКОЙ ЭПОХИ
Прежде чем подойти к своей задаче — беседовать с вами о
Гете, — я хочу поделиться одним воспомина- нием, одним переживанием, которое
подбодрит меня и сообщит моему дерзновенному намерению ту обо- снованность, которая
во всяком деле является глав- ной и решающей. Я воскрешаю в себе чувства, охва-
тившие меня несколько лет назад, когда я впервые посетил родительский дом Гете
на Хиршграбене, во Франкфурте-на-Майне. Эти лестницы и комнаты своим стилем,
настрое- нием, атмосферой были мне искони знакомы. То было «происхождение»,
каким оно записано в книге, книге моей жизни, и в то же время начало подавляюще
грандиозного. Я находился «дома» и, однако, был робким и запоздалым гостем у
колыбели гения, ге- роя. Родина и величие сливались здесь воедино. Патрициански-бюргерское,
ставшее музейной релик- вией, к которой приближаешься, благоговейно затаив
дыхание; почтенно-добропорядочное, сохраненное и свято оберегаемое ради сына,
который перерос—и насколько перерос! — все это, возвысившись до все- мирно
значительного, — я смотрел на это, вдыхал это, и противоречивое ощущение
близости и почтительно- сти в моей душе разрешилось чувством, в котором
смирение и самоутверждение неотделимы одно от другого, — улыбающейся любовью.
37
О Гете я не могу говорить иначе, как с любовью, то есть с интимностью, непозволительность которой смягчается острейшим сознанием моей с ним несоиз- меримости. Вещать о вершинах его я скромно предо- ставляю историко-комментаторским умам и просве- щенным натурам, которые чувствуют себя достаточно зрелыми, чтобы с чисто познавательной точки зрения подойти к великому, — а это нечто совсем иное, чем быть причастным его сущности и только в ней, то есть не в духовном, а в человеческом, естествен-, ном, обрести своего рода право, возможность гово- рить о нем. Лишь исходя из собственной сущности, из собственного бытия, то есть из некоторого интим- ного опыта, детски-горделивого сознания: «Anch'io sono pittore»1, и могут мне подобные говорить о Гете; и к чему отказываться от этого узнавания, от этого права на родство, которое глубоко уходит в сверхличное и национальное? В этом году, в эти дни мир чествует великого горожанина. Но с той фа- мильярностью, о которой я говорил, то есть исходя из собственной сущности, которая была и его сущностью, можем это делать только мы, немцы. Почтенно-бюр-. герское как родина общечеловеческого, мировое вели- чие как детище бюргерского — такой путь становле- ния и дерзновенного роста возможен только у нас, и все немецкое, из бюргерского выросшее в духовное, радостно пребывает у себя дома в родительском доме Гете во Франкфурте. Этого великого человека и поэта, или, лучше ска- зать, этого великого человека в образе поэта, можно видеть по-разному, в зависимости от того, под каким историческим углом зрения мы его рассматриваем. Так, например, — и эта перспектива самая скром- ная,— он властитель дум целой эпохи немецкого просвещения, эпохи классической, которой немцы обязаны почетным званием народа поэтов и мыслите- лей, эпохи идеалистического индивидуализма, в кото- рую, собственно говоря, родилось немецкое понятие культуры и гуманистическое очарование которой, И я тоже художник (итал.).
38
в особенности у Гете, состоит в своеобразном психо- логическом сочетании автобиографического самовы- ражения и самоусовершенствования с педагогической идеей, причем последняя образует мост, переход от мира личного, внутреннего к миру социальному. Ви- деть в Гете представителя этой классически-гуманной эпохи просвещения — вот самая малая мера, с кото- рой можно к нему подойти. Но возможна другая, бо- лее значительная, и она напрашивается сама собою. С этой мерой подошел к великому немцу после его смерти один из его первых зарубежных почитателей, Томас Карлейль, заметивший, что мир знает людей, чьи импульсы достигали своего полного развития не раньше, чем через пятнадцать столетий, и которые даже через две тысячи лет продолжают оказывать влияние на людей в полную силу своей индивидуаль- ности. Говоря в этом смысле об «эпохе Гете», прихо- дится мерять ее не столетиями, а тысячелетиями, и в этой чудо-личности, именуемой Гете, к которой уже современникам казалось вполне естественным приме- нять определение «божественный человек», и в самом деле заложены мифотворческие силы, свойственные лишь величайшим из людей, которые когда-либо жили на земле, и невозможно предугадать, до каких разме- ров разрастется со временем его образ. Однако между этими двумя возможными точками зрения: относительно скромной и наиболее грандиоз- ной — есть еще третья, промежуточная; и для нас, являющихся свидетелями отмирания целой эпохи, эпохи бюргерства, для нас, кому суждено в муках и испытаниях перелома найти путь к новым мирам, но- вому духовному и общественному жизнеустройству, эта третья оптическая возможность рассматривать его как представителя того полутысячелетия, которое мы называем бюргерской эпохой и которое начи- нается пятнадцатым веком и кончается девятнадца- тым, является наиболее близкой и естественной. Ро- дившись чуть раньше середины восемнадцатого столетия, он был увлечен своим жизненным импуль- сом на целое поколение вперед, в девятнадцатое, и, несмотря на то что корни его культуры залегают
39
в восемнадцатом веке, умом и душою он охватывал многое из девятнадцатого, не только ясновидяще- пророчески, как в своем эпическом творении поры старости, социальном романе «Годы странствий Виль- гельма Мейстера», где он, как предусмотрительный наставник, предвосхищает все общественно-экономи- ческое развитие нового столетия, но и чисто поэтиче- ски, как в «Избирательном сродстве», — книге, внут- ренняя человечность которой, несмотря на пейзажи и костюмы в стиле рококо, уже не имеет ничего общего с восемнадцатым веком и его сухим рационализмом, а открывает нам новые душевные состояния, более темные и глубокие области чувства и мысли. Он был сын восемнадцатого, девятнадцатого сто- летий, но вместе с тем и сын шестнадцатого, эпохи реформации, брат Лютера и брат Эразма одновре- менно. Он связан с ними поразительным, им самим подчеркивавшимся сходством и общностью наклон- ностей; можно сказать, в нем сочетаются характеры их обоих. Как порождение великого немецкого духа, как гений, вскормленный силой народа, он по-братски близок Лютеру, и сам, не обинуясь, ставил себя ря- дом, сравнивал себя с ним. Характерно, что, играя мыслью о том, что бы он сделал в качестве перевод- чика библии, Гете заявляет, что разве только неж- ность ее он взялся бы передать лучше. Он протестант, говорит Ример, и ни от кого не скрывает, что проте- стует против «папства и поповства» и всегда будет это делать, что, по его словам, значит идти вперед. Ибо все, что сдерживало развитие человечества, было в его глазах поповством, будь то в сфере церкви или государства, науки или искусства. «Никому так не пристало быть протестантом, как немцу, и немец был бы ничем без протестантизма». Но есть у него выска- зывания, более роднящие его с Эразмом, чем с Люте- ром, человеком из народа. Дух французский, как встарь лютеранства дух, оттесняет В наши смутные дни труд просвещения вспять. Это двустишие ясно и отчетливо показывает, как бы он вел себя, если бы родился в шестнадцатом,
40
а не в восемнадцатом веке: во имя высшего понятия «просвещение», объединяющего в себе природу и культуру, он стоял бы за Рим против религиозной «смуты» или занимал бы такую же двусмысленную и ненадежную позицию, как Эразм, о котором Лютер сказал, что спокойствие для него дороже креста, и о котором сам Гете с нескрываемой симпатией гово- рил, что он был одним из тех, кто довольствуется своим здравомыслием и не пытается привить его дру- гим, за что его трудно упрекнуть. Здесь сказывается духовный аристократизм великого гуманиста, тяготе- ние к утонченному, непростонародному, тоже входив- шее в натуру Гете, созданную для того, чтобы соче- тать в себе все противоположности. Как бы то ни было: Кипят свободою умы, И смело протестуем мы. , И, насколько революция, опять-таки по причинам духовно-бюргерского порядка, на которых мы остано- вимся ниже, внушала Гете отвращение, настолько же положительно, в силу самой своей натуры, относился он к ее предшественникам — немецкой реформации и эпохе пробуждения индивидуальности, то есть эпохе итальянского Ренессанса, пятнадцатому столетию, где он кажется вполне в своей стихии. Он удивительно похож на великих, замечательных людей той эпохи, вошедших в пантеон ее славы, и родственные черты сближают его не только с Лютером, но и с Леонардо, чье внутреннее богатство, чья душевная двойствен- ность, в которой слиты искусство и познание при- роды, повторяются в нем. Можно привести и другие доказательства этой связи: он переводит Бенвенуто Челлини, в «Торквато Тассо» он в поэтической игре смешивает веймарский двор с феррарским двором эпохи Возрождения, а его стихотворный эпос, «Гер- ман и Доротея», «Ахиллеида», своей формой и компо- зицией напоминает искусство той эпохи, производя такое же впечатление, как стилизованные под антич- ность, вырастающие из плоскости скульптуры того времени, и сам он признает, что с особенным удоволь- ствием читал «Германа и Доротею» в латинском
41
переводе — чисто внешнем переложении, благодаря которому еще отчетливее проступает связь этого про- изведения скорее со сферой Возрождения, нежели с немецко-бюргерской сферой. Но в то же время, и прежде всего, эта поэма наряду с «Колоколом» Шил- лера в своей поэтической честности, своей непоколе- бимой гуманности — самое чистое и сознательное прославление и восхваление той человеческой среды, которую мы называем немецким бюргерством… Отпрыск франкфуртского бюргерского дома гово- рит в нем и тогда, когда он заводит речь о трудно- стях, встающих перед таким талантом, как Байрон, в силу того окружения, в котором он родился, высо- кого происхождения и богатства. Золотая середина, говорит он, куда благоприятнее для таланта, «и вот почему все великие художники и поэты вышли из средних слоев общества». Восхваление среднего со- словия как почвы, вскармливающей таланты, у него не случайно; в своих беседах он сплошь и рядом при- писывает бюргерству то, что мы, по поводу «Германа и Доротеи», называли непоколебимой гуманностью, или, говоря его словами, «прекрасную, спокойную просвещенность, которая составляет силу этого со- словия в войне и мире». «В Карлсбаде, — рассказывает Гете, — один че- ловек сказал про меня, что я степенный поэт; он имел при этом в виду, что и в поэзии я остаюсь бюргерски рассудительным. Одни сочли это похвалой, другие — порицанием; сам я ничего не могу сказать на этот счет, ибо в этом — мое «я», судить о котором прили- чествует другим». Что касается нас, то мы не видим в этом ни похвалы, ни порицания, а всего только кри- тическое высказывание наблюдателя, по-видимому весьма неглупого. Ведь разве что в шутку, смеха ради стали бы мы искать в человеке таких масштабов черты, которые можно назвать бюргерскими в бук- вальном, обывательском смысле этого слова. Но при этом возможен переход от малого и внешнего к вы- сокому и духовному, вскрывающий и в этих черточ- ках человечески характерное. Обратим внимание на внешний жизненный уклад Гете, на опрятность его
42
одежды, на присущее ему чувство изящного, на чи- стоту и аккуратность всего, что выходило из его рук, о чем свидетельствуют его друзья. Все это простей- шие, естественные привычки, связанные с хорошим происхождением, с бюргерским воспитанием.: Его по- ведение, по словам одного из современников, «отнюдь не отличалось эксцентричностью, столь обычной у гениальных людей, он был вежлив и прост в обра- щении». В нем не было ни капли жреческого, торже- ственного и ходульного, никакой претензии на свя- щеннодействие. Он может при случае посмеяться над самим собой и, когда тягости духовной жизни не слишком гнетут его, способен на ребячливое и отече- ское добродушие. Его основная сердечная склон- ность— доставлять людям удовольствие, делать для них мир приятным. Понятие «приятности» играет осо- бую роль в тех благожелательных жизненных сове- тах, которыми он оделяет людей, и чисто бюргерская черта Гете — но уже в высшем, духовном смысле — сказывается в том, что в «Поэзии и правде» он сво- дит всю приятность жизни к закономерному круго- обороту внешних явлений, смене дня и ночи, времен года, цветения и жатвы и всего того, что из эпохи в эпоху повторяется периодически. В утомлении от этого закономерного ритма явлений природы и жизни он усматривает прямо-таки душевное заболевание, угрозу для жизни, главное побуждение к самоубий- ству. Его привередливость в еде и питье, неудоволь- ствие и обида, которые он испытывал, когда к нему проявляли недостаточную внимательность в этом от- ношении, дополняют его комически-бюргерский образ, и то обстоятельство, что Цельтер регулярно снабжал его любимыми тельтовскими репками, несомненно, способствовало дружбе между ними. О том, что у его превосходительства Гете кушали отменно вкусно, свидетельствуют многие современники, и здесь мне невольно вспоминается один маленький случай из его жизни, который, как ни странно, рас- сказал мне о Гете больше, чем многие сообщения бо- лее возвышенного свойства. История эта следующая.
43
Как-то раз в Веймаре был проездом литератор, путе- шественник по Исландии, Мартин-Фридрих Арендт, ученый богемного типа с несколько странной наруж- ностью и не слишком утонченными манерами. Он приглашен к Гете на обед, где занимает хозяина и его близких друзей рассказами о своих путевых при- ключениях и результатах антикварных розысков, не забывая в то же время с величайшим аппетитом на- легать на кушанья. На второе подают баранье жар- кое с огуречным салатом, и вот, уничтожив несколько порций, добряк Арендт не в силах примириться с тем, чтобы подливка от жаркого, смешанная с огуречным соком, пропала даром, берет тарелку обеими руками и подносит ко рту, но в последнее мгновение пу- гается и смотрит на хозяина, как бы прося у него разрешения. И тот, благовоспитанный, выражает полное сочувствие желанию своего гостя: с величай- шим простодушием и сердечностью он просит его не стесняться, и, пока гость прихлебывает подливку, не дает наступить молчанию, которое могло бы угне- тающе подействовать на лакомку; он разговаривает, убежденно-горячо разъясняет прелесть такой смеси подливки и огуречного сока, и своими разглагольство- ваниями предоставляет сладкоежке полную возмож- ность покушать всласть. При этом нужно представить себе Гете таким, как он выглядит на картине Джор- джа Доу, написанной в 1819 году, — картине, всегда привлекавшей меня своей особенной жизненной прав- дивостью,— с этими глазами, полными детского лу- кавства, глубокого и доброжелательного жизненного опыта, с этой мудрой благосклонностью ко всему че- ловеческому, и мы ясно увидим эту веселую сценку и живо ощутим ее очарование. Как деловой человек и глава дома он насторожен, недоверчив и упрям. Он не считает, что обкрадывает себя как поэта, заботясь о своей выгоде и выжимая все возможное из своих произведений. Именно по- этому «Германа и Доротею» он выпускает в свет сперва к дню святого Михаила в виде календаря у Фивега в Берлине, потому что это популярное изда- ние обеспечивает двойной гонорар — вознаграждение,
44
чудовищно крупное по тому времени, по свидетель- ству современников, хотя сам он не видел в нем ни- чего необычного. Даже в тех случаях, когда тре- буется оказать поддержку какому-нибудь новому литературному предприятию, журналу, он принципи- ально никогда не отказывается от гонорара за свое участие в нем. Шиллер в письме к своему другу Кернеру жалуется, что Гете «ничего не хочет дарить». Речь шла о «Меркурии», жизнеспособность которого была под угрозой из-за большой задолженности авто- рам, что, однако, не помешало Гете настаивать на оплате своих произведений. В нем есть черта бюргерской любви к порядку, унаследованная им от отца, как и вообще «обычай жизни строгой», и, как у отца, выродившаяся к ста- рости в крайний педантизм и коллекционерскую одер- жимость. В «Поэзии и правде» рассказывается, что имперский советник доводил почти до абсурда принцип обязательно выполнять все предпринятое. Например, начатое совместно чтение какой-нибудь книги должно было обязательно доводиться до конца, какой бы скучной она ни оказалась, и так во всем он упорно настаивал на завершении однажды начатого, пусть даже это было не только неудобно, но и явно бесполезно. Он не допускал, чтобы Вольф- ганг бросал свои рисунки незаконченными и соб- ственноручно обводил наброски контурными линиями, чтобы приохотить юношу к завершенности и основа- тельности. Нельзя недооценивать практическую по- лезность подобного, педагогического внушения. Эти- ческое требование творчества — доводить начатое до конца — служило необходимым коррективом легко утомляющейся, беспокойной и многосторонне-жадной натуре Гете. Ведь с сверхпрактической и сверхсоци- альной точки зрения, в сущности, безразлично, обла- дает ли художник бюргерской добродетелью терпе- ния, прилежания и выдержки для придания начатому произведению законченности и закругленности. Эго- изму мечты и самоуслаждения должны быть противо- поставлены иные побуждения — социальная или, если угодно, бюргерская симпатия и стремление быть
45
полезным, *т- только в таком случае творение ро« ждается на свет; и кто знает, смог ли «Фауст» полу- чить хотя бы ту внешнюю цельность, которая была доступна для этого внутренне бесконечного произве- дения, если бы бюргер-отец не внедрил в детскую душу педагогического императива «доводить дело до конца». «Манерность, — говорит Гете Эккерману, *—всегда стремится закончить поскорее и не испытывает насла- ждения от работы. Но подлинный, истинно великий талант видит величайшее счастье в самом выполне- нии»… «Не следует,—говорит он, — думать о том, как бы закончить, — как и путешествуем мы ведь не ради того, чтобы прибыть на место, а ради самого путешествия…» «Есть превосходные люди, — замечает он в другой раз, — которые не способны ничего делать наспех, поверхностно, но чья натура требует глубо- кого и спокойного проникновения в предмет. Подоб- ные таланты часто вызывают в нас нетерпение, так как от них редко получаешь то, чего ждешь в данную минуту. Однако именно на этом пути создается самое великое». На первый взгляд, он говорит здесь о «превосходных людях», но ведь ясно, что и сам он в значительной мере принадлежит к ним и что он тоже создавал самое великое на этом пути. Склон- ность к обдумыванию и медлительности, матерински терпеливое вынашивание неотделимы от его гения, В самом деле, ведь как творец он обладает натурой скорее медлительной, чем бурной и импровизатор- ской. Чудесный рассказ, в конце концов озаглавлен- ный просто «Новелла», он носил в себе тридцать лет« Для «Эгмонта», от первоначального замысла до за- вершения, потребовалось двенадцать лет, для «Ифи- гении» — восемь, для «Тассо» — девять. Работа над «Годами учения» растянулась на шестнадцать лет, над «Фаустом» — почти на четыре десятилетия. Как поэт он всю свою жизнь, в сущности говоря, жил за счет своей молодости, он не был художником вечно новых находок и замыслов, его творчество в основном сводилось к разработке и оформлению идей, зародив- шихся у него на заре жизни, которые он пронес через
46
десятилетия и наполнил всем богатством своей жизни, благодаря чему они приобрели мировой от- клик. Так, «Фауст» по своему происхождению гени- альная студенческая выходка, поднимающая на смех университетскую ученость и профессоров и виршами описывающая трогательно-злополучную историю обольщения скромной мещаночки. Но такова была сила всхожести этого юношеского замысла, и испод- воль, постоянно направленное на него творческое уси- лие было столь неослабным, что со временем из него выросло всеосеняющее древо, поэма, типичная для немецкого народа и для всего человечества, которую открываешь, как библию, и находишь в ней утеши- тельное и мощное выражение духа человеческого. Так, «Вильгельм Мейстер» по своему первоначаль- ному замыслу — роман молодого восторженного театрала, не ставившего себе иной задачи, как опи- сать мир бродячих служителей Диониса, закулисный (мир, описать его таким, каким он никогда еще не был описан. Но в конце концов мир комедиантов ока- зался лишь исходной точкой для эпического воспита- тельного путешествия, столь многознаменательного и всеобъемлющего свойства, что один умный критик- романтик сказал, что французская революция, «Науко- учение» Фихте и роман «Вильгельм Мейстер» — три величайших события эпохи. Это непроизвольное, чуждое честолюбию, тихое и естественное, почти ра- стительное разрастание от незаметного зародыша до всемирно значительного — черта, наиболее всего за- служивающая любви в могучем жизненном труде Гете. Из иных высказываний о великих людях, продик- тованных ненавистью и желанием унизить, высказы- ваний полемически-злобных и, в силу своего недобро- желательства, почти пророческих, можно узнать больше, чем из самого восторженного панегирика. Я имею в виду письмо некоего равнодушного госпо- дина фон Бретшнейдера берлинцу Фридриху Нико- лаи, написанное в 1775 году; автор отзывается
47
о молодом творце «Страданий юного Вертера», о его сомнительном уме и непостоянном нраве с антипатией, не лишенной психологической проницательности, и наделяет его как поэта следующими свойствами: «У Гете есть какой-то зачаток одаренности, или, вер- нее, поэтический гений, который проявляется после того, как он, поносив некоторое время тему в себе, разработав ее внутренне, собрав все, что может быть для нее использовано, садится за письменный стол. Быть поэтом на случай он не способен. Вне своей ма- неры он ничего не может создать. Если что-нибудь его поразило, оно застревает в его душе и мозгу, и все, что встречается ему на пути, он старается свя- зать с тем комком глины, над которым работает, и не думает ни о чем, кроме этого предмета». Весь этот отрывок выдержан в пренебрежительном, уничижи- тельном тоне, но в нем высказаны как нечто отрица- тельное истины психологически-конституционального порядка, которые находят себе подтверждение в ве- личайшем из когда-либо существовавших творческом стиле. Возможны лишь два пути достижения значи- тельной цели, утверждает Гете: насилие и методич- ность. Путем этого великого противника насилия и миролюбца был путь методичности, порядка, спокой- ной выдержки. Иногда он доводил этот принцип до гротеска и выказывал ошеломляющую готовность расписаться даже в тупоумии во имя долга. «И если б моей задачей, — восклицает он, — было не- прерывно опорожнять и снова наполнять вот эту пе- сочницу, что стоит здесь предо мною, то я делал бы это с неистощимым терпением и величайшим тща- нием». В нем можно увидеть элемент рачительности, пре- дусмотрительности, который, надо полагать, является характерным для бюргерской морали. «Кто загляды- вает вперед, — говорит он, — тот хозяин дня». Он сла- вит начало дня, утро, когда мы наиболее умны, но вместе с тем и наиболее озабоченны: «ведь забота тоже мудрость, пусть даже только пассивная; глу- пость забот не знает». И восхваление утра как наибо-
48
лее подходящей поры для творчества перерастает в настоящее славословие, когда он заявляет: Хвала божественно зачавшемуся дню! ч Затем что труд, достойный человека, Труд утренний. Благодаря этой рачительности, граничащей с культом времени, обожествлением времени, эконо- мией времени, ведущей учет каждой минуте, он и прожил столь многогранно-трудовую жизнь, какую когда-либо пришлось прожить человеку. Он возвели- чивает минуту в альбомном стихотвореньице, посвя- щенном внуку, — изречении, являющемся ответом на одну сентиментально-пессимистическую сентенцию Жан-Поля, не пользовавшегося у него особым ува- жением: Шесть десятков час вмещает, День — за тысячу минут. Помни, сколько обещает Нам, сынок, усердный труд. Его нива — время. По существу, он не знает от- лыха. Он признает, что те часы, которыми всякий другой располагает для отдыха, ему приходилось по- свящать самой разносторонней деятельности, Так, однажды у него в доме — ему уже семьдесят девять лет — собираются гости, среди которых находится Тик; наконец, заждавшись его, они подсылают — мне думается, намеренно — хорошенькую девушку к нему в кабинет, где старик стоит в шлафроке перед пюпит- ром, заваленным грудой бумаг. Просьба порадовать общество своим присутствием вызывает в нем гнев. Уж не воображают ли они, что он побежит к ка: ждому, кто его ждет, — раздраженно восклицает он. «А что же будет вот с этим? — И он указывает на раскрытые листки. — Ведь когда я умру, никто этого не сделает. Передайте им это». Но когда девушка с печальным видом собирается удалиться, он смяг- чается и подзывает ее к себе. «Глубокий старик, если он еще хочет работать, — мягко говорит Гете, — не может поступаться своими замыслами в угоду каждому. Иначе он не будет угоден потомству».
49
Трогательное маленькое происшествие, и, назвав чисто бюргерской эту преданность труду до последней минуты, бюргерской этике, право же, нельзя оказать большую честь. Мы сделаем это с тем большим осно- ванием, что любовь к труду и работе, аскетическая вера в них отмечались как характерная черта бюргер- ства даже социологией, обосновывавшей бюргерский духовный склад с религиозно-протестантской точки зрения. «Такой труд послал бог человеку» — это биб- лейское изречение Гете цитировал, наверное, чаще всего, растягивая слово труд на полукомический, полутрагический лад. Великому миролюбцу, для которого, однако, быть человеком значило быть бойцом, по его собственному свидетельству, было глубоко чуждо титаническое, богоборческое начало. Оно, говорит Гете, не давало материала для его поэзии; «мне скорее свойственно изображать то мирное, пластическое, всегда страда- тельное сопротивление, которое признает высшую власть, но хотело бы сравняться с нею». Рефлектив- ная, созерцательная, справедливая основа его суще- ства, проникающего во все явления, умеющего выра- жать себя в них и принимающего жизнь в целом, исключает трагическое, которое, по его собственному признанию, внушает ему страх и трепет и которое, как он говорит, погубило бы его. Такая трезвость и рас- судочность могла показаться антипоэтической фана- тикам и жрецам поэзии, подобным Новалису. Пара- доксально и непонятно, как мог Новалис, не вовсе бездоказательно, назвать «Вильгельма Мейстера» «Кандидом, направленным против поэзии», и критика, которой этот чахоточный мистик подвергнул величай- ший роман немцев, служит блестящим образцом тех полемических документов, из которых, как мы уже говорили, благодаря их негативизму, можно узнать больше, чем из любых восторженных отзывов. Нова« лис осмелился назвать «Мейстера» в высшей сте« пени нехудожественным произведением, несмотря на поэтичность изложения, сатирой на поэзию, рели- гию и т. д.; великолепное блюдо, божественная кар- тина получилась,, по его словам, из соломы и стру-
50
жек. С изнанки все это — фарс. «Подлинной и незыб- лемой остается лишь экономическая сущность вещей. Романтическое теряется в ней так же, как и поэзия природы и все сверхъестественное. Речь идет лишь о будничном быте людей, природа и мистицизм забыты. Это опоэтизированная бюргерская семей- ная хроника… Из первой книги «Мейстера» видно, как приятно может звучать обыденность, повседнев- ность, если она преподносится с пленительными моду- ляциями, если она, скромно облекшись в округлое, плавное слово, мерным шагом проходит перед нами. Подобное же удовольствие доставляет путешествен- нику день, проведенный в лоне семьи, которая, не имея среди своих членов выдающихся людей, не отли- чаясь утонченно-обаятельным окружением, тем не менее приятностью и упорядоченностью своего быта, согласованной деятельностью своих умеренных талан- тов и умов и целесообразным использованием и за- полнением своей сферы и своего времени оставляет по себе воспоминание, которое охотно вызываешь вновь и вновь». Не вспоминается ли нам здесь че- ловек из Карлсбада и его слова о «степенном» поэте? «Гете — поэт сугубо практический, — сказал Новалис в другом месте. — Его произведения подобны англий- ским товарам: они в высшей степени просты, изящны, удобны и долговечны« В немецкой литературе он сде- лал то, что Веджвуд — в английском искусстве; как у англичан, у него есть прирожденный практический и приобретенный знанием благородный вкус« В его натуре скорее довести до конца что-либо незначитель- ное, до блеска отделать какой-нибудь пустячок, нежели начать что-либо грандиозное, заранее зная, что оно не будет завершено вполне». Злобность этих высказываний не может скрыть от нас заключенной в них доли истины. Мы находим здесь и эпитет «бюргерский», а что Новалис не ме- нее других был доступен чарам бюргерского духа, видно из других мест, где он заявляет, что, хотя кое- кому это и покажется странным, все же несомненно, что только обработка, внешность, мелодия стиля вле- кут нас к чтению и только благодаря им захватывает 4* 51
--------------------------нас та или иная книга. «Годы учения Вильгельма Мейстера», — говорит он,— служат убедительным до- казательством этой магии повествования, вкрадчивой прельстительное™ умного, приятного, простого й вместе с тем разнообразного слова. Кто обладает этим даром слова, может увлечь и заинтересовать нас, рассказывая даже о самых незначительных ве- щах; это духовное единство — истинная душа книги, составляющая ее индивидуальность и впечатляющую силу». Рассудительное очарование, младенчески-боже- ственную прелесть манеры Гете невозможно охарак- теризовать более холодно и в то же время более метко, чем это сделал Новалис. Ведь и в самом деле, всякая высокопарность, всякие поэтические излише- ства чужды его стилю, который, однако, всегда готов на крайность и движется по некоторой средней линии со сдержанной смелостью, мастерской отвагой и не- погрешимой художественной уверенностью; изящный, четкий, переходящий под старость в несколько канце- лярскую диктовочную прозу, полную ритмического очарования, составляющего прозрачный сплав эроса » логоса, он влечет, несет нас сладостно и неотвра- тимо. Слово у него не имеет ничего общего с высоко- парностью, напыщенностью, торжественностью, свя- щеннодействием или патетикой, — пройдя школу Гете, живя его вкусом, такие книги просто невозможно чи- тать и вслушиваться в них внутренне, они отталки- вают и вызывают безнадежную скуку, — но все про- износится умеренным, негромким голосом, обо всем прозаически говорится даже в лирике, на всем печать своеобразной прозаической просветленной смелости. Слово создается наново, нестертое, единичное, как будто впервые вышедшее из лона языка, оно нахо- дится наново, наново соединяется со своим смыслом, причем смысл этот начинает по-особенному просвечи- вать сквозь него, и возникает нечто прозрачно-светлое, нечто «златозарное», как говорят на западе Герма- нии, и вместе с тем божественное, пристойно дерзкое в том особом смысле, как это понимал сам Гете; го- воря о том, что в каждом художнике заложен «заро- 52
--------------------------дыш дерзнойения», без- которого немыслим ника- кой талант. К «Фаусту» это относится не в меньшей мере, ч*ем к «Дивану» и к его прозе, и если то, что, есть в них смелого, принадлежит художнику, то все среднее, умеренное можно отнести за счет бюргера. Не таков ли и его реализм, который он созна- тельно противопоставляет исходящему из идеи твор- честву Шиллера, подобно тому как гомеровская пластичность Толстого отличается от призрачной апо- калиптики Достоевского? «Твое неуклонное направ- ление,— сказал ему в молодости друг его Мерк, и эти слова он всегда держит в памяти как своего рода лозунг, — твое неуклонное направление в том, чтобы претворять действительность в поэтические образы. Другие стремятся воплотить поэтическое в действи- тельность, и из этого получается одна ерунда». — «Дух действительности,— говорит Гете,— вот истинно идеальное», — эта направленная против Шиллера антиидеалистическая форма идеализма определяет все его отношение к человеку и человечеству и особенно проявляется в области политики. Ведь это ему при- надлежит шокирующее высказывание о том, что раз- грабление крестьянского двора — Действительно бед- ствие и катастрофа, а «гибель отечества» — всего лишь пустая фраза. В этих словах нашли свое ради- кальное выражение его аполитичный и антиполитиче- ский образ мыслей и, что одно и то же, его антиде- мократичность, не имеющая ничего общего с аристо- кратизмом. Он сам всегда считал, что Шиллер по существу был гораздо аристократичнее его. Именно от критически более зоркого из них, от Шиллера, узнаем мы о различиях их духовного облика, разли- чиях, которые столь глубоко и упорно занимали Шил- лера и которым мы обязаны доброй половиной его эссеистики, — именно от Шиллера, повторяю, узнаем мы об этих различиях и противоположностях самым лучшим и надежнейшим образом, и, когда в своей статье «О наивной и сентиментальной поэзии» он го- иорит о реалисте как о человеколюбце, не отличаю- щемся, однако, слишком лестным мнением о человеке и человечестве, и об идеалисте, у которого, напротив, 63
--------------------------столь высокое представление о. человечестве, что ему грозит опасность впасть в человеконенавистничество, анализ этот, совершенно очевидно, относится к нему самому и Гете. И психологически в высшей степени интересно проследить, как Шиллер, формулируя от- ношение идеалиста к человеку, предстает здесь фран- цузом в той мере, в какой он им является. Ведь этими скупыми словами он характеризует не что иное, как дух французской литературы, это удивительное сме- шение гуманитарно-революционного порыва, благо- родной веры в человечество и глубочайшего, горчай- шего, более того — язвительнейшего пессимизма по отношению к человеку как личности. Он проводит различие между отвлеченной, политически-гуманитар- ной страстью и чувственным реализмом индивидуаль- ной симпатии. Он — патриот человечества в гумани- тарно-революционном духе, и если автора «Геца», «Фауста», рифмованных изречений и «Германа и Доротеи» можно назвать непатриотом на чисто не- мецкий лад, то творец «Телля» и «Орлеанской девы» — патриот интернациональный. Он носитель идеи бюргерства в политическом, демократическом смысле, тогда как Гете представляет ее в духовном, культурном. Ведь нам известно, что именно благодаря этому своему духовно-культурному бюргерству он воспринял французскую революцию как нечто зло- веще-враждебное, что, по его словам, точило его, как болезнь, и едва не погубило его талант; и трудно ска- зать, в какой мере Гете отметил немецкое бюргерство чертами внутренней человечности, культурности, анти- политичности и в какой мере сам он, в силу этого, был выражением немецкого бюргерства. Несомненно, обе стороны здесь взаимно утверждали друг друга, ибо чувство подсказывает нам, что Гете, каким бы гражданином вселенной он ни был, или, вернее, бла- годаря этому, был бюргером в духовном смысле, не- мецким бюргером. И хотя он поставил знак равенства между человечеством и борьбой, заявив: «Человеком был я в мире, это значит — быть борцом», для него не существует человечества в борьбе за политические, революционные идеи. Ему чужд пафос освободитель-
54
ной борьбы в политико-гуманитарном плане. И по- этому он вынужден был особо подчеркивать, что он гоже боец, и притом боец за человеческую свободу: Не только Блюхеру — и мне Вы памятник отлейте, Разбил он галлов на войне, Порвал я мрака сети. Но под старость он делает признание: «Мне ни- когда не было свойственно ратовать против обще- ственных институтов: это всегда казалось мне высоко- мерием, и я, быть может, действительно слишком рано стал учтивым. Короче говоря, мне это никогда не было свойственно, и я лишь вскользь касался по- добных вещей». Он был борцом и освободителем в сфере нравственной, духовной, особенно эротической, но не в государственной и гражданской. Плачев- ной судьбой Гретхен, любовным преступлением Фауста он не обвиняет, не затрагивает какой-либо пара- граф закона, какие-либо общественные отношения, какой-либо «институт», а всего лишь как поэт бесе- дует с вечностью о судьбе человеческой. Потому-то и оказалось возможным, что этот самый поэт, будучи членом веймарского государственного совета, под смертным приговором юной детоубийце, которую сам герцог готов был помиловать, приписал, после имен других суровых господ министров: «присоединяюсь»,— факт, как было многократно отмечено до меня, по- трясающий не менее сильно, чем весь «Фауст». Француз Морис Баррес назвал «Ифигению» циви- лизующим произведением, отстаивающим права об- щества от высокомерия духа. Эти слова, пожалуй, еще больше подходят к другому его творению, про- никнутому духом самовоспитания, самоукрощения и даже самоистязания, которое столь охотно поносили за чопорность и жеманность, — к «Тассо». Своим страшным «присоединяюсь» Гете поставил свой свет- ский авторитет на защиту прав общества против того духа, освобождению которого он столь могуче содей- ствовал как поэт — апеллируя к чувству, и как пи- сатель— аналитически расширяя и углубляя познания 55
--------------------------о человеке. Он защищал. : общество в консерватив- ном смысле, заложенном уже в самом понятии за-, щиты. Нельзя быть аполитичном, можно быть только, антиполитичным, то есть консервативным, тогда как дух политики по своей сущности гуманитарно-револю- ционен. Именно это имел в виду Рихард Вагнер, за- являя: «Немец консервативен». Однако, как случилось с Вагнером и его духовными учениками, немецкое и консервативное может быть ©политизировано до на- ционализма, по отношению к которому Гете, этот немецкий гражданин вселенной, проявлял холодность, граничащую с презрением, даже тогда, когда нацио- нальное было исторически оправдано, как в 1813 году. Его ужас перед революцией был ужасом перед поли- тизацией, то есть демократизацией Европы, — процес- сом, неизбежным духовным атрибутом которого был национализм; и насколько неизменным остался харак- тер немецкого бюргерства, можно видеть по тому по- разительному, факту, что этот ужас культуры перед надвигающейся политизацией был столь же глубоко пережит ив наше время, скажем, в годы 1916—1919, причем пережит столь непосредственно, что мы сами не отдавали себе отчета в том, сколько во всем этом было' типического. Что касается Гете, то здесь, быть может, уместно одно соображение, относящееся к некоторым инди- видуально человеческим особенностям и приметам антиидеалистического миросозерцания, соображение, заводящее столь глубоко в психологически интимное и тайное, что мы ничего не можем утверждать катего- рически. Нет никакого сомнения, что идеальная вера, хоть она и должна быть готова к мученичеству, де- лает нас духовно счастливее, чем то объективное — в высоком и чисто ироническом смысле — творчество, лишенное убеждений и оценок, которое отражает, все с одинаковой любовью и равнодушием. Если присмот- реться поближе, то в Гете, как только прошла невин- ная пора его молодости, проступают черты глубокой скорби и угрюмости, неизбывной безрадостности, ко- торые, без сомнения, каким-то глубоким, жутким об- разом связаны с его безверием, его индифферент- 56
--------------------------ностью, изобличающей в нем дитя природы, с тем* что: он называет своим любительством, своим моральным дилетантизмом. Тут и своеобразная холодность, и злобность, и Злоречие, и сатанинско-брокенские на- строения, и стихийно-демоническая, чреватая всякими неожиданностями игра сил; всему этому можно от- даться всей душой, и все это приходится любить, если любишь его. Проникнув в эту сферу его существа, начинаешь понимать, что счастье и гармония — скорее удел детей духа, чем детей природы. Ясность, внут- ренняя цельность, целеустремленность, положитель- ное, исполненное веры и решимости умонастроение, короче говоря, душевное спокойствие, — все это го- раздо доступнее для первых, чем для вторых. Природа не дарует спокойствия, простоты, однозначности, она — стихия сомнительности, противоречия, отрица- ния, безграничного скепсиса. Она не оделяет добротой, ибо сама она не добра. Она не терпит решающих су- ждений, ибо она нейтральна. Она наделяет детей своих индифферентностью и неопределенностью, кото- рые более сродни муке и злобе, чем счастию и ра- дости. «Склонность Гете к отрицанию и его недоверчивая нейтральность снова резко дали себя знать», — пишет канцлер фон Мюллер. И многие современники, встре- чавшиеся с поэтом, свидетельствуют о том стихийном, темном, злобном и прямо-таки дьявольски смущаю- щем, что исходило из его существа. Сотни раз отме- чались его горечь и насмешливость, его софистический дух противоречия. «Из одного глаза глядит у него ангел, — пишет один его дорожный знакомый, — из другого — дьявол, и в каждом его слове — глубокая ирония над всеми делами человеческими». Но самое страшное, что о нем было сказано, это: «В нем есть терпимость, но нет душевной мягкости». К изумительно приятному впечатлению, которое он, как говорят, производил, всегда примешивается что-то удручающе-жуткое, и несомненно, что именно этой стороной его натуры можно объяснить то недо- умение и печаль, которые он вызывал в своем друге Шиллере. «Достойно сожаления, — пишет Шиллер
57
в 1803 году, — что Гете так обленился и ни на чем не может сосредоточиться в полную силу… Вот уже три месяца как, пребывая в добром здравии, он не выходил не только из дому, но даже из своей крм- наты… Если б Гете сохранил еще веру в возможность благого и был последователен в своих действиях, он мог бы еще многое сделать здесь, в Веймаре, многое создать и преодолеть этот злополучный застой». Вера в возможность благого! «Не следует думать, — писал кто-то о нем, — что его взгляды всегда отличались твердостью и определенностью, отнюдь нет. Но как раз это и обеспечивало ему свободу познания различ- ных вещей, так что за ним каждый раз оставалось право вернуться к ним и оценить их по-новому». Однако эта характеристика кажется слабой и эвфемистичной по сравнению с истиной, которая явствует из выска- зываний его близких и друзей и вполне соответствует тому тревожному впечатлению, которое производила его Протеева натура, скорее ироническая и эксцент- ричная, чем уравновешенно-спокойная, скорее отри- цающая, чем утверждающая, скорее юмористическая, чем веселая, способная принимать любой облик, играть ими всеми, высказывать и отстаивать самые противоположные взгляды. «В каждой его фразе,— пишет Шарлотта фон Шиллер, — заключалось противоречие, так что можно было толковать все как угодно, но при этом вы с болью чувствовали, что за всеми словами учителя стоит одна мысль: «Я сделал ставку на ничто!» Ставку на ничто! Ведь это ниги- лизм, и тогда во что же он, строго говоря, верил? В человечество он не верил, — я хочу сказать, в воз- можность его революционного очищения и освобожде- ния. «Его вечный удел — шатания и колебания, одна его часть будет страдать, другая благоденствовать; эгоизм и зависть, подобно злым демонам, никогда не перестанут вести свою игру, и борьбе партий не будет конца». Но верил ли он хотя бы в искусство, было ли оно для него, как выражаются добрые люди, священ- ным? Некоторые его высказывания свидетельствуют о противном. Не могу забыть, как глубоко потряс меня его ответ одному молодому человеку, востор-
58
женно заявившему, что он хочет жить для искусства, трудиться и страдать. Гете холодно возразил: «О стра- дании в искусстве не может быть и речи». Для натур экстатических, для одержимых поэзией у него всегда наготове ушат холодной воды. Однажды, к великому изумлению собеседника, он заметил, что стихотворе« ние само по себе ничего не стоит. «Каждое стихо- творение— поцелуй, который мы дарим миру. Но от одних поцелуев дети не рождаются». После чего умолк и не пожелал продолжать разговор. Мне невольно хочется связать с этими чертами его личности еще одну, неоднократно подмеченную и вы- зывавшую недоумение у всех, кто ее наблюдал. Это — его непреодолимая, всю жизнь ему сопутствовавшая неловкость и застенчивость в отношениях с людьми, скрывавшаяся за церемонной чопорностью, которая не могла замаскировать ее истинную сущность; надо по- лагать, она была особенно заметна в человеке при- дворном и светском. «Хотя ему, — писал один англи- чанин,— вероятно, больше чем кому-либо из европей- ских поэтов, приходилось вращаться в избранном обществе, создается впечатление, что он всякий раз несколько смущается, когда ему представляются впервые. Я готов был приписать это его недомога- нию, — он был нездоров, когда я пришел к нему, — если бы один из ближайших его друзей не сказал мне, что Гете никогда не удавалось вполне побороть в себе это чувство». Как-то раз, — речь шла о его сановно- гордой манере держаться с любопытными посетите- лями и почитателями, — Оттилия фон Гете со всей уверенностью заявила, что, сколь невероятно это зву» чит по отношению к человеку, столь видному и столь изысканно-обходительному, тем не менее остается фактом, что на самом деле Гете держит себя так от смущения, которое он старается скрыть под кажу- щимся высокомерием. В пояснение она добавила, что в действительности Гете скромен и внутренне смире- нен. Мы в этом не сомневаемся. Чем выше дух, чем он шире, тем более чуждо ему самомнение, всегда являющееся плодом ограниченности. Но ведь ему же принадлежат и слова: «Только негодники скромны»,
59
и в нем было достаточно развито чувство собствен- ного величия, собственного несравненного превосход- ства над всеми теми, с кем ему приходилось сталки- ваться. Причины подобной застенчивости коренятся глубже, она—признак того иронического нигилизма, о котором мы уже говорили, той глубочайшей сти- хийно-демонической творческой беспринципности и недостатка веры, идейного подъема, одушевлявших больного Шиллера, который безусловно не знал этой неустойчивости характера, именуемой смущением. Несомненно, что вся та ненависть, которую ему пришлось испытать, все упреки и жалобы, направлен- ные против его эгоизма, его высокомерия, его амо- ральности и «колоссальной силы торможения», были вызваны этой холодностью к идейно-политическому подъему как в его националистически-воинствующей, так и революционно-человеческой разновидностях, то есть тем, что он упорно отвергал основное направле- ние своего века — демократическую и национальную идею. За этой досадой, за этими жалобами забывали, что равнодушие Гете к политическому аспекту чело- вечества отнюдь не означало недостатка в любви — как любви к людям, ибо он сказал, что один лишь вид человеческого лица может излечить его от мелан- холии, и ему принадлежат высокогуманные слова: «Истинное познание человечества — в познании чело- века», — так и, что одно и то же, любви к будущему. Ибо человек, любовь, будущее — всеедины, это еди- ный комплекс симпатии и жизнелюбия, которые, при всей аполитичности Гете, составляли его глубочайшую сущность и определяли его понимание «жизнедостой- ного». Я как сейчас помню испытанное мною удиви- тельное впечатление парадоксальности и властной смелости, когда я, молодой человек, получивший от Шопенгауэра великое разрешение на пессимизм, впервые сознательно задержался в «Эпилоге к коло- колу» на слове «жизнедостойкый»: «Жизнедостойного настигнет смерть» — словосочетание, насколько мне известно, до Гете не существовавшее и~ созданное им самим./ Видеть в жизни высший критерий, а в том, чтобы быть достойным ее, — высшее благородство, ко- 60
--------------------------торое, если все бы шло естественным цутем, защитит тебя от уничтожения' это шло Вразрез с моим юноше- ским пониманием благородного, сводившимся, в сущ- ности, к возвышенной неприспособленности и непри- званности к земной жизни; ведь и в самом деле, это удивительное словосочетание исполнено какого-то задорного жизненного позитивизма, антипессимисти- ческого жизнеутверждения, которое в моих глазах представляет собою самую высокую и самую общую форму гражданства — жизненное гражданство, когда человек, широко расставив ноги, прочно стоит в жизни; это жизненный аристократизм любимчиков и баловней природы, которые, будучи не вовсе далеки от жестокости, пренебрежительно смотрят на «горе- мык, алчущих недостижимого». Я сказал, что этот вид аристократизма недалек от жестокости, потому что действительно есть нечто жестокое в упоре на витализм, сказывающемся в словах восьмидесятилет- него Гете о негодниках, которые слишком рано уби- раются из жизни, — он имел в виду беднягу Земме- ринга, только что умершего в возрасте семидесяти пяти лет. «Вот кого я хвалю, — воскликнул он, — так это моего друга Бентама. Он в высшей степени радикальный глупец, но отлично держится, хотя и старше меня на несколько недель!» Тут можно упо- мянуть и забавный анекдот о том, как Гете поте- шался над этим самым Бентамом, английским эконо- мистом-утилитаристом, над его радикализмом, а ему возразили: родившись в Англии, его превосходитель- ство вряд ли избегло бы радикализма и роли борца против злоупотреблений. «За кого вы меня счи- таете?— отвечает Гете. — Чтобы я стал вынюхивать злоупотребления, да еще раскрывать их и предавать огласке, я, который в Англии сам жил бы злоупо- треблениями? Ведь если б я родился в Англии, я был бы богатым герцогом или, скорее, епископом с годо- вым доходом в тридцать тысяч фунтов стерлингов». Отлично, ну а если б он вытянул не главный выигрыш, а пустой билет? Ведь пустышек куда больше! На что Гете возражает: «Не всякий, милейший, создан для главного выигрыша. Неужели вы думаете, что я имел 61
--------------------------бы глупость вытащить пустой билетГ» Вот она, уве- ренность в благосклонности жизни, жизненное гра- жданство, метафизически-аристократическое сознание, что всегда и везде он был бы в числе привилегирован- ных, всегда и везде был бы в числе высокорожденных. Не удивительно ли, что этот баловень созидатель- ных сил категорически отвергал и отметал все утвер- ждения о том, что он прожил счастливую жизнь,— утверждения как завистливые, так и восторженные. Успокойтесь, говорил он, я не был счастлив; если сло- жить вместе все радостные часы моей жизни, то их не наберется и на четыре недели. «То было вечное перекатывание камня, и его надо было поднимать вновь и вновь». И за этим следует потрясающая, по- истине всеобъясняющая фраза: «Мне, как творцу, предъявлялось слишком уж много требований как извне, так и изнутри». Итак, несчастлив, и все благо- даря огромности задач, которые ставил перед ним его •гений и осуществлению которых постоянно мешал на- зойливый свет. Каково же отношение этого гордого своей живучестью человека к здоровью и болезни? Гений, как известно, не может быть нормальным в обывательском, сугубо бюргерском смысле этого слова, так же как и благословенное природой не мо- жет быть в глазах филистера естественным, здоровым, законным. В сфере конституциональной тут всегда много нежного, легко раздражимого, склонного к кри- зису и болезни, в сфере психической — много вызы- вающего у посредственности недоумение, жутко вол- нующего, близкого к психопатологическому. Сам Гете прекрасно это знает и наставительно разъясняет это Эккерману« «То необычайное, — говорит он, — что со- здают подобные люди (читай: люди, подобные мне), предполагает весьма нежную организацию, ибо они должны быть способны на редкие переживания и раз- личать небесные голоса. Подобная организация легко оказывается расстроенной и уязвленной в конфликте с миром и его элементами, и тот, в ком с величайшей чувствительностью не сочетается крайняя выносли- вость, бывает склонен к постоянной болезненности»« И в самом деле, это сочетание чувствительности и
62
выносливости решающим образом определяет особую жизнеспособность гения. «Страданью, смерти был он обречен», — сказал Гете о своем друге Шиллере, но разве сам он, стоявший с жизнью на гораздо более дружеской ноге, не был таким же? Кровохарканье, которым он страдал в юные годы, говорит о предрас- положении к туберкулезу, и тысячи признаков вели- чайшей возбудимости, утомляемости, сугубой раздра- жительности, а также несколько случаев тяжелых заболеваний, наблюдавшихся у него вплоть до глубо- кой старости, указывают на неустойчивость этого организма, постоянно находящегося под угрозой, и свидетельствуют о том, какая цепкая духовная воля к жизни, я бы сказал, какой жизненный уклад требо- вался для того, чтобы удерживать эту натуру при ис- полнении жизненного долга и заставить ее прожить полную, канонически долголетнюю человеческую жизнь, довести ее до восьмидесяти двух лет. То не было детской игрой ни для тела, ни для души* Ты выдержал, ты оказался прав. Кто б это сделал, шеи не сломав! «Как жить в семьдесят лет тому, кто в двадцать написал ВертераЬ — воскликнул он однажды, и его жизненное гражданство ставится под сильное сомне- ние, когда позднее, в стихотворении, посвященном герою своего юношеского романа, он следующим об- разом обращается к оплакиваемой тени: Остался я, а ты своей дорогой Пошел вперед и потерял не много. Он боялся этой маленькой книжки, полной сокру шающей чувствительности, книжки, некогда открывшей миру безумное блаженство смерти, и, сознавался в старости, что один только раз перечитал ее после вы- хода в свет и с тех пор остерегался брать в руки. «Ведь там что ни слово, то зажигательная ракета, — говорит он. — Мне становится не по себе, и я боюсь вновь впасть в то патологическое состояние, которое породи« ло эту книгу». В зрелые годы он теоретически настаи- вает на том, что искусство должно давать лишь
63
здоровое и жизнеутверждающее, и порицает то, что он называет современной, злоупотребляющей искус- ством, «лазаретной поэзией»* противопоставляя ей тиртейскую, поющую не только военные песни, ■> но и •вооружающую человека мужеством для жизненных битв. Но следовал ли он этому принципу практически? Во всяком случае, не в «Вертере», и странно, что певец гармонии, тиртеиски призывающий нас жить вопреки всем невзгодам, выбирает для себя подобную тему и облекает свое самое сокровенное в судьбу современника, кончающего сумасшедшим домом и монастырем. Ведь в области морали жизненная гражданственность требует сугубой добродетели, безусловного утвержде- ния нравственного, ибо благоразумие и нравствен- ность— столпы жизни. Он же весьма не по-бюргерски отстаивает страсть, то, что люди называют «экзаль- тацией и болезненностью», он утверждает, что экзаль- тация и болезнь — также естественные состояния и что «так называемое здоровье» может заключаться лишь в равновесии противодействующих сил. Он не согласен со своим фамулусом, утверждающим, что произведения Байрона вряд ли что могут дать для воспитания чистой человечности, — его мораль будто бы слишком проблематична. «Отчего же? — возражает Гете. — Смелость, дерзость и грандиозность Бай- рона— разве все это не имеет воспитательного зна- чения? Нельзя искать воспитательное только в безус- ловно чистом и нравственном. Все великое воспиты- вает нас, как только мы познаем его!» На мой взгляд, это сказано отнюдь не по-бюргерски, и, быть может, самая небюргерская фраза, когда-либо слетевшая с его уст, гласит: «Французы педанты, ибо они ско- ваны формой». Прислушайтесь к этому хорошенько! В этом своеобразном принижении формы через слово «педанты» заложено утверждение хаотического, тяго- тение к смерти, которое именно французы постоянно ставили в упрек немецкой натуре. Жорж Клемансо, чья политическая вражда ко всему немецкому нахо- дила продолжение и в духовной сфере, обладая всем психологическим чутьем своей расы, сказал: «Немцы любят смерть. Посмотрите на их литературу, в сущ-
64
ности они только ее; и любят». Приведенное мною из- речение Гете — сугубо немецкое и в то же время су- губо небюргерское. Несмотря на все это, по-видимому, достаточно быть художником, творцом, каким был Гете, чтобы любить жизнь и хранить ей верность. Его жизнелюбие сказывается прежде всего в том, что, несмотря на от- рицание политики и связанный с этим охранительский образ мыслей, в нем не заметно ни малейшего следа реакционности. Многогранность его натуры, ее бес- конечный дилетантизм давали и дают повод апеллиро- вать к его авторитету, использовать его имя в инте- ресах самых различных идеологий; невозможно лишь одно: поставить его на службу какой бы то ни было духовной реакции. Он не был «князем полуночи», Меттернихом, который насиловал жизнь из гнусного страха перед будущим. Он любил порядок, но считал, что служить ему должны разум и свет, а не глупость и темнота. «Мелкие людишки, — говорит он в «Виль- гельме Мейстере», — больше всего на свете страшатся разума; понимай они, что действительно страшно, они боялись бы глупости. Но разум им мешает, и его надо устранить; глупость же только губительна, а когда еще гибель наступит». Мало известен или охотно пре- дается забвению тот факт, что в 1794 году, когда ба- рон фон Гагерн выпустил воззвание, в котором призы- вал немецкую интеллигенцию и в особенности Гете отдать свое перо служению «благому», то есть кон- сервативному, делу, а по существу — служению но- вому союзу немецких князей, предназначенному спасти страну от анархии, — что тогда так называе- мый княжеский холоп, вежливо поблагодарив за ока- занное доверие, заявил, что считает невозможным объединить князей и писателей для совместной дея- тельности. Он ежечасно давал отпор реакционерам в искусстве и всяческим мракобесам и осуждал по- лучивший в то время широкое распространение ар- хаизирующий стиль в живописи. Он — борец за все свободное и сильное в искусстве, он восторгается Мольером за то, что тот бичевал пороки, рисуя людей такими, какие они есть, и он охотно запретил бы
65
молодым девушкам посещать театры, чтобы на сцене без стеснения можно было показывать жизнь так, как ее и следует показывать вполне взрослым мужчинам и женщинам. То, что, несмотря на все нападки, которым он под- вергался и гнусность которых сейчас трудно себе представить, он обращался ко всей нации как пи- сатель национальный, в более поздние годы, есте- ственно, составило основу его самосознания, — само- сознания, не даваемого от рождения ни одной челове- ческой душе, но с которым творческая личность постепенно свыкается, как с судьбой. Отпрыск бюр- герского семейства, мальчиком сидевший когда-то за столом с рисовальными или письменными принадлеж- ностями у себя в мансарде, на Хиршграбене, во Франкфурте, достигнув семидесяти лет, делает челове- чески трогательное признание, что «ему трудно было научиться величию», — величию, состоящему в том, чтобы в межнациональном, эпохальном видеть достой- ный объект своей деятельности. Но не только этому научился он. Стремление охватить весь мир, понятное в писателе, чей творческий путь начался со столь многознаменательного успеха, как «Вертер», другими словами, убеждение, что поэзия — всеобщее достояние человечества и что именно для нас, немцев, важно выйти из узкого круга собственной ограниченности, чтобы не впасть в педантичное чванство, индиви- дуальное и национальное, все усиливается в нем к старости. «Вместо того чтобы замыкаться в себе,— учит он, — немец должен принять в себя весь мир, чтобы воздействовать на мир… Вот почему, — доба-. вляет он, — я охотно вникаю в жизнь и культуру чу- жих народов и каждому советую делать то же самое. Национальная литература теперь немногого стоит, близится эпоха мировой литературы, и каждый дол- жен содействовать ее скорейшему приходу». Он впер- вые произносит это слово — мировая литература, и оно звучит у него наполовину как факт, наполовину как требование, предъявляемое будущему. Разумеется, мировая литература для него не просто мертвый итог всей письменно зафиксированной духовной жизни
66
человечества, но та вершина, тот цвет письменности, к которому давно уже принадлежало его собствен- ное творчество и который повсюду, где бы он ни рас- цвел, рассматривается и признается как достояние всего человечества благодаря своей всеобщей значи- мости, причем это подкрепляется сознанием, что на- стала пора, когда только всемирно достойное стоит на повестке дня и заслуживает внимания, а все, что имело значение лишь в собственной сфере возникно- вения, отжило свой век. И действительно, все, что со- здавал он сам, уже при его жизни воспринималось и признавалось как мировая литература, причем не только те его творения, которые возникли под влия- нием средиземноморской культуры и отмечены печатью гуманистически-классического духа, но и типично се- веронемецкие, такие, как первая часть «Фауста» и воспитательный роман «Вильгельм Мейстер», Великий старец имеет удовольствие получить от шотландца Томаса Карлейля английский перевод этой книги с письмом, полным детски-глубокой любви и пре- данности. Он перелистывает французское издание «Фауста», украшенное рисунками Эжена Делакруа. В журналах Эдинбурга, Парижа и Москвы он читает торжественные рецензии на недавно опубликованный эпизод с Еленой из второй части трагедии; и здесь вполне уместно говорить об удовлетворении, ибо ми- ровой резонанс, который имело его творчество, дол- жен был послужить ему вознаграждением за ту злоб- ную недооценку его труда, в которой не было недо- статка у него на родине. «Ни одна нация, — говорит он,—не имеет права судить о том, что совершается и пишется у нее. Это верно и в отношении каждой эпохи»« Один остроумный француз выразил ту же мысль более лаконично: «L'étranger, cette postérité contemporaine» l, Несомненно, утверждая понятие мировой литера- туры, Гете во многом предвосхищал будущее, и после его смерти понадобилось еще десять десятилетий, сопровождавшихся развитием путей сообщения, 1 Заграница, это прижизненное потомство (франц.).
67
бурным ростом взаимного обмена и тесным сближе- нием европейских стран, да и всего мира, скорее под- хлестнутым/нежели задержанным мировой войной; чтобы наконец-то осуществилось то, что казалось Гете столь близким, и осуществилось в такой степени, что в наши дни налицо серьезная опасность смешения всемирно достойного, всемирно значительного с все1 мирно ходовым, то есть с низкопробным интернацио- нальным потребительским товаром, и это обстоятель- ство охотно используется провинциалами духа для националистической дискредитации всемирно признан- ных культурных достижений; они умышленно валят в одну кучу истинно великое и дешево-сенсационное, думая таким образом опорочить наднациональное, а заодно и узконациональное и межнациональное. Во времена Гете это было совершенно невозможно или почти невозможно. И уж, во всяком случае, никогда нельзя было доказать, что почести, которые воздава- лись ему за границей, следует приписать исключитель- но чуждости его творчества всему истинно немецкому. Обращает внимание бюргерски-надбюргерский ха- рактер его тяготения к великому и общемировому, — характер, особенно ярко проявляющийся в определе- ниях, которые Гете дает этому стремлению выйти за пределы своего «я». Он говорит о «свободной торговле понятиями и чувствами», — характерное пере- несение либерально-экономических принципов в сферу духовной жизни. Но это самоосвобождение и экспан- сия имеют место не только в пространстве, но и во времени: «в далеких эпохах», говорит Гете, искал он достойный материал для творчества. Он гражданин не одного только своего века. До сих пор мы говорили о том, что связывало и роднило его с прошлым. Сейчас мы хотим показать его принадлежность настоящему и будущему, его устремленность к нам и в грядущие времена, причем символичны для этой устремленности встречи вели- кого жизнелюбца с Артуром Шопенгауэром. Как-то раз, уже в -преклонном возрасте, Гете, мальчиком видевший Моцарта, прибыв на званый вечер, прямо подходит, ни на кого не глядя, к молодому философу, 68
--------------------------чью докторскую работу р четверояком корне законд дрстаточ-нрго основания рн недавно прочел, и поздра- вляет его с этим замечательным творением. В своей руке он держит руку того, кто уже пишет «Мир как воля и представление», — катехизис европейского пес- симизма второй половины высоко-бюргерского девят- надцатого столетия, оказавший столь решающее влия- ние на Вагнера, с одной стороны, и Ницше — с другой. Это — изумительный случай в истории духа. Гете, Шопенгауэр, Вагнер, Ницше —вот они, немеркнущие звезды на небе нашей юности, Германия и вместе с тем Европа, наше происхождение, которым мы горг димся, ибо всякое происхождение, всякое сознание духовного происхождения аристократично. «Худож- ник должен иметь происхождение, должен знать, от- куда он взялся», — сказал Гете. Мы питомцы великого отечественного мира, бюргерского духовного мира, который в то же время, именно как духовный мир, имеет надбюргерский характер и. благодаря Ницше, ученику Гете, является преддверием новых, после- бюргерских, еще безыменных миров будущего. Бюр- герское обладает некоей духовной трансцендент- ностью, в силу которой оно изживает самое себя и приобретает новую сущность. Слова Гете: Цвет просвещеиья — разве он Не духом бюргерства рожден? — и посейчас сохраняют более глубокий смысл, нежели тот, который присущ столь старомодно звучащему в наши дни слову «просвещение». Я спрашивал и спрашиваю еще раз: чем рождены великие освобо- дительные подвиги раскрепощения духа, если не бюр- герством? Воля и призвание к высшему акту дебюр- геризации, к крайне опасным авантюрам дерзающей мысли — вот та отпускная грамота, которую сам дух вручает бюргеру. А тот сын и внук протестантского священства, в котором романтика XIX века преодо- лела самое .себя и чья жертвенная смерть на кресте мысли иойржила начало несказанно новому, сам Фридрих Ницше,— куда же уходят его корни, если не в почву бюргерского гуманизма, И подобное же 69
--------------------------самопреодоление бюргерства силой духа мы находим в романе Гете поры его старости —в «Годах стран- ствий». Действительным содержанием этой книги является самопреодоление индивидуалистического гуманизма и ясновидчески смелый отход от него ради человеческих и воспитательных принципов и волевых импульсов, которые характерны, собственно говоря, лишь для нашего времени и лишь в наши дни овладели обще- ственным сознанием. В ней сверкают зарницы идей, далеких от всего, что подразумевается под бюргер- ским гуманизмом, далеких от классического и бюр- герского понятия культуры, формированию и утвер- ждению которого, в первую очередь, способствовал сам Гете. Идеал всестороннего развития личности отбрасывается, провозглашается век односторонно- стей. Нам демонстрируется ограниченность индиви- дуума, господствующая в наши дни; лишь все люди в совокупности являются носителями человечности, личность становится функцией, выдвигается понятие общинности, коммунности; и иезуитски-милитарист- ский дух «педагогической провинции», хотя и поэти- чески приукрашенный, по сути дела не оставляет камня на камне от бюргерского идеала — «либера- лизма» и индивидуализма. Этот пророчески смелый загляд престарелого Гете в новый, послебуржуазный мир, был столь же заме- чателен, столь же величествен, сколь и его все воз- растающий интерес к утопически грандиозным про- блемам технического прогресса, его восторженное от- ношение к таким проектам, как прорытие Панамского перешейка, о чем он говорит столь проникновенно и обстоятельно, словно для него это дороже всякой поэзии, как оно, в конце концов, и было. Та радость и надежды, которые вызывал у него технический про- гресс цивилизации и все, что было направлено на раз- витие мировых путей сообщения, не должны удивлять нас в творце Фауста, который обретает величайшее счастье бытия в осуществлении своей утилитаристи- ческой мечты, в осушении болот, — своеобразный вы- зов одностороннему эстетски-философскому направлен 70
--------------------------нию эпохи. Гете не устает вникать в различные проекты соединения Мексиканского залива с Тихим океаном, не устает восхищаться неисчислимыми бла- гами, которые подобное предприятие принесет всему цивилизованному и нецивилизованному человечеству. Он советует Соединенным Штатам Америки взять это дело в свои руки и фантазирует о процветающих тор- говых городах, которые со временем вырастут на Тихоокеанском побережье, где природа заранее озабо- тилась созданием обширных гаваней. С нетерпением ожидал он, пока сбудется эта мечта человечества* — эта и другая — прорытие канала между Дунаем и Рейном, которому предстояло стать титаническим предприятием, переросшим все предварительные планы; и, наконец, третье, наиболее грандиозное: по- стройка Суэцкого канала для англичан. «Чтобы уви- деть все это,— восклицает он, — право, стоило бы про- тянуть еще лет пятьдесят». Он стремился охватить взором весь земной шар, его взгляд не был прикован к одной своей стране, его радость перед будущим не знала национальных границ, ей нужны были миро- вые просторы, и улучшение жизни, счастье или горе чужого народа он принимал так же близко к сердцу, как и судьбу своего собственного. То был империа- лизм любви, империализм высоко вознесшегося духа, который свободу отождествлял с величием и, исходя из этого, возвещал эпоху «мировой литературы». Благодаря технико-рационалистическому .утопизму бюргерское принимает всемирно-общественный, можно сказать, если понимать это слово достаточно широко и не догматически, — коммунистический характер. Это пафос трезвый. Но в наши дни и требуется коренным образом отрезвить мир, погибающий от атрофии ду- шевности, парализующей жизнь. Кто сказал, что сле- довало бы запретить немцам в течение пятидесяти лет произносить слово «настроение»? Бюргер пропа- дет, погибнет для нового, рождающегося мира, если не сумеет отрешиться от губительного душевного ком- форта, от враждебной жизни идеологии, во власти ко- торой он еще находится, и мужественно принять бу- дущее. Новый мир, социально упорядоченный единым 71
--------------------------планам, который освободит человечество от унизи- тельных, ненужных, оскорбляющих достоинство ра- зума страданий, — этот мир придет, и он явится пло- дом того великого отрезвления, к которому уже те- перь стремятся все заслуживающие внимания умы, которым претит прогнившая мелкобуржуазная душев- ность эпохи. Он придет, ибо должен быть создан, или', в худшем случае, введен путем насильственного пере- ворота разумный внешний миропорядок, соответ- ствующий ступени, достигнутой человеческой мыслью, для того чтобы душевное вновь могло получить право на жизнь и человечески чистую совесть. Великие сыны бюргерства, духовно переросшие его, — вот свидетель- ство того, что в бюргерстве заложены неограниченные возможности, возможности беспредельного самоосво- бождения и самопреодоления. Эпоха призывает бюр- герство вспомнить об этих прирожденных возможно- стях, духовно и нравственно решиться использовать их. Право на власть оправдывается той исторической миссией, которой облечен, или считает себя облечен- ным, ее носитель. Кто отказывается взять на себя эту миссию или не справляется с нею, тот должен бу- дет погибнуть, отступить, освободить место человеку нового типа, свободному от предрассудков, ограни- ченности и эмоциональных оков прошлого, которые, как ни прискорбно иной раз это отмечать, делают европейскую буржуазию неспособной к государ- ственно-экономическому переходу в новый мир. Не подлежит сомнению, что кредит, еще оказываемый историей буржуазной республике, этот весьма кратко- срочный кредит зиждется на остатках веры в то, что демократия тоже способна на то, на что претендуют ее рвущиеся к власти враги, а именно — взять на себя осуществление этого перехода в новое будущее. Бюр- герство должно показать себя достойным своих ве- ликих сынов, не только помпезно кичась ими. Вели- чайший из них, Гете, взывает к нему: Отбросьте мертвый хлам веков, Возрадуйтесь живому!
1932
ПУТЬ ГЕТЕ КАК ПИСАТЕЛЯ
Наступило 22 марта 1832 года. Сидя в своем кресле, сл*еплым одеялом на коленях, с. зеленым ко- зырьком над глазами, Гете умирал. Муки и страхи, часто предшествующие смерти, остались позади; он не страдал: он уже отстрадал, и когда на его вопрос, какое сегодня число, ему ответили: «Двадцать второе марта», — он заметил, что весна началась и можно будет надеяться на скорую поправку. Затем он под- нял руку и стал чертить в воздухе какие-то знаки. Пальцы его двигались слева направо, — он в самом деле писал строку за строкой, и рука его опускалась все ниже, — несомненно, не только потому, что выше уже не было места для этого незримого письма, но и от слабости. Под конец она легла на одеяло и про- должала писать на нем. Казалось, умирающий много- кратно повторял одно и то же, тщательно расставлял знаки препинания, и порою, казалось, можно было различить то одну, то другую букву. Затем пальцы начали синеть, остановились, и когда сняли козырек с его глаз, взгляд их уже померк. Умирая, Гете писал. Отуманенный последними смутными грезами, он делал то, что делал всю жизнь, либо собственной рукой, своим красивым, четким, опрятным почерком, либо диктуя: он фиксировал, он вершил свой труд, претворявший вещественное в ду- ховное и вещественно закреплявший рожденное ду- хом; он хотел увековечить рунами письма свои по- следние мысли и чувства, быть может, казавшиеся ему высшим, требующим обнародования откровением, хотя, возможно, они были всего-навсего следствием навевающей грезы слабости; до самого конца стре- мился он вознести то, что теснилось у него в груди,
73
в творческую сферу своего духа. Он был писателем, даже теперь, как он был им прежде, в то мгновение своей жизни, когда, весь в сладостном плену своего сильнейшего инстинкта, своей глубочайшей склонно- сти, воскликнул: «В сущности, я родился писателем. Самую чистую радость я испытываю, написав что- нибудь, по моему мнению, хорошее». Таким был он и в те закатные утренние часы, когда, после краткого старческого сна, отвоевывал у своего достойно обес- кровленного мозга последние звуки сфер «Фауста» — каждый день по нескольку строк на четверть страни- цы, а то и меньше — и своим «Склони, склони, о не- сравненная» связал конец своей жизни с ее началом. Писатель… Уважаемые дамы и господа! Нази- дательски проводить различие между поэзией и писа- тельством — весьма бесплодная критическая мания, бесплодная и, более того, неосуществимая, ибо гра- ница между ними проходит не вовне, не в сфере их проявления, но внутри самой личности, и даже здесь текуча до неопределимости. Поэтических прожилок в писательском, писательских в поэтическом так много, что разделение их было бы капризом, противо- речащим действительности, порожденным желанием превозносить бессознательное, предшествующее ду- ховному, то, что воспринимается как собственно ге- ниальное, за счет всего, идущего от разума, и тем самым походя принизить последний. Необъятность ума Гете, которой удивляется Эмерсон, обсуждая эпизод с Еленой из второй части «Фауста», решитель- ным образом посрамляет подобные поползновения* «Самое поразительное здесь, — говорит он, — это мо- гучий интеллект« Ум этого человека —< столь сильный растворитель, что все минувшие эпохи и современ- ность, их религия, политика и мировоззрение претво-. ряются в нем в прообразы и идеи». Абсолютно неинтеллектуального поэта —этой фантазии некоей романтической фетишизации при- роды. — не существует; самое понятие поэта* который соединял бы в себе природу и дух, противоречит его сущности; и разве мог бы лишенный интеллекта со- зидатель остаться таковым в возрасте^ когда при-
74
рода уже не приходит на помощь творческому акту, или приходит в меньшей мере, нежели во всемогущую пору юности, и когда, говоря словами Гете, ее место должны занять целеустремленность и характер? Со- всем иначе обстоит дело с наивностью, непосредствен- ностью/этой неизбежной предпосылкой всякого твор- чества. Однако едва ли стоит говорить, — и Гете — замечательный тому пример,—что чистейшая наив- ность и мощнейший разум могут идти рука об руку. Эмерсон называл Шекспира величайшим поэтом, Гете же, олицетворяющего собою всю поэтическую славу нашего народа, величайшим писателем. «Кто действительно познал историю, — писал Гете в шесть- десят шесть лет, — тому на тысяче примеров ясно, что одухотворение плотского, как и воплощение ду- ховного, не прекращалось ни на одно мгновение, но всегда пульсировало среди пророков, священнослужи- телей, поэтов, ораторов, художников и мастеров искус- ства; поочередно это происходило всегда, а часто одновременно». Часто одновременно. Это — подтвер- ждение совместимости писательского и поэтического бытия, взаимопроникновения духа и формы, критики и пластики. Итак, я отнюдь не намерен отделять того Гете, из юношеского ритма крови которого родились бессмерт- ные песни любви и который в старости вещал орфи- чески, от искусного аналитика и психолога, писателя- романиста, автора «Годов учения» и «Годов стран- ствий», а также самого смелого и глубокого романа о прелюбодеянии, созданного моральной культурой Запада — «Избирательного сродства». Говоря о Гете- писателе и о его пути как писателя, я применяю это слово лишь как общеупотребительное, обывательское обозначение для земной формы бытия поэта, как обы- денное и спокойно-деловое выражение, вместо более выспреннего, с его суровой мечтательностью. Ведь Гете жил во плоти и крови, он был человеком, бюрге- ром, и был писателем. Так судила судьба — он стал писателем, неизбежно и неотвратимо, и не только примирился с этим жребием, но любил и принимал его и, несмотря на то что ему довелось на себе испытать
75
все ; невзгоды, выпадающие на долк> писательского сословия* причислял себя к нему охотно и радостно. ; Странный, незавидный удел, —едва ли кто-либо станет отрицать это, — и Гете порою склонен был усматривать в нем своего рода проклятие, болезнь. «Писательство — неизлечимый недуг, — писал он уже на склоне лет, в 1820 году, — поэтому правильнее всего просто покориться ему». И он внушал себе и другим, что человек, в сущности, призван лишь к тому, чтобы действовать в настоящем. «Писать — это зна- чит злоупотреблять языком, — ополчается он на лите- ратуру,— чтение про себя — жалкий суррогат речи. Все влияние, которое человек способен оказать на человека, осуществляется через его личность». Но разве эта истина не сохраняет свою силу и в сфере духовного? Как явствует из его высказываний, Гете отлично понимал, что основу художественного воздей- ствия любого произведения составляют личность и характер автора, что они и только они становятся достоянием культуры. «Чтобы что-то создать, надо чем-то быть». Такова его лапидарная формула орга- нической тайны творчества, и в таком случае мы имеем дело не с «жалким суррогатом», а с личным воздействием более высокого порядка. Что же ка- сается чтения, то, например, бурный, исчисляемый буквально днями рост Шиллера он объясняет исклю- чительно его жадной восприимчивостью, его стра- стным книгочийством, да и сам Гете читал так много, что была составлена толстая книга, — перечень тех печатных трудов, которые он брал из веймарской библиотеки. Его продуктивность в значительной мере зависит от его способности, его гениального умения восхищаться, которое проявляется, например, в его беседе с Эккерманом относительно великого итальянца Мандзони. Восхищение — один из основных стимулов его творчества. Это оно, при знакомстве с элегиями Проперция, вызывает в нем желание. создать нечто подобное, и он признает, что всегда испытывает при чтении подобное чувство, и внушает всем художни- кам,, что необходимо постоянное общение с перво- классным и мастерским для того, чтобы удержаться 76
--------------------------на высоте и не «опуститься». Отсюда следует, что и он, великий, сознавал эту опасность. Здесь сказы*- вается скромность, целеустремленность, желание учиться, постоянно что-то усваивать и даже подра- жать, не только не знающее страха самоутраты, но, напротив, беззаботно доверяющееся силам ассимиля- ции, которые имеются в виду в следующих стихах: Тот лишь, кого удостоил аллах, Питает для жизни себя и растит. Гете насмешливо-критически относится к литера- турной жизни, заявляя: «Вся писательская и рецен- зентская деятельность в конечном счете подобна ба- снословной битве духов, где бескостные герои дерутся между собой для собственного удовольствия, и ПОТОМ; немедля восстановленные, снова садятся за стол с от- цом Одином». Но тем более радостно восхваляет он в другой раз этот самый литературный мир, на чьи гротескные стороны он отнюдь не закрывал глаза. «Его своеобразие состоит в том, — говорит Гете,— что в нем ничто не рушится без того, чтобы не воз1 никло что-нибудь новое, притом новое того же рода. Поэтому в нем сохраняется вечная жизнь, он всегда одновременно старец, мужчина, юноша и дитя, и бла- годаря тому, что, если не все, то, во всяком случае, большая его часть сохраняется и в разрушении, с ним не может сравниться никакое другое состояние. Этим объясняется и то, что все живущие в нем познают такое блаженство и самоудовлетворение, о которых за пределами его не имеют никакого понятия». Мало найдется писателей, которые вне сферы творче- ства, во время передышек, превозносили бы свой жребий, счастье своего призвания столь же горячо, как превозносил его Гете. «Как хорошо, когда пре^ красный дух человеческий может выразить то, что от- ражается в нем!» — говорит он в тридцать три года, но еще более красноречивое признание, набросанное на листке почтовой бумаги, он сделал уже двадцати четырех лет от роду, это — определение творчества и в то же время раннее выражение его писательского пафоса и гения: «То, что является началом и концом 77
--------------------------всякого писательства = воспроизведение мира вокруг меня через мир внутренний, который все охватывает, связует, пересоздает, лепит и преподносит в новой, своеобразной форме и манере, — это, благодарение богу, навсегда останется тайной, которую и я не на- мерен открывать зевакам и болтунам». Но воспроизведение мира через мир внутренний в новой, своеобразной манере никогда не бывает вполне угодно миру, как бы прелестна и очарова- тельна ни была эта манера. В ней, в этой манере, проявляется известная оппозиционность, присущая писателю как таковому, оппозиция человека Интела лектуального против косной, вздорно-дурной челове- ческой натуры, во все времена составлявшая судьбу поэта-писателя и в значительной мере определявшая его жизнеощущение. «С высоты разума, — писал Гете, — вся жизнь представляется злым недугом, а мир — сумасшедшим домом». Это — подлинное пи- сательское слово, слово боли и нетерпения по отноше- нию к миру людей, и подобных высказываний у Гете больше, чем принято думать, — высказываний о «сбро- де людском» вообще и его «дорогих немцах» в ча- стности, типичных для той специфической раздражи- тельности и тяги к уединению, которые я здесь имею в виду. Ибо какие принципы определяют существо поэта, писателя? Мысль и форма — то и другое сразу и одновременно. Своеобразие здесь состоит в том, что обе они составляют для него органическое единство, в котором одно обусловливает, подразумевает, утвер- ждает другое. Это единство для него — интеллект, красота, свобода, всё« Где его нет, там царит глу- пость, — повседневная человеческая глупость, которая проявляется одновременно как бесформенность и как безмыслие, и он сам не мог бы сказать, что больше действует ему на нервы—то или другое. Низостию мучимый, Не томись, не сетуй; С силою могучею Не поспоришь этой« Повторяю: свидетельств подобных терзаний, вы- зываемых низостью и глупостью, в творчестве Гете
78
больше, чем это желают признавать, и больше, чем было бы пристойно цитировать, поскольку мы знаем, а на примере Гете видим особенно ясно, какие силь- ные коррективы в сторону примирения и компромисса могут внести сюда именно пристойность и доброже- лательность к людям, или, если воспользоваться бо- лее сильным и теплым словом, — любовь. Гете знал, как мало значат дух и искусство без любви, знал, что без нее они — ничто и что дух не уживается с миром, а мир с духом, если нет в нем любви. Она про- является в снисходительности, в нежности, в доброте, в чисто гетевской бережности по отношению к чело- веку, которую он выразил в одной беседе с Эккерма- ном, сказав: «Если бы культура и высокое образова- ние могли стать общим достоянием, то поэту была бы благодать: он мог бы быть всегда вполне правдивым, и ему не нужно было бы бояться высказывать самое лучшее. В действительности же ему приходится все время придерживаться определенного уровня; он должен помнить, что его творения попадут в руки смешанной среды, и у него есть основание остере- гаться, дабы не рассердить большинства добрых лю- дей чрезмерной откровенностью». Так говорит при- миряющий голос любви, уступчивости по отношению к простому, но никак не плохому. Эта благожелатель- ность сказывается и в заключительных словах «Изби- рательного сродства», в этом слове утешения, посвя- щенном любящей чете, соединившейся в смерти: «И как радостна будет минута, когда они снова про- снутся вместе». Поистине это сказано необыкно- венно мягко, сочувственно и безответственно-витие- вато, ибо, как ученик Аристотеля, с его идеей непре- станного существования мощной энтелехии, Гете едва ли верил в индивидуально-плотское воскресение. Это некоторая поэтическая вольность, вежливая ма- нера выражаться, примирительно-наивная, но, в сущ- ности, отнюдь не бесчестная; ведь мог же он в ста- рости сказать и про себя, со слезами на глазах: «Там, наверху, все мы встретимся снова». Однако мне хочется обратить ваше внимание на одну идею, одну тенденцию, в которой преимуще- 79
--------------------------стйейно и выражается любовь духа к жизни,.— на идею воспитания. Гете был педагогом до мозга кот стей. Об этом свидетельствуют оба великих памят- ника его жизни— «Фауст» и «Вильгельм Мейстер». На примере «Вильгельма Мейстера» особенно ярко видно, как сугубо автобиографическая, исповеднически- самообразовательная тенденция объективизируется, обращается вовне к социальному и даже государ- ственному, становится воспитательной. Однако эта тяга, это призвание к педагогике проистекают не из личной гармонии, а из личной проблематики, дис- гармонии, противоречивости, из осознанного разлада с самим собой. Воспитательское начало поэта-писа- теля следует определить как осознанную противоре- чивость, как необыденность, которая тем не менее призвана быть представителем и выразителем обще- человеческого. «Истинная символика, — говорит Ге- те, — это когда особенное служит представителем всеобщего». Но не в этом ли и состоит символичность поэтического «я», которому достаточно вполне выра- зить себя, чтобы развязать язык всеобщему, — выра- зить себя непреднамеренно, без всякой задней мысли, без претензии на всеобщее признание, всего-навсего как некое «я», со всей прелестью и ограниченностью личного, неожиданно вырастающего в нечто очень значительное? Счастье истинного творчества и заклю- чается, главным образом, в этом предстательстве, ненамеренном и неосознанном ратовании за многих, причем личная судьба художника не обязательно должна быть похожей на судьбу многих, то есть сред- ней, нормальной. Напротив того, она может и* пожа- луй, должна быть очень необычной, исполненной стра- даний, даже болезненной. Как исключительна была жизнь Руссо, и тем не менее как полно выразил он свою эпоху, утоляя ее страстную тоску своим творче- ством, волнуя мир своею исповедью! Он, которого уж никак не назовешь любимцем богов, оказал решаю- щее влияние на их юного сына Гете, ибо все свои воспитательные тенденции, и даже самую идею вос- питания, Гете заимствовал у него. И когда в «Изби- рательном сродстве» Оттилия говорит: «Я этого не
80
скрываю: я считаю для себя счастливым жребием воспитывать других по-обычному, тогда как мы сами были воспитаны необычно», — она высказы- вается совершенно в духе Руссо и вместе с тем в духе Гете. Писатель, если можно так выразиться, есть тот педагог, который сам был воспитан необычным пу- тем, и воспитание всегда идет у него рука об руку с борьбою с самим собой; это — взаимопроникновение внутреннего и внешнего, борьба одновременно со своим «я» и с миром. Чистое объективное воспита- тельство, молчаливой предпосылкой которого яв- ляется собственное совершенство,— пустое педантство. И насколько патриотичнее эта борьба с более широ- ким «я», — с нацией, это настаивание на самоиспра- влении, самообуздании, налагаемом на самого себя, эта педагогическая солидарность с окружающим ми- ром, с народом, — солидарность, которая естествен- ным образом часто принимает форму некоторой от- чужденности, критической холодности и строгости, как нам хорошо известно из высказываний и сужде- ний всех великих немцев, в особенности Гете и Ниц- ше,— насколько патриотичнее все это, чем крикливое личное и национальное самоутверждение урапат- риотов!.. Воспитательные и морализирующие тенденции Гете особенно сказываются в его склонности к сентен- циозности, к морально-психологическим aperçus !, ко- торые нередко встречаются в его прозе, а также — в стилизованной под античность форме в классиче- ских драмах. Сентенция, замечание морального и общественного характера, является одной из тех «пи- сательских» прослоек в поэзии, которые не дают воз- можности доктринерски отделять поэзию от писатель- ства. Ведь с помощью подобных aperçus выполняется гуманитарная задача, человеческое задание, которое ставится поэту в его качестве писателя. В сентенциях почти никогда не высказывается что-либо действи- тельно новое и ошеломляющее. «Новые открытия,— говорит Гете, — могут и будут совершаться, но по 1 Здесь — остроумные замечания (франц.).
81
отношению к человеку как существу нравственному нельзя придумать ничего нового. Все уже продумано, все сказано, и мы можем в лучшем случае передать это в других формах и выражениях». Таким образом, задача состоит в окончательном оформлении знаний о человеке. Благодаря поэту человечество находит словесное выражение своему опыту и увековечивает его. Быть может, красота как явление человеческое нигде не выступает в столь ясной и достойной прекло- нения форме, как в поэтическом aperçu, в сентенции, «Нам присуще, — пишет Гете, — неуклонное, ежеднев- но возобновляемое, глубоко искреннее стремление слить слово как можно более метко и непосред- ственно с прочувствованным, виденным, продуман- ным, испытанным, сфантазированным, разумным». Пожалуй, в этих его словах выразительнее, чем где- либо, сказалась его писательская страсть, владевшее им всю жизнь стремление к прекрасной точности; и здесь напрашивается разграничение между точностью критической и пластической. Последняя была уделом Гете и всегда присуща писателю-поэту. Даже абстракция у него по существу пластична. Бывает точность критически острая и резкая, — его точность не такова. Она скорее адекватна сущности вещей, она пластична. Заказ красоты не относится к абстракт- ному познанию; собственно отвлеченное, чисто мысли- тельное не связано с формой и не стремится к ней. Художник,— поэт и писатель,— чувственным образом связан с идеей человеческого достоинства в силу при- сущей ему потребности придавать опыту обаятельно- чистую, достойную форму. Его бытие зиждется на особом, чреватом многими опасностями сочетании чувственности и достоинства. Жреческое в нем, иду- щее от его положения среди людей, постоянно всту- пает в конфликт с распущенностью, свойственной чувственности. От посредственности он отличается тем, что в нем усилены два начала: сексуальное и ду- ховное, и оба они с внутренней неизбежностью, тай- ным либо явным образом, делают из него революцио- нера, превращают его в движущую, будоражащую и даже подрывную, увлекающую в будущее силу.
82
«В каждом художнике,— говорит Гете,— заложен за- родыш дерзновения, без которого талант немыслим». Источник этого дерзновения — в его особом отноше- нии к тем двум факторам, о которых я говорил и кото- рые являются сильнейшими жизненными стимулами вольной разновидности человека, именуемой худож- ником. И Гете в этом смысле отнюдь не составляет исключения. «Ибо жизнь — любви творенье, жизнью- жизни правит дух». Все его творения, вплоть до са- мых последних и величайших, отмечены печатью мо- рально-сексуальной смелости, революционности в сфере чувственности; но наиболее ярко, конечно, проявляются они в юности — в «Стелле», быть может, отчетливее всего. Финал этой пьесы, слова: «Мы — твои», обращенные двумя женщинами к любящему мужчине, часто характеризовались как абсурдные и гротескные, едва ли возможные в действительности. Тягостность и невыносимость подобной ситуации ста- новится очевидной, если ее реализовать, но тем не менее мы должны лишь приветствовать все челове- чески-смелое и освобождающее, и если в данном слу- чае мы так и поступаем, — ибо речь-то идет о Гете! — то следует и всегда принципиально разрешать поэту дерзновение. Ведь если даже оно и имеет видимость опасной ниспровержительнои аморальности, все же в основном оно оправдано и необходимо. В против- ном случае к чему устраивать памятные торжества в честь поэта, если бы они не пошли на благо поэзии вообще, не способствовали установлению терпимого к ней отношения, понимания ее особого достоинства? Сострадательно-мятежное сетование Гете о судьбе Гретхен, это своего рода обвинение, звучит сквозь века, хотя оно никоим образом не направлено против человеческих установлений. Не в его привычках было бороться с ними, и он предпочитал «лишь вскользь касаться подобных вещей», что, однако, отнюдь не противоречит его словам: Не только Блюхеру — и мне Вы памятник отлейте, Разбил он галлов на войне, Порвал я мрака сети.
83
Как всякий поэт и писатель, он был эмансипато- ром чувств и аналитически углубленным знатоком че- ловеческой души, порою даже вопреки своим собствен- ным консервативным установкам. Так, «Избиратель- ное сродство» оказывало и будет оказывать действие, в высшей степени противоположное его общественно- моральной тенденции. Гете не раз приходилось отво- дить от себя упрек в безнравственном влиянии его произведений. «Я дал казнить Гретхен, а Оттилию уморил голодом, — восклицал он, — чего же от меня еще хотят?» Но что из того? Строгость поэта нельзя принимать за чистую монету, его неумолимости никто не верит на слово. Он — возбудитель сочувствия и симпатии к человеку, он, подобно всесильной любви, не отказывает в своем расположении великим греш- ницам, он действует разлагающе даже в своем фили- стерском благомыслии, даже тогда, когда созна- тельно стремится к охранительству, — ведь Гете тоже хотел сохранить брак в «Избирательном сродстве». Вспомним шутку вольнодумца Байрона о старой лисе, «которая сидит в своей норе и весьма благопристойно проповедует оттуда». Он называет «Избирательное сродство» и «Страдания юного Вертера» издеватель- ством над браком, и сам Мефистофель, по его сло- вам, не мог бы написать лучше. Финал обоих этих романов — вершина иронии. Таково смелое высказы- вание ума, который в гораздо большей степени, чем Гете, находил удовольствие в эпатировании мира. Не это составляло главное для Гете, но он категорически запрещал называть себя консерватором во избежание того, чтобы о нем не думали, будто он хочет охранять все, даже общественно дурное. И уж менее всего он был тем типом ренегата, о котором Сент-Бев сказал, что «от писателя у него только талант»; ему был чужд снобистский антиинтеллектуализм, и та «trahison des clercs», о которой недавно написал книгу один француз, дока по этой части. «Держитесь жизни, неустанно идущей вперед!» — «Что б ни было — иди вперед», — вот простое слово, чистое и не извра- щенное, — его слово.
84
Путь Гете как поэта — я говорю сейчас о его внеш- нем писательском поприще — отличается своеобраз- ными чертами; подобный ему нелегко сыскать в исто- рии духовной жизни. Он начался с двух крупных, можно сказать сенсационных успехов — драматиче- ского и эпического, одного приятным образом нацио- нального и одного болезненно-светского, — «Геца» и «Вертера». Слово «приятный» для характеристики успеха «Геца» придумал не я, оно исходит от самого Гете, давшего объяснение этому успеху в «Поэзии и правде». «Возникает особое, всеобщее приятное удо- влетворение, — говорит он, — когда какой-либо нации в остроумной форме вновь приводится на память ее история; она радуется добродетели своих предков и смеется над их недостатками, которые считает давно преодоленными. Подобное произведение не может не встретить участия и одобрения, и в этом смысле на мою долю выпал значительный успех». Невозможно дать более скромное и в то же время более меткое определение того впечатления народности, которое произвел «Гец». Что же касается «Вертера», в кото- ром раскрылось все богатство дарования юного автора, то он оказал совершенно иное воздействие на умы. Потрясающая, парализующая сила чувства этой маленькой книжки, внушавшей моралистам ужас и возмущение, подняла переходящую всякие границы бурю восторга, так что мир буквально бредил бла- женством смерти; она вызвала опьянение, лихорадку, экстаз, охвативший всю обитаемую землю, и была той искрой, что, попав в пороховую бочку, мгновенно раз- вязывает опасные силы. Несомненно, весь мир был хорошо подготовлен к тому, чтобы принять ее. Каза- лось, будто читатели всех стран, втайне, неосознанно, только и ждали, чтобы появилась книжка какого-то еще безвестного молодого немецкого бюргера и про- извела переворот, открыв выход скрытым чаяниям целого мира, — не книжка, а выстрел прямо в цель, магическое слово. Рассказывают, будто молодой англичанин, много лет спустя приехавший в Веймар, встретил на улице Гете и упал в обморок — силы изменили ему, когда он воочию увидел творца
85
«Вертера». Столь бурный успех, по всей вероятности, подействовал на молодого автора озадачивающим, удручающим образом. Объятия мира в столь юные годы — серьезная опасность, и Гете показал себя до- статочно зрелым, чтобы, постоянно помня о ней, чер- пать из нее свой опыт. «Если какая-нибудь светлая голова обратит на себя внимание публики выдаю- щимся произведением, — цитирует он одного фран- цузского автора,—то будет сделано все возможное, чтобы помешать ему снова создать что-либо подоб- ное». «Как это верно! — добавляет Гете. — Ведь дей- ствительно в тихой, одинокой юности создается нечто хорошее, исполненное ума, успех завоевывается, не- зависимость теряется; люди дергают сосредоточенный талант, заставляют его рассеиваться, думая таким образом отщипнуть что-либо для себя от его лич- ности». Он узнает беззастенчиво-навязчивый свет, он узнает критику. Его наблюдения и высказывания, их касающиеся, отличаются той отрадной вырази- тельностью, в которой его перо не знало себе равных. «С одним свойством читателей, — пишет он в «Поэзии и правде», — особенно комичным у тех, кто оглашает свои суждения в печати, мне также рано пришлось познакомиться. Они живут в заблуждении, что, на- писав что-либо, становишься их должником и всегда намного отстаешь от того, чего бы им хотелось и же- лалось, хотя, перед тем как увидеть нашу работу, они и представить себе не могли, что подобное уже суще- ствует или хотя бы может быть создано». Никто еще не находил таких насмешливо-метких слов, характе- ризуя отношение художника, сознающего новизну и первозданность своего творения, к ковыляющей за ним критике; и кто имел больше права на эту на- смешку, чем он, чья каждая новая книга действовала на восприимчивых, как чудесная сенсация, как див- ный сюрприз, нечто небывалое, что никому и во сне не снилось прежде. «Каждое утро, — вздыхал Эмиль Золя, — прихо- дится глотать свою жабу». Гете также приходилось глотать своих жаб, причем не только в юности, но и в зените своей славы, и нам кажутся неправдоподоб-
86
ными все те документально засвидетельствованные гнусности, которые говорились о великом старце, по- корившем мир с помощью духа; он принимал их не- возмутимо, но отнюдь не пропускал мимо ушей. Во всем полагаясь лишь на самого себя, сознавая необ- ходимость своего творческого бытия, сорокачетырех- летний Гете говорит в одном письме: «Мы не можем делать ничего иного, как то, что мы делаем, а успех даруется небесами». Это фатализм человека, который живет по своим внутренним законам и нимало не за- ботится о том, как миру заблагорассудится отнестись к его жизни. В сущности, скромность определяет его отношение к своему творчеству, вернее сказать — к отдельному созданию, отдельному этапу и творче- скому эпизоду в его жизни. «Кто же поставляет одни шедевры?» — спрашивает он, до некоторой степени оправдывая такие импровизации, как «Клавиго», словами: «Не всегда же писать лучше лучшего!» Обращаясь к критикам, он указывает — и он более чем кто-либо имеет на то право и основание, — что отдельное произведение само по себе еще ничего не решает, что не следует, вынося приговор художнику, исходить из какой-либо определенной, точнее го- воря — последней его книги, как будто он является тем-то и тем-то и более ничем. «Ведь при непрерыв- ной деятельности, — замечает он уже в престарелом возрасте, — дело не в том, что в отдельности заслу- живает похвалы или порицания, что значительно и что незначительно, а в том, какое направление взято в целом и какой результат получится для самого пи- сателя, для его современников и чего можно ожидать в будущем». Таким образом, он считает допустимым оспаривать единичное, тем более что сам он, завер- шив работу над произведением, ощущал и рассматри- вал его как нечто изжитое, как пройденную ступень: Враги грозят со всех сторон, И, что ни день, тебе урон; Так будь настороже! Они хлопочут много дней Над кожей прежнею моей, Что сбросил я уже,
87
Созреет новая — ее Я сброшу, как и ту, И царство новое свое Еще раз обрету.
И все же он достаточно слаб, в достаточной мере художник, чтобы нуждаться в успехе, жадно упи- ваться похвалой. Уже в возрасте двадцати пяти лет критические наблюдатели находили его «недоста- точно стойким по отношению к успеху и страданию», а те, кто впоследствии близко стоял к нему, как, на- пример, Каролина фон Вольцоген, порицали его за падкость на похвалу и за то, что с годами эта сла- бость не только не исчезла в нем, но даже развилась еще более. Он велик, но он сделан из того же теста, что и все мы. Несмотря на свою неистощимую способ- ность восхищаться, он знает зависть^ и в «Западно- восточном диване» задает характерный для худож- ника вопрос: «Что за жизнь, коль есть другие?» «В ту пору, — рассказывает Буасере о шестидесяти- двухлетнем Гете, — к сожалению, особенно стала за- метна одна его слабая сторона, смешение зависти и гордости, отличающее боязливую старость». Он выдает себя с головой в беседе о романтиках Шлегелях и Новалисе, проявляя обидчивость и некоторое раздра- жение по поводу критики Новалиса, касающейся его прозы, по поводу молчания Августа-Вильгельма фон Шлегеля о «Побочной дочери» и так далее. Что ка- сается «Побочной дочери», — это его самое больное место. Бестактная острота Гердера: «Мне больше нравится твой побочный сын» — положила конец ста- рой дружбе, и трудно сказать, что сильнее уязвило Гете — намек ли на ненормальные семейные отноше- ния в доме на Фрауэнплане или указание на спор- ность его последнего произведения. Одна дама из его окружения сообщает, что в момент окончания «Изби- рательного сродства» он был о нем весьма невысо- кого мнения, но, слыша одобрительные отклики на эту вещь, очень быстро пришел к убеждению или, лучше сказать, к пониманию, что он создал шедевр, составляющий эпоху. «Мир делает все возможное, чтобы мы стали равнодушными к похвале и хуле; но
88
это ему не удается, и, смирившись поначалу, мы всегда готовы возликовать, когда слышим благопри- ятные, вполне совпадающие с нашими убеждениями оценки». В общем, инстинкту публики он доверял больше, чем присяжной критике, в оценках которой часто слишком много личной приязни или неприязни и почти всегда проглядывает гримаса партийного духа. «Что сталось бы с автором, если бы он не ве- рил отдельным разумным людям, с которыми он время от времени встречается!» В другой раз он до- бавляет, что почитаемая и презираемая публика, не- сомненно, почти всегда ошибается относительно ча- стностей, относительно же целого — никогда. Как всегда, его отрадно-меткое, полнокровное слово и здесь попадает прямо в цель. И об отношении к кри- тике и публике он умеет сказать всем художникам золотые, утешительные слова в прозе и стихах. Убе- жденность художника в том, что его бытие, как бы оно ни было достойно порицания, весомее любого оцени- вающего ничтожества, никогда не высказывалось бо- лее ярко и выразительно, чем в следующих его стихах: Хулить мое творенье1 А вы что на земле? О да, уничтоженье Нуждается в хуле; Но вам она нимало, Конечно, не страшна: Вас в мире не бывало! Где сыщет вас она? И последнюю, спокойно-горделивую отрешенность человека, чье имя стало достоянием молвы, о ком идут толки и пересуды, кого освистывают и поносят на все лады, он вкладывает в слова: Зря чтобы галкам не стрекотать, Нужно бы крест с колокольни снять. Итак, творческий путь Гете отличается той свое- образной, едва ли повторимой особенностью, что после необычайно успешного дебюта фигура юного автора бледнеет, отступает и исчезает с литературной
89
арены. Я имею в виду десятилетие, проведенное им на веймарской государственной службе, эти десять лет зрелости, которыми он — воспользуемся его соб- ственным выражением — «пожертвовал для серьез- ных вещей». Редко случается, чтобы писатель, стя- жавший столь бурный успех, был так скоро забыт, похоронен для литературы, и это обстоятельство, естественным образом, вызвало чувство удовлетворе- ния у врагов творца «Вертера». Один тогдашний историк литературы радуется, что «та крикливая слава, которую создали Гете его восторженные почи- татели, мало-помалу сходит на нет». Казалось, с фе- номеном «Гете» покончено: люди увидели блеснув- шую падающую звезду, сказали «ах!» — и делу ко- нец. Действительно, никогда больше Гете не довелось снискать такой популярности, как в начале его писа- тельского поприща, такого исполненного народной теплоты успеха, как после «Геца»; правда, еще один раз, на короткое время, после «Германа и Доротеи» снискал он его, но больше уж никогда. Но, в сущно- сти, он и не стремится к популярности, или, как он сам говорит, к «популярному», угодному народу. Это не в его вкусе; показателен в этом смысле один факт из его биографии, относящийся к 1828 году, когда в его веймарском доме гостили тирольцы, испол- нители народных песен, наполнявшие комнаты свои- ми песнями и переливчатыми трелями. Молодежи это очень нравилось. Ульрика и Эккерман были особен- но очарованы песней «Ты живешь в моем сердце». Однако сам Гете, как передают, отнюдь не разделял всеобщего восхищения. «О том, вкусны ли ягоды и вишни, — сказал он, пожимая плечами, — спросите у воробьев и детишек». Это не случайная брюзгливая реплика, это аристократически-гуманистическое не- приятие. Вспомним, как опечалился добрый Эккер- ман, когда Гете заявил ему, что его вещи не могут стать популярными. Он сказал это вопреки высшей, глубоко оправданной, идеальной народности первой части «Фауста», отнюдь не столь практической, как популярность многих пьес Шиллера. Пара- доксально, но факт, что ядреная, забористая люте-
90
ровская немецкость Гете снискала ему куда меньшую популярность, чем полуфранцузское по духу творче- ство его друга. Правда, Гете утверждает, что Шил- лер был в гораздо большей степени аристократом, чем он. Быть может, это так, но аристократизму Гете, художническому по сути и коренившемуся в интим- нейших, заветнейших его намерениях и задачах, судьба отвела куда более значительную роль. Он умел относиться к популярности с иронией, которая была абсолютно чужда великому демагогу Шиллеру. Он знает, как водят публику за нос. «Тех, кто посе- рее, надо дурачить разнообразием и преувеличениями, а образованных — подобием честности». Нечто от этой честности есть в песне песней всего немечества и немецкого бюргерства — в «Германе и Доротее», которою он еще раз угодил публике, пробудив то чувство патриотического довольства, над которым сам он, как это ни странно, слегка посмеивается. В одном шутливом письме к Шиллеру он пишет, что представляется себе счастливым фокусником, который хорошо стасовал карты: «Так всякий, кто дурачит публику, плывя по течению может рассчитывать на удачу». И, разошедшись, полный иронического удо- влетворения от своего единодушия с публикой, прики- дывает, нельзя ли таким образом написать пьесу, ко- торую ставили бы на всех сценах и в один голос назы- вали превосходной, хотя сам автор не обязательно считал бы ее таковой, — фантазия, которая, несом- ненно, должна была прийтись по вкусу сугубо умозри- тельной натуре Шиллера. В действительности же все то гуманно-немецкое, бюргерское, что возвеличено и прославлено им в «Германе и Доротее», и является его потенциалом истинно народного, его подходом к немецкому духу, который в чистом виде как тенденция, как этнический культ отталкивает его. Иными слова- ми, как педагог он активно не приемлет его, тогда как в действительности его мощная натура охватывает то и другое, немецкое и средиземноморско-класси- ческое, народное и всеевропейское, и это сочетание по существу тождественно сочетанию гениального и рассудочного в нем, таинственности и ясности, глубин-
91
ного голоса и отточенного слова, лирики и психоло- гизма. Он велик, ибо воплощает в себе демоничность и урбанизм самым удачным, быть может небывалым дотоле образом, и именно этот синтез демоничности и урбанизма сделал его любимцем человечества. Но повторяем: его сознательная тенденция, его народно-воспитательная воля направлена против исключительно народного, и, подобно Ницше, являю- щемуся в этом его учеником, он видит в этнически- варварском лишь экзотику, вызывающую любопыт- ство, но не способную дать глубокое удовлетворение. Его отрицательное отношение к миру Эдды служит тому примером. Он говорит Эккерману: «Из мрачной древнегерманской эпохи мы можем взять для себя столь же мало, как мало мы получили от сербских песен и тому подобных варварских произведений на- родной поэзии. Их читаешь и некоторое время инте- ресуешься ими, но лишь затем только, чтобы озна- комиться с ними и больше к ним не возвращаться. Человек и так уже достаточно омрачен своими стра- стями и превратностями судьбы, чтобы усугублять все это мраком варварского прошлого. Ему нужна ясность и радость, и он должен обращаться к таким эпохам в искусстве и литературе, когда выдающиеся люди достигали совершенного просвещения, так что и им самим было хорошо, и они способны были облагоде- тельствовать своей культурой других». Он намеренно отрицает те интимные особенности, которые считаются свойственными немецкой художественной старине. «Сухо-наивное, — говорит он, — неуклюже-бойкое, бо- язливо-честное и все прочее, чем еще пытаются харак- теризовать древнее немецкое искусство, присуще вся- кой ранней примитивной художественной манере. У старых венецианцев, флорентинцев и так далее все это тоже есть. Неужели мы, немцы, можем считать себя оригинальными, отнюдь не возвышаясь над об- щим примитивным уровнем?» Помимо культурно-политической, последнее выска- зывание стоит рассмотреть еще с одной точки зрения, а именно: стилистически-языковой. В этих психологи- чески характеризующих сочетаниях слов нетрудно
92
узнать школу, которую прошел Ницше, чья проза опи- рается на прозу Гете, подобно тому как проза Гете — особенно молодого Гете — опирается на прозу Лю- тера. Обратимся к примерам. «Ограничивать себя,— пишет Гете в одном письме от 1776 года, — сильно желать, а также сильно любить один предмет, немно- гие предметы, быть привязанным к ним, поворачи- вать их со всех сторон, сочетаться с ними — вот что создает поэта, художника, человека, и это пребудет истиной во веки веков!» «Сильно желать, а также сильно любить» — ведь это чисто лютеровская интонация, явное свидетельство углубленного чтения библии юным Гете, это лютеровский стиль, приправленный дюжестью эпохи бури и натиска, дюжестью, облаго- роженной и возвышенной лютеровско-библейской сти- хией, но, если можно так выразиться — отнюдь не разбитной. Известно, что писательский интерес Гете к библии Лютера сохранился до глубокой старости. Сравнивая с ней свое собственное языковое мастер- ство» он заявлял, что разве только нежность ее взялся бы передать лучше. Поэтическое облагораживание языка в противовес огрублению его Лютером является великим творческим актом в истории нашей духовной жизни, хотя лютеровская забористость в значительной степени сохранилась и у Гете. «Жить без женщин, без вина — разрази нас сатана». Эта же линия продол- жается у отнюдь не простовато-прямолинейного Ницше; хотя Лютерова ядреность и претит ему, тем не менее он виртуозно пародирует библейский стиль в «Заратустре». Ницше столь же очевидно является учеником Гете, как последний — учеником Лютера. «Кантилена: Увековечивая полноту любви и всякого страстного счастья». Разве это Ницше? Нет, это Гете. У Ницше мы часто встречаем отдельные излюбленные словечки Гете. Отсюда вывод: отношение Ницше, а до него—Гейне — как психологов и стилистов к Гете тождественно отношению Гете к Лютеру, и мы можем либо радоваться растущей утонченности немецкого духа, либо видеть в этом его упадок. Вернемся, однако, назад. Прошло немало времени, пока Гете снова стал играть роль в духовной жизни 93
--------------------------эпохи, — и прошло еще больше времени, пока он всецело завладел ею. Вещая мечта его юности: «эти жерди еще дадут когда-либо плоды и тень» — потре- бовала времени для своего осуществления. Гете для всего нужно было много времени. Его медлительность, глубокая выжидательность его натуры, как ни странно, вполне осознаны и поняты только в наши дни. В его жизни господствует неторопливость. Она подчи- нена органическому инстинкту — всегда иметь время в запасе, и в ней есть даже черты инертности и без- вольной праздности. Его неохватное, пускающее все новые корни и побеги творчество, его жизнь, на все накладывающая свою неизгладимую печать, уже не вызывает и никогда больше не вызовет восторга толпы, как вначале. Безграничной холодностью встре- тила немецкая общественность тот поворот к класси- цизму, который приняло искусство Гете в «Ифигении» и «Тассо». Чарующий, почти пикантный контраст между классической формой и поэтической задушев- ностью и смелостью содержания не был осознан. Быть может, ни на одном поэте мира нельзя более успешно исследовать личную тайну зачатия, сокровен- ное побуждение к творческому акту, чем на Гете. Вспомним прекрасное, навевающее жуть высказыва- ние французского художника Дега: «Картину нужно писать с тем же чувством, с каким преступник совер- шает злодеяние». Это и есть та бесподобно-дурная тайна, о которой я здесь говорю. «Моей натуре пре- тило,— говорит Гете, — делиться с кем бы то ни было своими поэтическими планами. Я молча вынашивал их в себе, и как правило никто ничего не знал, пока все не оказывалось законченным». Об изумительной истории, которую он вынашивал в течение тридцати лет и в конце концов озаглавил просто: «Новелла», Гете рассказывает, что Шиллер и Гумбольдт отгова- ривали его продолжать ее, так как вообще не могли представить себе, что из нее можно сделать. «Лишь самому поэту, — добавляет он, — известно, какое оча- рование он способен придать своему предмету. По- этому не следует никого спрашивать, когда хочешь что-нибудь написать». В отдельных случаях, когда 94
--------------------------задуманное им произведение, -как, например, «Ахил- леида», так и остается фрагментом, подобное сокро- венное побуждение к творчеству вообще невозможно определить. Рассматривая этот рельеф в стиле Ренес- санса,— ибо именно таковым является написанная им одна песнь «Ахиллеиды» — теряешься в догадках, что, собственно, привлекло Гете к этой гомеровски- архаичной тематике. Он сам открыл нам это. Основ- ной смысл, идея целого сводились к следующему: Ахилл знает, что должен умереть, но влюбляется в Поликсену и совершенно забывает о своей судьбе, как и подобает его безумной натуре. Итак, вот в чем причина интереса Гете к столь далекой теме, — при- чина, как видим, психологического порядка, ибо как раз личное и интимное всегда побуждало Гете к творчеству, в отличие от его антипода Шиллера с его величественно умозрительным, внешним подхо- дом к материалу. В высшей степени характерно, что Гете одно время собирался сделать из «Ахиллеиды» роман, то есть психологическую прозу вместо гекза- метра. И еще один роман был задуман им, неосуще- ствленный, навеки потерянный для истории этого ли- тературного жанра, — «Эгоист», творение-мечта, от которой не осталось ничего, кроме одного афоризма. Идея его, как сообщает Ример, состояла в том, что «мастерство часто принимают за эгоизм». Личная за- тронутость автора снова выступает здесь в качестве творческого стимула. Ведь такая натура, как Гете, постоянно рисковала быть обвиненной в эгоизме, и его действительно непрестанно упрекали в нем. Ни- кто до Гете не сопоставлял, не связывал вместе эти понятия, никто не разглядел, что мастерство чисто по-человечески может восприниматься как эгоизм, и мы можем лишь терзаться мучительным любопыт- ством, пытаясь представить себе, какой роман напи- сал бы Гете на основании своего сугубо личного эмо- ционального опыта. «Чего только не придумывали немцы, чтобы от- вергнуть то, что безусловно создано мною». Так ска- зано в его изречениях. Однако не следует забывать^ что к отрицательной на него реакции всякое художе-
95
ство гораздо восприимчивее и чувствительнее, чем к положительной, ибо Гете уже при жизни не только ненавидели, но и беззаветно любили, хотя эта любовь отнюдь не была общенародной. Его «Вильгельм Мей- стер» пользовался широким, исключительным по тем временам успехом, что дало повод представителю высшей сферы тогдашней немецкой культуры — ро- мантического движения — сказать: «Французская ре- волюция, «Наукоучение» Фихте и «Вильгельм Мей- стер»— три величайших события нашей эпохи». На виду у врагов, остроумных и тупых, скрытых и явных, окруженный незыблемым почитанием благо- роднейших душ, он растет все выше и выше, и вместе с ним, уже в силу одной только прочности и все более ощутимой весомости его бытия, растет его авторитет. Вражда, которую Гете довелось испытать, носила в основном политический характер и вызывалась его холодным, упорно отрицательным отношением к обоим основным движениям века — национальному и демо- кратическому. Отсюда все те горькие обвинения и упреки в эгоизме, отсутствии патриотического чувства, в колоссальной, выражаясь словами Берне, силе тор- можения,— обвинения и упреки, в которых звучало тем большее отчаяние, чем сильнее в них было ощу- щение его величия. Однако гетевская концепция не- мечества как аполитичного, преданного чисто челове- ческому, принимающего от всех и всех поучающего сверхнарода, мирового народа, — не сохраняет ли она свою силу всегда, даже во времена небывалых по масштабам насильственных сведений счетов и нацио- нального самокорректирования? Как бы там ни было, то обстоятельство, что на- шлись патриотически настроенные люди, защищавшие его, родившегося столь несвоевременно, против упрека в негерманизме, делает честь духовной культуре тогдашней Германии, испытывавшей столь сильные национальные потрясения. Отец Ян, великий патриот, в 1810 году назвал Гете motu proprio ! в высшей сте- пени немецким поэтом, невзирая на то, что этот поэт По собственному побуждению (лат.).
96
так возмутительно враждебно относился к «староне- мецким братствам». А в 1813 году, когда он почти прослыл человеком без отечества, Варнгаген фон Энзе воскликнул: «Гете — не немецкий патриот? Да в его груди уже сызмальства сосредоточилась вся свобода Германии и стала у нас, к нашему общему, еще не- достаточно осознанному благу, образцом, примером, столпом нашего просвещения». Точно так же думали и говорили барон фон Штейн и Эрнст-Мориц Арндт. И то, что Гете, несмотря на недостаток народности, был писателем национальным и обращался ко всей нации, неизбежно легло в основу его самосознания в старости. Как бы он ни придер- живался принципа экономии жизненных сил, с этим обстоятельством ему приходилось считаться, — ему, рожденному скорее для частной жизни, нежели для величия, и вынужденному самоограничиваться в своей доброте и человеческой отзывчивости ради высших целей. «Что касается ответов на письма,— заявляет он, — то здесь я должен nolens-volens ! объ- явить себя банкротом и лишь от случая к случаю удовлетворять того или иного кредитора. Мой прин- цип таков: если я вижу, что люди пишут мне из ко- рыстных соображений, хотят добиться чего-нибудь для своей персоны, тогда мне это ни к чему. Если же они пишут ради меня, если они посылают что-нибудь по- могающее мне, касающееся меня, я должен ответить. Вы, молодые люди, не знаете, как дорого время, иначе вы больше ценили бы его». С молодыми стихотвор- цами, которые, говоря словами Клейста, приближа- лись к нему «на коленях сердца» со своими стихами, он обходился до трагикомичности жестоко. Назову только бедного Пфицера, поэта отнюдь не из худших, в 1830 году пославшего Гете свои стихи с прочувство- ванным письмом. Гете отвечал: «Перелистал вашу книжку. Но так как, ввиду надвигающейся холеры, следует остерегаться вредоносного бессилия, отложил ее в сторону». Интересно знать, отдавал ли он себе отчет в катастрофичности подобного ответа для заин- 1 Волей-неволей (лат.). 7 т. Манн, т. ю 97
--------------------------тересованного. Однако, если вспомнить, как много сил он растрачивал, отражая нападки4 недругов, ста- новится понятным его гнев, когда люди, называвшие себя его учениками, посылали ему всякий вздор» Изучая твои творенья, Я ночи и дни не сплю И, как дань своего уваженья, Чепуху сочиненную шлю. Ои отлично знает, что гениальность каким-то обра- зом связана с удачливостью и что важно появиться в нужный момент. «Когда мне было восемнадцать,— говорит он, — Германии тоже было восемнадцать, и тогда можно было кое-что сделать. Я рад, что начал тогда, а не теперь, когда требования так чудовищно возросли». Но он прав, стремясь втолковать молодым людям, что миру можно угодить лишь необычайным и нет заслуги в том, чтобы топтаться на уровне, до- стигнутом другими. «Все зло от того, — говорит он, — что поэтическая культура в Германии настолько рас- пространилась, что никто уже не напишет плохого стиха. Молодые поэты, присылающие мне свои произ- ведения, ничем не хуже своих предшественников, и, видя, что тех так расхваливают, они не могут понять, почему их тоже не хвалят. И все же не следует делать ничего, что могло бы подбодрить их, ибо сейчас таких талантов сотни, а избыточное не следует поощрять». Не приходится сомневаться, что подобная неумо- лимость облегчалась для него тем неодобрением, ко- торое вызывали в нем нравы молодого поколения. В глубине души Гете никогда не раскаивался в любве- обильности и доброте своей натуры; как-то раз он даже признался, что сердечно любит молодежь и сам себе был куда милее в юности, нежели теперь. Однако это высказывание теряется среди множества других, полных неодобрения к новому поколению и неверия в него. «Когда видишь, — пишет он в 1812 году, — как весь мир, а молодежь в особенности, предается своим вожделениям и страстям и как все высокое и лучшее в них вытесняется и уродуется суровым вздором вре- мени, так что все, что могло бы дать блаженство, ста- 98
--------------------------новится для них проклятием, не говоря уже о невыра- зимом внешнем гнете, то не удивляешься злодеяниям, которыми человек губит и себя и других». «Невероят- ное самомнение, — замечает он по другому поводу,— в котором воспитываются молодые люди, даст о себе знать через несколько лет величайшими глупостями»- «Молодежь стала непослушной. Конечно, для послу- шания требуется особая культура», — говорит он за год до своей смерти и подытоживает все пессимисти- ческим высказыванием, которое следует отнести не к одной только молодежи, а ко всей эпохе: «Этому безотрадному поколению уже ничем не поможешь»* Действительно ли это его последнее слово? Доброже- лательность старого жизнелюбца никогда не иссякала, так же как и его надежда. «Старое прошло, — говорит он, — а нового еще нет. Но уже зреет многое, что, быть может, порадует нас через несколько лет». От его одинокой старости веет таким холодом, что, хоть это и закономерно, мы не можем смотреть на нее без содрогания сердца. Я всем вам в тягость, это так: А кон-кому притом и враг. Ему это отлично известно, и в «Западно-восточном диване» он повторяет: Все шлют мне привет и ласку И смертную злобу таят. Из некоторых высказываний Гете делают вывод, что он допускал возможность быть убитым. Было ли это лишь выражением той ипохондрии в духе Тассо, которая составляет отличительную черту его облика? Почему бы и в самом деле какому-нибудь отчаянному студенту, усмотревшему в прочном авторитете Гете препятствие для политического возрождения Герма- нии, не могла прийти в голову чудовищная мысль — убить его? Самое мягкое выражение его отчужден- ности от времени и мира дано в его признании: «От- чего бы мне сказать себе, что я все более принадлежу к тем людям, в которых хотелось бы жить, но жить с которыми не слишком приятно». Возможно ли выра- 7* 99
--------------------------зить свою отчужденность от жизни и эпохи в более сдержанных словах? Однако это вовсе не значит, что его оставляли в покое; почитатели и просто любопыт- ствующие устремлялись к нему со всех концов света. Однако истинная привязанность — лишь в немногих любящих, преданных друзьях, повседневно окружаю- щих его. В сущности, он живет уже не здесь, в Гер- мании, а где-то далеко, во внешнем мире, и все, что радует его, приходит главным образом из-за границы. У себя же на родине он производит впечатление все- мирно известной окаменелости, — держать ее в своих стенах лестно, но и весьма обременительно. Пережив- шие Гете соотечественники, которые видели и знали его, рассказывали родившимся позже вопрошателям о «злобном старике». Эта злобность, свойственная мо- гучей старости, — удел убеленного сединами величия, которое всегда угнетающим образом действует на все живое. Вспомним, как облегченно вздохнула Герма- ния, узнав о смерти Фридриха Великого. Приходит на мысль и исторический анекдот о том, как Наполеон спросил одного маршала, что, по его мнению, скажет мир после его смерти, и, услышав в ответ благоговей- ные сетования, которыми якобы разразилось бы чело- вечество, прервал его: «Все это вздор! Они скажут: «Уф!» Гете знал, что после его смерти одни вслух, другие шепотом также скажут: «Уф!», ибо ощущал в себе то величие, которое тяготит мир в той же мере, в какой осчастливливает его. Он воплощал это величие в наи- более кротком и мирном облике, который оно спо- собно принять, — в облике великого поэта. Но и в та- ком обличье оно в тягость современникам и вызывает наряду с любовью и удивлением смятение и страх. Не об этом величии шла здесь речь, не о том не- человечески бессмертном Гете, чьи любовные приклю- чения школьники заучивают наизусть, как любовные связи Зевса. Нас интересовало нечто более узкое и реальное — жизнь писателя, в которой мы, ныне живущие и являющиеся всего лишь опосредствующей средой между величием и нашим временем, узнаем существеннейшие черты нашего бытия и которая 100
--------------------------благосклонно позволяет заглянуть в себя взглядом познания и дружбы. И мне достаточно снова почерп- нуть из стихии его собственного слова, чтобы найти примиряющий заключительный аккорд, — привести одно место из его переписки, которое может повторять в утешение себе каждый, кто на виду у всех, в муках творчества, претворяет свою жизнь в писаное слово: «Имеет смысл жить долго и выносить те многоразлич- ные тяготы, которые вплетает в наши дни непости- жимо властвующий рок, если под конец другие помо- гают нам понять себя и все наши противоречивые стремления и блуждания разрешаются в определен- ности вызванных нами воздействий».
1932
СТРАДАНИЯ И ВЕЛИЧИЕ РИХАРДА
ВАГНЕРА
Il у a là mes blâmes, mes éloges et tout ce que j'ai dit. Maurice Barrés l. Страдальческий и великий, подобно тому веку — девятнадцатому, чьим совершеннейшим выражением он является, стоит у меня перед глазами духовный об- раз Рихарда Вагнера. Этот образ видится мне избо- рожденным всеми чертами века, обремененным всеми его страстями, и мне трудно разграничить любовь к творчеству Вагнера, одному из величайших в своей спорности, многообразнейших и увлекательнейших проявлений художественного гения, от любви к тому веку, большую часть которого заполняет его жизнь, эта беспокойно-скитальческая, полная терзаний, одер- жимая и непонятная жизнь, завершающаяся в сиянии мировой славы. У нас, людей нынешнего дня, погло- щенных задачами, по новизне и сложности действи- тельно не имеющими себе равных, совершенно нет времени и едва ли есть желание произвести справед- ливую оценку той эпохи (именуемой нами бюргер- ской), которая сейчас отходит в прошлое; мы отно- 1 Здесь осуждение, мною вынесенное, хвала, мною выражен- ная, и все то, что я высказал. Морис Баррес (франц.).
102
симся к девятнадцатому веку, как сыновья относятся к отцу; критически, как оно и надлежит. Мы пожима- ем плечами и при мысли о его вере — вере в идеи, и при мысли о его неверии, то есть о его скорбном реля- тивизме; его либеральная приверженность к разуму и прогрессу кажется нам несколько смешной, его мате- риализм— слишком компактным, его самонадеянное стремление монистически разрешить все загадки мироздания — чрезвычайно поверхностным. Гордость, которою преисполняли этот век его научные достиже- ния, уравновешивается, даже перевешивается его пессимизмом, внутренним его сродством с ночным мраком и смертью, которое, по всей вероятности, когда-либо сочтут наиболее характерной его чертой. А с этим сопряжено влечение и стремление к большим масштабам, к великим творениям, к монументальному и грандиозно-массовому, — сочетающиеся, как это ни странно, с пристрастием к мельчайшему, к дробному, к деталям духовной жизни. Да, величие, притом вели- чие мрачное, страждущее, скептическое и одновре- менно проникнутое горечью истины, фанатическим исканием истины, в мимолетном опьянении преходя- щей красотой способное обретать кратковременное, чуждое вере счастье, — вот что является подлинной сущностью, характернейшей чертой этого века; чтобы выразить всю его Атлантову нравственную отягощен- ность и устремленность, ваятелю пришлось бы при- дать своему творению мускулатуру, напряженностью напоминающую статуи Микеланджело. Какие испо- линские, эпические в предельном смысле этого вели- кого слова тяготы взваливали в ту пору на себя,—» здесь надлежит вспомнить не только Бальзака и Тол- стого, но и Вагнера. Когда он (было это в 1851 году) в письме, проникнутом торжественностью, подробно развил своему другу Листу план «Нибелунга», тот ответил ему из Веймара: «Берись за дело и, не счи- таясь ни с чем, работай над своим произведением, к которому можно, во всяком случае, предъявить тре- бование, поставленное Севильским капитулом архи- тектору при сооружении собора: «Постройте такой храм, чтобы грядущие поколения говорили: «Капитул,
103
предпринявший такое сооружение, был безумен».— А собор все же стоит!» — В этом — весь девятнадца- тый век! Очарованный сад импрессионистской живописи во Франции, английский, французский, русский роман, немецкое естествознание, немецкая музыка, — нет, не плохой это был век; оглядываясь назад, видишь целый сонм великих людей. И лишь эта ретроспективность взгляда, эта дистанция дают нам возможность рас- познать фамильное сходство между всеми ними, тот общий отпечаток, который, при всех различиях склада и творчества, эпоха накладывает на них. Возьмем хотя бы Золя и Вагнера, «Ругон-Маккаров» и «Кольцо Нибелунга» — лет пятьдесят назад едва ли кому-ни- будь пришло бы в голову поставить в один ряд имена этих творцов, эти произведения. И все же их место рядом друг с другом. Сродство духа, намерений, при- емов ныне бросается нам в глаза. Их связывает не только честолюбивая приверженность к огромным масштабам, не только творческое влечение ко всему грандиозному и массовому и не только — в отношении техники — эпические лейтмотивы; основное, что их роднит,— это натурализм, возвышающийся до симво- ла и перерастающий в миф; ибо кто может отрицать в эпике Золя символизм и тяготение к мифичности, возносящие созданные им образы над действитель- ностью? Разве Астарта второй империи, названная им Нана, не символ, не миф? Откуда взято ее имя? Это древнейшее сочетание звуков, ранний, чувствен- ный лепет человечества: Нана—одно из прозвищ ва- вилонской Иштар. Знал ли об этом Золя? Если нет, то это совпадение тем более достойно удивления и много- значительно. Толстому тоже свойственно натуралистическое тяготение к огромным масштабам, к демократической массовости. Он тоже постоянно прибегает к лейтмо- тиву, к цитированию самого себя, к устойчивым рече- вым оборотам, характерным для его персонажей. Не- умолимость, с которой он доказывает, повторяет, втолковывает одно и то же, его решимость ни в чем не щадить читателя, его могучая воля к простран-
104
ности — все это нередко ставилось ему в упрек; а о Вагнере Ницше говорит, что он, несомненно, самый неучтивый из всех гениев, что он словно измором бе- рет слушателя, твердит ему одно и то же без конца, пока тот не придет в отчаяние и не уверует. Это тоже роднит их, но еще более глубоко родство, коренящееся в социально-этической стихии, общей им обоим, при- чем малосущественно то обстоятельство, что Вагнер видел в искусстве священное таинодеиствие, панацею против всех язв общества, а Толстой к концу своей жизни отверг его как суетную роскошь. Ибо как рос- кошь Вагнер тоже его отвергал. Очищение и освяще- ние, исходящие от искусства, он считал средствами очищения, освящения растленного общества; он был человеком катарсиса, поборником очищения, стремив- шимся посредством эстетического священнодействия раскрепостить общество от роскоши, власти денег, бездушия, — в социальной своей этике он был чрезвы- чайно близок к великому русскому писателю. Обще им и то, что в жизни их обоих тщились усмотреть перелом, якобы расколовший их духовный склад, их мировоззрение, перелом, равносильный некоему нрав- ственному коллапсу, тогда как на самом деле в их жизнях обнаруживается совершеннейшая последова- тельность и единство. Те, кому казалось, что Толстой к старости впал в своего рода религиозное помеша- тельство, не видели, что последний этап его жизни уже был заключен в предыдущем ее этапе; они за- были или не заметили, что в таких образах, как Пьер Безухов «Войны и мира» или Левин «Анны Ка- рениной», уже предвосхищен духовный облик Тол- стого в старости. И если Ницше утверждал, будто Вагнер к концу своей жизни, побежденный, обесси- ленный, внезапно распростерся ниц перед крестом — перед христианством, — то он намеренно забывает или хочет заставить забыть, что уже мир пережива- ний «Тангейзера» предвещает сферу эмоций «Парсифаля», что в «Парсифале» Вагнер подводит итоги творчества целой жизни, романтически-христианской в своих глубинах, и с могучей последовательностью завершает его. Последнее произведение Вагнера —
105
в то же время самое театрализованное из всего, что он создал, и нелегко указать художника, чей творче- ский путь был бы более логичен. Искусство, насыщен- ное чувственностью и символическими формулами (ибо лейтмотив есть формула, более того — дарохра- нительница, он притязает на авторитет уже почти что религиозный), неминуемо возвращает назад, к пышно- обрядовой церковности; более того, мне думается, что тайным стремлением, предельно честолюбивым притя- занием театра является ритуал, из которого театр возник как у язычников, так и у христиан. Искусство театра уже заключает в себе барокко, католицизм, церковь; и художник, подобно Вагнеру привыкший действовать символами и возносить ввысь дарохрани- тельницу, неминуемо должен был в конце концов по- чувствовать себя братом священника, возможно да- же — самим священником… Я часто размышлял о нитях, связующих Вагнера с Ибсеном, и мне трудно было отличить сродство во времени от иного сродства, более близкого, чем то, которое обусловлено общностью эпохи. Я не мог не распознать в диалоге буржуазных драм Ибсена при- емов, способов воздействия и пленения, сокровенней- ших чар, хорошо знакомых мне по миру звуков, со- зданному Вагнером, не мог не установить между ними братской связи, проявляющейся отчасти попросту в том, что оба они велики, но многократно и в харак- тере этого величия. Как много между ними общего в исполинской цельности, сферической округленности, полноте их огромной творческой работы, в моло- дости — революционной, социально направленной, к старости принимающей менее яркую окраску мисти- чески-торжественного! «Когда мы, мертвые, пробу- ждаемся»—едва внятная, жуткая исповедь человека, вся жизнь которого — в его творчестве, тщетно рас- каивающегося, позднее, слишком позднее признание в любви к «жизни», и «Парсифаль», оратория спасе- ния,— до какой степени привык я рассматривать, вос- принимать как нечто нераздельное эти две священные прощальные драмы, последние слова перед вечным молчанием, неземные творения двух исполненных ве-
106
личаво-склеротической усталости старцев, уже меха- низировавших все свои приемы, — творения, на ко- торых лежит отпечаток позднего обобщения, созерца- ния прошлого, самоцитирования, развязки. Разве то, что именовали «fin de siècle» *, не было лишь весьма жалким сатировским действом мелкой эпохи по сравнению с тем подлинным, достойным преклонения заключительным аккордом нашего века, каким прозвучали эти, созданные в старости, творения обоих кудесников? Ибо кудесниками севера были они, лукавыми, недобрыми старыми колдунами, глубоко сведущими во всех тайнах внушения, которого до- стигали посредством столь же проникновенной, как и изощренной дьявольской артистичности, великими в искусстве создавать впечатление, в культе мельчай- шего и тончайшего, во всех видах двузначности и символотворчества, в этом прославлении выдумки, этой поэтизации интеллекта, — причем оба они, как и полагается северянам, были музыкантами; не только тот из них, кто изучил музыку, овладел ею созна- тельно, ибо нуждался в ней для завоевания мира, но и тот, другой — Ибсен, хотя его музыкальность была скрытой, духовной, таилась за словом. Но что совершенно уподобляет их друг другу — это тот никому даже в мечтах не представлявшийся возможным процесс сублимации, которому каждый из них подверг избранное им искусство, ко времени их прихода воплощавшееся в духовно несовершенных формах. Этой формой для Вагнера являлась опера, для Ибсена — драма. Гете говорит: «Все, что совер- шенно в своем разряде, должно выйти за пределы этого разряда, претвориться в нечто иное, ни с чем не сравнимое. Некоторые звуки, издаваемые соловьем, еще напоминают о том, что соловей птица; но затем он возносится над своей породой и словно ставит себе целью показать любому пернатому, что такое под- линное пение». Совершенно так же Вагнер и Ибсен довели до совершенства оперу и бытовую драму; они превратили ее в нечто иное, ни с чем не сравнимое. 1 Концом века (франц.).
107
И даже тот отголосок, тот остаток несовершенства, о котором, приводя пример соловья, упоминает Гете, встречается и у них: время от времени, притом вплоть до самых вершин, до «Парсифаля», у Вагнера еще сквозит опера; время от времени еще заметна у Иб- сена трескучая техника драмы Дюма. Но оба они — творцы, в том смысле, что, совершенствуя данное, воз- носят его до небывалой высоты, что из данности из- влекают новое, никому до них неведомое. Что же именно — по сравнению со всем достигну- тым до Вагнера в области музыкальной драмы — по- дымает его творчество на такую духовную высоту? Потребовалось совокупное действие двух сил, чтобы этот подъем совершился, — двух сил, двух гениальных данностей, которые, казалось, следовало бы считать враждебными, противоположными другу другу, взаим- ное коренное противоречие которых именно сейчас вновь и вновь охотно подчеркивается; силы эти — психология и миф. Их совместимость пытаются от- рицать, психологию считают чем-то слишком рацио- нальным, чтобы можно было не усматривать в ней непреодолимого препятствия на пути в страну мифи- ческого. Ее принято противополагать мифическому, как принято противополагать ее музыке, хотя именно этот комплекс — сочетание психологии, мифа и му- зыки— в двух поразительнейших случаях, у Ницше и у Вагнера, предстает нам как живая реальность. О Вагнере-психологе следовало бы написать целую книгу, рассматривая в ней и его искусство психолога- музыканта и искусство психолога-поэта, поскольку эти свойства в нем следует разграничивать. Прием мо- тива-воспоминания, порою уже применявшийся в ста- рой опере, постепенно разрабатывается в изощренно- виртуозную систему, в небывалой прежде степени превращающую музыку в орудие психологических на- меков, углублений, постепенно осознаваемых связей. Переосмысление наивно-эпического волшебного мотива «любовного зелья», превращение его всего-на- всего в средство высвобождения уже существующей
108
страсти (в действительности питье, вкушаемое влюб- ленными, могло бы быть водой, и лишь их вера в то, что они вкусили смерть, духовно раскрепощает их от нравственного закона эпохи) — все это, несомненно, является художественным вымыслом большого пси- холога. Поэтическое творчество Вагнера — насколько оно с самого начала выше обычного для либретто уровня, причем это превосходство не столько словес- ного, сколько психологического порядка! «Тот мрач- ный жар», — говорит Летучий Голландец в прекрас- ном дуэте второго акта с Сентой, — Тот мрачный жар, что днесь во мне пылает, Ужель его любовью называют? Нет, то душа о небесах грустит, Ведь ангел мне спасение сулит! Эти стихи вполне пригодны для пения, но никогда еще до той поры нечто столь сложно задуманное, не- что духовно столь изощренное не пелось и не пред- назначалось для пения. Тот, над кем тяготеет про- клятие, с первого же взгляда полюбил девушку, но сознает, что его любовь, в сущности, обращена не на нее, а на спасение, на искупление. Но ведь Сента, в свою очередь, встает перед ним как воплощение возможности спастись, почему он не в состоянии, да и не хочет, различить мечту о спасении своей души от мечты о Сенте. Ибо его надежда приняла облик Сенты, и он отныне уже не может хотеть, чтобы этот облик был иным, а это означает, что жажда избавле- ния и любовь к девушке в нем слиты воедино. Какая сложная двойственность, какое проникновение в трудно постижимые глубины чувств! Здесь налицо анализ, и это слово настойчиво напрашивается в еще более современном, еще более смелом его значении, когда вдумываешься в то, как Вагнер своим искус- ством слова и при помощи рельефно-живописующей музыки воссоздает весноподобное зарождение и на- растание у юного Зигфрида любовных эмоций. Здесь — исполненный смутных предчувствий, мерцаю- щий сквозь глубины подсознательного комплекс свя- занности с матерью, полового влечения и страха —
109
я имею в виду тот сказочный страх, который Зиг- фриду хочется изведать, — следовательно комплекс, являющий изумительнейшее, интуитивное совпадение концепций Вагнера-психолога с концепциями другого типичного сына девятнадцатого века, психоаналитика Зигмунда Фрейда. В том, как в мечтах Зигфрида под липой мысль о матери едва уловимо переходит в эро- тику; в том, как в сцене, где Миме старается объяс- нить своему воспитаннику, что такое страх, в ор- кестре, наподобие некоего наваждения, настойчиво звучит причудливо искаженный мотив спящей в огне Брунгильды, — во всем этом предвосхищен Фрейд, все это не что иное, как психоанализ; вспомним вдо- бавок, что и у Фрейда, чьим предтечей—в огромном масштабе — в деле исследования глубин и тайников души является Ницше, психологические изыскания теснейшим образом связаны с интересом к мифиче- скому, изначально-человеческому и пракультурному. «Любовь в подлинной своей полноте, — говорит Вагнер, — возможна только в пределах пола. Только как мужчина, как женщина люди действительно спо- собны любить друг друга по-настоящему, тогда как всякая иная любовь всего лишь проистекает от этой любви, ею порождена, отражает ее или искусственно ее воспроизводит. Заблуждаются те, кто считают эту любовь (то есть любовь сексуальную) только одним из откровений любви вообще, рядом с которым якобы существуют иные откровения, быть может более вы- сокие». Это сведение всех решительно проявлений «любви» к сексуальному — несомненно аналитического свойства. В нем сказывается тот же психологический натурализм, который обнаруживается и в метафизиче- ской формуле шопенгауэровского «средоточия воли», и в фрейдовских теориях культуры и сублимации. В нем подлинно выражен девятнадцатый век. К слову сказать, эротический «материнский» комплекс вновь появляется в «Парсифале», в сцене обольщения второго акта, — и вот перед нами образ Кундри, самый мощный, самый, по художественной своей концепции, дерзновенный из всех, когда-либо созданных Вагнером; он сам, вероятно, сознавал
110
всю его необычайность. Первоначально в своих за- мыслах Вагнер исходил не от Кундри, а от эмоций, связанных со Страстной пятницей, но вскоре его ин- терес все более и более сосредоточивается на ее образе, на идейном и художественном его воплоще- нии, и осенившая Вагнера мысль, что ему надлежит объединить в одном лице неистовую вестницу Грааля и обольстительницу, иначе говоря — мысль о суще- ствовании двойной душевной жизни, является ре- шающим вдохновением и соблазном, вызывает со- кровеннейшее влечение к этому причудливому начи- нанию. «С тех пор как это мне открылось, — пишет он, — для меня стало ясно почти все, что связано с этим сюжетом». И в другом месте: «Мне все ярче и пленительнее представляется некое странное со- здание — женщина насквозь демонического склада (вестница Грааля). Если мне удастся воплотить этот вымысел, наверно появится нечто весьма оригиналь- ное». Оригинальное — какое трогательно-скромное, не- притязательное слово для определения того, что полу- чилось на самом деле. Вообще для женских образов Вагнера характерна своего рода благородная истерия, нечто сомнамбулическое, зачарованное и провидче- ское, вносящее в их романтическую героику черту свое- обычной, коварной современности. Но образ Кундри, этой розы ада, нельзя не назвать явлением патологии в мифе; в своей мучительной раздвоенности и рас- щепленности — одновременно instrumentum diabolil и жаждущая спасения кающаяся грешница — она дана с подлинно клинической беспощадной правди- востью, с натуралистической смелостью в распознании и изображении страшного душевного недуга; эта правдивость и смелость неизменно представляются мне предельным достижением знания и мастерства. И не она одна среди образов «Парсифаля» отмечена, в духовном смысле, печатью крайности. Когда в пер- воначальном эскизе этого последнего, завершаю- щего творения мы читаем о Клингзоре, что он является демоном скрытого греха, олицетворением Орудие дьявола (лат.).
111
бессильной ярости против греха, мы чувствуем себя перенесенными в мир христианского проникновения, в сокровенные, инфернальные душевные переживания, в мир Достоевского… Вагнер, поборник мифа, открывший миф для оперы, обращением к мифу принесший опере осво- бождение,— вот второе, во что надлежит углубиться; и в самом деле, мы не знаем композитора, равного ему по духовной близости с миром этих образов и идей, по умению волшебством своим вызывать и вновь оживлять миф; найдя путь от исторической оперы к мифу, он нашел самого себя; внемля ему, едва ли не начинаешь верить, что музыка ни для чего иного не создана, как лишь для служения мифу, и никогда уже не сможет поставить себе иную за- дачу. Воплощается ли у него миф в образе вестника, ниспосланного из безгрешных сфер для спасения не- винного существа и — увы! — вынужденного из-за маловерия возвратиться туда, откуда держал путь; являет ли он собою мудрый певучий рассказ о на- чале и конце мира, космогоническую, в сказочном духе, философию — всегда дух, сущность, звучание мифа схвачены с изумительной меткостью, с глубо- чайшей, коренящейся во внутреннем сродстве интуи- цией, язык мифа воссоздан с врожденной естествен- ностью, беспримерной в художественном творчестве. Это язык «минувшего» в его двузначности, заклю- чающей в себе «то, что было», и «то, что будет»; ми- фологическая сгущенность настроения, хотя бы в сцене Норн в начале «Гибели богов», где три до- чери Эрды предаются некоему священному судаче- нию о судьбах мира, или в появлении самой Эрды в «Золоте Рейна» и «Зигфриде», поистине не пре- взойдена. Сверхмощные аккорды музыки, сопрово- ждающей шествие с телом Зигфрида, славят уже не отрока, выросшего в лесу и пустившегося в странст- вия, дабы изведать страх, — они повествуют нашему чувству о том, что именно проходит там, за медленно сгущающейся пеленой тумана: солнечный герой — вот кто лежит на носилках, умерщвленный тусклым мраком; а на помощь чувству, приходит поясняющее
112
слово. «Ярость буйного вепря» гласит оно, а Гунтер, указывая на Хагена, говорит: «Вот вепрь проклятый, им витязь был растерзан благородный». Так взгляд, обращенный вспять, в далекое прошлое, пронизы- вает его вплоть до первичных, самых ранних истоков человеческого образотворчества. Таммуза и Адониса, сраженных вепрем, Осириса и Диониса, растерзан- ных и впоследствии возвращающихся в лице распя- того, которому копье римлянина должно прон- зить ребро, дабы можно было узнать его, — все, что было когда-то и будет всегда, весь мир красоты, закланной, убиенной яростью зимы, объемлет ми- фический этот взор, и потому пусть не говорят нам, что творец «Зигфрида» в «Парсифале» изменил самому себе. Страсть к исполненному чар творчеству Вагнера .сопутствовала мне в течение всей моей жизни, с тех пор как оно впервые открылось мне и я начал овла- девать им, постигать его. Никогда не забуду я того, что дало мне наслаждение этим творчеством и изу- чение его, не забуду часов глубокого, одинокого счастья среди театральной толпы, часов, когда ум и нервы полны были трепета и восторга, того проник- новения в волнующие и великие значимости, какое это творчество одно лишь способно даровать. Пыт- ливое мое тяготение к нему никогда не ослабевало; я, не пресыщаясь, внимал ему, восторгался им, на- блюдал его — не без недоверия, признаюсь в этом; но мои сомнения, возражения, нападки так же не способны были умалить его, как и бессмертная кри- тика, которой подверг Вагнера Ницше и которую я всегда воспринимал как некий панегирик наизнанку, как восхваление на иной лад. Эта критика была лю- бовной ненавистью, самобичеванием. Искусство Ваг- нера было великой любовной страстью жизни Ницше. Он любил это искусство так, как любил его Бодлер, .певец .«Цветов зла», о ком рассказывают, что он даже в агонии, в неподвижности, в полуидиотизме последних дней своей жизни улыбался от радости, —
113
il a souri d'allégresse — когда при нем называли имя Вагнера. Так и Ницше во мраке своего паралитиче- ского бытия, как только ему случалось услышать имя Вагнера, откликался, встрепенувшись: «Этого человека я очень любил». Он сильно ненавидел его по причинам духовного, культурно-нравственного по- рядка, которые здесь не место обсуждать. Но было бы странно, если б я оказался единственным, кто пришел к выводу, что полемика Ницше против Ваг- нера скорее способна разжечь преклонение, чем ослабить его. Против чего я всегда возражал, или, вернее ска- зать, к чему всегда оставался равнодушен, — это вагнеровская теория; мне трудно было уверить себя, что кто-либо вообще мог принять ее всерьез. Что мог я извлечь из этого суммирования музыки, слова, жи- вописи и жеста, выдававшего себя за единственно подлинное, предельное воплощение всякой творче- ской мечты? Из теории искусства, по которой «Зиг- фрид» якобы выше «Тассо»? Мне казалось весьма рискованным утверждение, что все отдельные искус- ства возникли из распада некоего изначально-теат- рального единства, к которому они должны, во благо свое и служа ему, вернуться. Искусство едино и со- вершенно в каждой из форм, в которых оно вопло- щается; чтобы довести его до совершенства, нет на- добности суммировать отдельные виды его. Подоб- ные воззрения представляют нам девятнадцатый век в скверном его выражении, скверно-механистическое мышление, и победоносное творчество Вагнера до- казывает не правильность его теории, а лишь собст- венную свою мощь. Оно живо и долго будет жить, но искусство переживет его в отдельных своих видах и будет волновать ими людей, как волновало во все времена. Ребяческим варварством было бы думать, будто сила и интенсивность художественного воздей- ствия зависят от степени его суммированного на- тиска на чувственное восприятие. Вагнер, страстный приверженец театра, — спра- ведливо будет сказать: театроман — тяготел к этому воззрению, считая, что основным требованием искус-
114
ства является самое непосредственное, самое исч^р* пывающе полное сообщение чувствам всего, что им надлежит воспринять. И чрезвычайно любопытно видеть, во что благодаря этому неумолимому требо- ванию превратилась в важнейшем его произведении, в «Кольце Нибелунга», драма, на которую были на- правлены все его помыслы, непреложным законом которой он объявлял именно исчерпывающе полное чувственное восприятие. История возникновения «Кольца» знакома всем. Во время работы над во- площением драматического эскиза «Смерть Зиг- фрида» для Вагнера, по собственным его словам, стало непереносимым, что столь многое приходилось предполагать известным, что началу действия пред- шествовало столько событий, осведомление о кото- рых пришлось бы внести в композицию самого про- изведения. Потребность воплотить ранее свершив- шееся в чувственных образах оказалась необоримой, и Вагнер принялся за работу в обратном порядке: он создал «Молодого Зигфрида», затем «Вальки- рию», затем «Золото Рейна»; он не знал покоя, по- ка не претворил все в сценическую реальность, вме- стив в четыре вечера все решительно — от первичного ядра, праначала, первого es-dur’ного трезвучия фагота во вступлении к «Золоту Рейна», которым тор- жественно, почти неслышно начинается рассказ. Воз- никло нечто изумительное, и понятен восторг, охва- тивший творца при созерцании осуществленного им этим путем исполинского плана, столь богатого но- выми возможностями углубленного художественного воздействия. Но то, что возникло, — чем оно, в сущ- ности, оказалось? Эстетика неоднократно отвергала циклическую драму как художественную форму. От- вергал ее и Грильпарцер. Он утверждал, что зави- симость частей друг от друга придает целому нечто эпическое, чем, правда, — с этим он согласен, — усили- вается его грандиозность. Но ведь это-то и опреде- ляет воздействие «Кольца Нибелунга», характер его мощи, и мы должны признать, что своеобразное ве- личие этого важнейшего произведения Вагнера ко- ренится в эпическом духе, в котором оно создано
115
и которым овеян и самый сюжет. «Кольцо» — сцени- ческий эпос, возникший из антипатии Вагнера к тя- готению над действием событий, ему предшество- вавших, — антипатии, как известно, чуждой античной и французской трагедии. Ибсен, со своей высокой аналитической техникой и своей изощренностью в развертывании предшествующих событий, в этом отношении гораздо более близок к классической драме. И есть известная доля комизма в том, что именно драматургический тезис Вагнера о полноте чувственного восприятия таким причудливым путем привел его к эпосу. Его отношение к тем отдельным искусствам, из которых он создал свое «совокупное произведение искусства», заслуживает того, чтобы над ним при- задуматься; в нем сказывается некий своеобразный дилетантизм, — недаром Ницше в своем исполнен- ном преклонения перед Вагнером «Четвертом не- своевременном размышлении» говорит о детстве и юности Вагнера: «Его юность — юность многосто- роннего дилетанта, из которого долго не выходит ничего путного. Ему не была предуказана замкну- тая сфера определенного искусства, во многих семьях переходящего от отца к сыну. С живописью, поэзией, сценическим искусством, музыкой он стал- кивался столь же близко, как и с образованием, ведущим к ученой деятельности; поверхностный на- блюдатель мог бы подумать, что он создан быть дилетантом». Действительно, не только поверхност- ный наблюдатель, но и наблюдатель вдумчивый, всматривающийся со страстным преклонением, дол- жен, с риском быть неправильно понятым, ска- зать, что искусство Вагнера — дилетантизм, с по- мощью величайшей силы воли и изощренности ума доведенный до монументальных размеров, до ге- ниальности. В самой идее объединения искусств есть нечто дилетантское, и если бы не достигнутое ценою величайшего напряжения сил подчинение их всех его титаническому, всевоплощающему гению — идея эта, несомненно, увязла бы в дилетантизме. Есть нечто сомнительное в его отношении к искус-
116
ствам; он, как ни нелепо это звучит, в какой-то мере невосприимчив к музам; Италия, изобразительные искусства не находят в нем никакого отклика. Он пишет Матильде Везендонк в Рим: «Смотрите и лю- буйтесь за себя и за меня. Мне нужно, чтобы кто- нибудь за меня это делал. Странно у меня обстоит дело в этом отношении: я в этом неоднократно убеждался и наконец окончательно убедился в Ита- лии. Сильное зрительное впечатление способно за- хватить меня на некоторое время — но ненадолго… По-видимому, одного зрения мне недостаточно для восприятия мира». Весьма понятно! Ведь Вагнер — человек, воспри- нимающий мир слухом, музыкант и поэт; но все же странно, что из Парижа он пишет той же Матильде Везендонк: «Ах, в каком упоении юное дитя от Ра- фаэля и живописи! Как это мило, прекрасно и успо- коительно! Лишь на меня одного это никогда и ни- мало не действует! Я все еще тот вандал, который за год пребывания в Париже не удосужился посетить Лувр! Разве этим не все сказано для вас?» — Не все, но, как-никак, многое, существенно и своеобразно его характеризующее. Живопись — великое искус- ство, столь же великое, как и вагнерово «совокупное произведение искусства». Она и до этого «совокуп- ного произведения» существовала как самостоятель- ное искусство и после него продолжает им быть; но на Вагнера она не действует. Не будь он так велик, мы не чувствовали бы себя столь глубоко оскорб- ленными за сокровенную сущность живописи! Ведь изобразительные искусства ничего не говорят ему — ни в прошлом своем, ни в животрепещущем настоя- щем. Того великого, что вырастает рядом с его твор- чеством,— живописи французских импрессиони- стов, — он почти не замечает, ему нет дела до нее. Его связь с нею ограничивается тем, что Ренуар на- писал его портрет, отнюдь не героизирующий того, кто на нем изображен, и вряд ли особенно ему по- нравившийся. Ясно, что его отношение к искусству слова совсем иное, чем к искусству изобрази- тельному. В течение всей его жизни искусство 117
--------------------------слова, особенно в лице Шекспира, бесконечно много давало ему, хотя согласно теории, служившей ему для возвеличения собственного таланта, он почти пренебрежительно отзывался о тех, кого именовал «поэтами от литературы». Но какое это имеет значе- ние, раз он сам внес огромнейший вклад в это искусство, обогатил его всем тем, что он создал, — причем, правда, всегда следует памятовать, что его творения не предназначены для читки и, будучи, в сущности, не «творениями слова», а «искусством музыки», нуждаются в дополнении сценическим об- разом, жестом, музыкой и лишь с помощью совокуп- ного действия всех этих средств достигают поэтиче- ского совершенства. С точки зрения языка им зача- стую присуще нечто напыщенное и вычурное, а частью и детское, некая величественная, самовластная неком- петентность — с прожилками подлинной гениальности, мощи, напряженности, изначальной красоты, уничто- жающими у нас все сомнения и лишь подкрепляю- щими нашу уверенность в том, что мы имеем дело с творениями, которые пребывают не в пределах ве- ликой европейской литературы и поэзии, а в стороне от них и являются указующими данными к некоему сложному театральному воплощению, между прочим нуждающемуся и в посредстве слова. Говоря об этих вкрапленных в дерзко-дилетантское блестках словесной гениальности, я имею в виду прежде всего «Кольцо Нибелунга» и «Лоэнгрина»; послед- ний в отношении искусства слова, быть может, са- мое чистое, благородное и прекрасное из всего, что создано Вагнером. Его гений является драматическим синтезом от- дельных искусств, и только как целое, как синтез, воплощает понятие подлинного, закономерного тво- рения. Отдельным частям, из которых оно сла- гается, — даже музыке как таковой и поскольку она не является средством к достижению общей единой цели, — присуще нечто необузданное, неоправданное, что перестает ощущаться лишь в великом целом, О том, что у Вагнера отношение к языку было иное, чем у наших великих поэтов и писателей, что он не 118
--------------------------обладал строгостью и тонким чутьем, направляю- щими тех, кто ощущает язык как драгоценнейший дар, как доверенное художнику средство выраже- ния, — об этом свидетельствуют его стихотворения «на случай», его обсахаренно-романтические поэмы, восхваляющие короля баварского Людвига Второго и посвященные ему, а также шаблонные, разудалые вирши, обращенные к друзьям и покровителям. Ка- ждый стишок Гете, сочиненный им по случайному поводу, — чистое золото поэзии, высокая литература по сравнению с этим словесным филистерством, этими переложенными в стихи грубоватыми шут- ками, вызывающими у почитателей лишь деланную улыбку. Пусть они тем усерднее читают то, что Ваг- нер писал прозой, — его эстетические, культурно- критические манифесты и самоизъяснения, произве- дения большого художника, свидетельствующие о поразительной зоркости ума и волевой сосредото- ченности мышления; однако ни по языку, ни в отно- шении идей их нельзя сравнить с эстетико-фило- софскими трудами Шиллера, хотя бы с его бессмертным сочинением «О наивной и сентименталь- ной поэзии». Их трудно читать, ибо они написаны расплывчато и вместе с тем тяжеловесно, опять-таки с примесью некоего необузданного, внелитературного дилетантизма; строго говоря, они не принадлежат к миру великих творений немецких и европейских эссеистов, не являются по сути дела произведениями писателя, обладающего природным к тому даром, а возникли походя, по необходимости. Все проявле- ния Вагнера в единичном и частном вызывались не- обходимостью. Счастлив, призван, совершенен, за- кономерен он лишь в едином великом целом. Но не был ли он и музыкантом лишь по необхо- димости, ради создания титанического целого и си- лою своей воли? Говоря о том, что так называемая одаренность отнюдь не может считаться наисуще- ственнейшей чертой гения, Ницше восклицает: «Как мало, например, одаренности у Рихарда Вагнера! Существовал ли когда-либо музыкант, который на двадцать восьмом году жизни был бы так беден?» 119
--------------------------Действительно, музыка Вагнера вырастает из робких, чахлых, несамостоятельных попыток, причем эти по- пытки он предпринимает гораздо позже, чем боль- шинство других великих музыкантов. Сам он пишет: «Мне помнится, что лет тридцати я еще, тревожно сомневаясь, вопрошал себя, есть ли у меня в самом деле задатки высшей художественной индивидуаль- ности; в своих работах я все еще ощущал влияния и подражание и лишь с гнетущей робостью осмели- вался размышлять о дальнейшем своем развитии как личности, творящей вполне самостоятельно». Это — взгляд, обращенный к прошлому уже в ту пору, когда мастерство было достигнуто, — в 1862 году. Но всего лишь тремя годами раньше, в сорок шесть лет, в дни, когда работа над «Тристаном» плохо по- двигалась вперед, он пишет из Люцерна Листу: «До чего жалким я чувствую себя как музыкант — чтобы заверить тебя в этом, я не нахожу достаточно убе- дительных слов. Я чистосердечно считаю себя со- вершенной бездарностью. Надо бы тебе видеть меня иногда, когда я сижу неподвижно и думаю: «Должно же дело все-таки пойти на лад!», затем иду к роялю, сочиняю какую-то скверную дребедень и тут же в полном унынии бросаю играть. Что я испытываю тогда! Как искренне во мне убеждение в подлинном моем музыкальном ничтожестве! Именно теперь, от тебя, в ком музыка бьет ключом, из кого она льется ручьями, потоками, каскадами, мне пришлось услы- шать то, что ты сказал… Мне поэтому очень трудно поверить, что это не сплошная ирония… Дорогой, все это очень сложно, и, поверь мне, у меня немного за душой». Это несомненная депрессия, ни в чем не соответствующая истине, и Лист по заслугам его отчитывает. Он упрекает его в «безумной несправед- ливости по отношению к самому себе». Впрочем, каждому художнику знакомо это внезапное чувство стыда за себя, вызываемое мастерством других, со- временников и предшественников. Оно объясняется тем, что работа над художественным творением всякий раз предполагает новое и само по себе уже требующее большого искусства приноровле-
120
ние личного и индивидуального к искусству в целом, и художник, даже если ею произведе- ние и признано, если оно удалось ему, — при срав- нении с достижениями других иной раз вопро- шает себя: «Как вообще возможно одним духом говорить о том, что является моей личной интерпре- тацией, и об искусстве вообще?» И все же у того, кто уже принялся за третье действие «Тристана», такая степень депрессивного самоуничижения, искрен- нейшего отчаяния перед лицом музыки представ- ляется чем-то удивительным, психологически стран- ным. Воистину, диктаторская самоуверенность Ваг- нера в старости, когда он в «Байрейтских листках» для вящего восхваления собственного искусства высмеивал и осуждал так много прекрасного — Мендельсона, Шумана и Брамса, — эта самоуверенность куплена ценой тяжкого горя, отчаяния и сокруше- ния, ранее причиненных ему искусством! Чем объ- ясняются эти приступы? Несомненно, лишь тем, что он сам в такие моменты впадал в ошибку, обособляя свое музыкальное творчество и тем самым сопостав- ляя его с наивысшим, что есть в музыке, тогда как это творчество — столь же верно и обратное — можно рассматривать лишь sub specie1 того, чем Вагнер проявил себя в искусстве слова, — а ведь из этой ошибки главным образом и проистекало то ожесточенное сопротивление, которое пришлось пре- одолеть его музыке. Нам всем, кому волшебный мир этих звуков, их одухотворенная магия даровали столько счастья, кого они уносили так далеко, в ком возбуждали такое преклонение перед огромным ма- стерством, достигнутым созидательной работой в оди- ночестве,— нам очень трудно понять это сопротив- ление, это отвращение; в том, как современники от- зывались о музыке Вагнера, в определениях ее как «холодной», «алгебраической», «бесформенной», мы усматриваем ужасающее заблуждение и отсутствие чутья, свидетельствующие о скудости понимания, о толстокожей невосприимчивости, и мы склонны С точки зрения (лат.).
121
думать, что подобные суждения могли исходить лишь из среды совершенно обывательской, чуждой искусству, забытой богом и музыкой. Но это неверно. Многие из тех, кто так судили и не могли судить иначе, были не филистеры, а люди, понимающие и чувствующие искусство, музыканты и ценители му- зыки, люди, которым судьбы музыки были дороги, которые справедливо притязали на умение отличать музыку от того, что не есть музыка, — и находили, что созданное Вагнером никак не музыка. Они были разбиты наголову, им было уготовано поражение на долгие времена. Но если они заблуждались — разве это заблуждение не простительно? Ведь музыка Вагнера так же мало является музыкой, как мало является литературой драматическая основа, кото- рая, дополняя эту музыку, придает ей облик поэти- ческого творения. Ее можно считать психологией, символом, мифом, эмфатикой — всем, чем угодно, но не музыкой в том чистом и полноценном значении, которое вкладывали в это слово смятенные судьи искусства. Тексты, вокруг которых она обвивается и, наделяя их полнотой, претворяет в драму, не суть достояние литературы, но зато музыка подлинно при- надлежит ей. Эта музыка, которая кажется нам бьющей наподобие гейзера из древнейших, пракуль- турных глубин мифа (и не только кажется, но и на самом деле такова), — к тому же пронизана мыслью, рассчитанна, — свидетельствует о высокой интеллек- туальности, изощренно умна, столь же продуманна литературно, как музыкально продуманны ее тексты* Музыка, разложенная на первичные свои элементы, должна служить цели наирельефнейшего воплоще- ния мифических философем. В основе неукротимой хроматики смерти Изольды — литературный замысел. Но и рокот волн Рейна, и те семь простейших глыбистых аккордов, из которых строится Валгалла, — порождение такого же замысла. Некий зна- менитый дирижер сказал мне, возвращаясь домой после исполнения «Тристана» под его управлением: «Это уже совсем не музыка». Говоря так, он разумел потрясение, нами обоими испытанное. Но то, что
122
сегодня мы приветствуем восторженным «да»,—" разве могло вначале не быть отвергнуто гневным «нет»? Музыки, подобной странствию Зигфрида по Рейну или плачу по убиенному Зигфриду — творе- ниям, доставляющим нашему слуху, нашей душе не- изъяснимое наслаждение, до той поры никогда не было слыхано, она является неслыханною в прямом, возмутительнейшем значении этого слова. Требовать, чтобы это нанизывание символических мотивов-цитат, покоящихся, словно обломки скал, в бурном потоке стихийных музыкальных изъявлений, чтобы оно вос- принималось как музыка в духе Баха, Моцарта и Бетховена, значило требовать слишком многого. Чрез- мерным было требовать, чтобы es-dur'Hoe трезву- чие, лежащее в основе вступления к «Золоту Рейна», согласились назвать музыкой. Оно и не было ею. То была акустическая мысль, мысль о начале всякого бытия. То было самовластно-дилетантское использование музыки в целях воплощения мифиче- ской идеи. Психоанализ утверждает, будто любовь слагается из совокупности всяческих извращений. И все же она была и есть любовь, самое божествен- ное явление вселенной. Так вот — гений Рихарда Ваг- нера слагается из совокупности дилетантизмов. Но каких дилетантизмов! Он музыкант такого склада, что даже людей немузыкальных привлекает к музыке. Эзотерикам и аристократам искусства это может показаться предосудительным, но что, если среди этих немузыкальных попадаются люди и поэты, такие, как Бодлер? Для Бодлера встреча с Ваг- нером явилась не чем иным, как встречей с музыкой« Он немузыкален, он сам писал Вагнеру, что ничего не смыслит в музыке и ничего в ней не знает, кроме не* скольких прекрасных композиций Вебера и Бетховена. А после встречи — безудержный восторг, вселивший в него честолюбивое стремление, уподобив слово му« зыке, сравняться при помощи одного лишь искусства слова с Вагнером, что имело важнейшие последствия для французской лирики. Таких прозревших4 ново-
123
обращенных эта неподлинная музыка, музыка для профанов, может разрешить себе; не один строгий ревнитель мог бы позавидовать тому, что она нашла таких последователей, да еще и многому другому. В этой эзотерической музыке налицо многое столь гениальное, столь прекрасное, что все эти различия становятся смешны. Мотив лебедя в «Лоэнгрине» и «Парсифале»; звучание летней лунной ночи в конце второго действия «Мейстерзингеров» и квинтет третьего; as-аиг'ная часть во втором действии «Три- стана и Изольды» и видение Тристана — возлюблен- ная, шествующая по волнам; музыка Страстной пят- ницы в «Парсифале» и исполински мощная музыка оркестрового интермеццо между двумя картинами третьего действия; прекраснейший дуэт Зигфрида и Брунгильды в начале «Гибели богов», с народной пе- сенной интонацией «Ради любви к Брунгильде» и по- трясающим «Слава тебе, Брунгильда, блистающая звезда»; некоторые части «грота Венеры» в той обра- ботке, которой Вагнер подверг их в пору создания «Тристана», — все это откровения, перед лицом кото- рых абсолютная музыка должна была бы бледнеть от зависти или краснеть от восторга. А ведь я совершен- но случайно, произвольно назвал именно эти места. Я точно так же мог бы привести другие или напо- мнить о том изумительном искусстве, с которым Ваг- нер изламывает, видоизменяет, переиначивает уже данный в ходе музыкального развертывания мотив, как, например, он это делает во вступлении к третьему действию «Мейстерзингеров» с песнью Ганса Сакса, по юмористической окраске второго акта знакомой нам в качестве грубоватой песни ремесленника, а за- тем — при появлении ее вновь в этом прологе, озаряю- щейся неведомой до того поэзией. Или же вспомним ритмическое и звуковое переиначение и новотолкова- ние, которому так называемый лейтмотив веры, уже знакомый по началу увертюры, многократно подвер- гается в развертывании «Парсифаля», впервые — в пространном рассказе Гурнеманца. Трудно говорить об этих вещах, когда только словом располагаешь для того, чтобы оживить их в памяти. Почему, когда
124
я говорю о музыке Вагнера, в моих ушах начинает звучать такая деталь, всего-навсего арабеска, как технически легко поддающаяся описанию и, в сущ- ности, все же неописуемая фраза валторны, в плаче по Зигфриду гармонично подготовляющая мотив любви его родителей? В такие минуты с трудом раз- личаешь, чем именно восторгаешься, что так глубоко тебя волнует — особое ли искусство Вагнера, кото- рым он один владеет, или сама музыка. Словом, это дивно, — не стыдишься этого слова, такого женствен- ного и восторженного, что одна лишь музыка спо- собна заставить наши уста произнести его… Для духовной сущности вагнеровской музыки ха- рактерны некая пессимистическая отягощенность, не- кое медлительное томление, изломанность ритма, борьба за искупление красотой, возникающая из су- мрачного хаоса; то музыка тяжко обремененной души, говорящая мускулам не о прелести пляски, а выражающая борение, неуклонное продвижение и устремление вперед, всю мучительность которого чрезвычайно метко охарактеризовал острослов Лен- бах, как-то сказавший Вагнеру: «Ваша музыка — да ведь это путешествие в царство небесное на ломовой подводе». Но она не только это. Духовная ее отяго- щенность не должна заставлять нас забывать обо всем том гордом, бойком и веселом, что она также способна выразить, хотя бы в рыцарских сюжетах, — в мотивах Лоэнгрина, Штольцинга и Парсифаля, в столь близком природе, русалочно-шаловливом оча- ровании терцетов дочерей Рейна, в пародийном остро- умии и ученом задоре вступления к «Мейстерзинге- рам», в подлинной живости веселого народного танца в третьем их действии. Вагнеру все по плечу. Он, как никто другой, умеет характеризовать, и по- стичь его музыку как средство характеристики — значит проникнуться беспредельным перед ней восхи- щением. Это искусство чрезвычайно выразительно, даже гротескно; оно, как того требует театр, пред- полагает некоторую дистанцию, но его отличает такое богатство вымысла, даже в мелочах, такая живая способность проницать явления, находить подлинно
125
соответствующую им речь и жестикуляцию, какие до тех пор в подобной законченности никогда еще не встречались. Вершин своих оно достигает в отдельных фигурах: в созданном из музыки и слова образе Ле- тучего Голландца, окруженного водной пустыней, об- реченного на вечные муки и в беспредельном отчаянии носящегося по грохочущим волнам. В стихийной импульсивности и коварной привлекательности Логе. В подмигивании и ужимках карлика, воспитавшего Зигфрида; в сумасбродстве и дурашливой злобе Бекмессера. В этом всемогуществе, этой всесущности пре- вращения и воплощения нам предстает дионисийский актер с его искусством, со всем многообразием этого искусства; он не только меняет человеческую маску — он глубоко проницает природу, его голос звучит в грозе и буре, в шелесте листьев и сверкании волн, в полыхании огня и в радуге. Шапка-невидимка Альбериха — универсальный символ этого гения маски- ровки, этого всемогущества подражания, в жалкой жизни жабы, в прыганье и ползанье ее раздутого тела проявляющихся столь же естественно, как в без- мятежном существовании витающих в облаках Асов. Из этого беспредельного могущества характеристики и возникает для Вагнера возможность созидать произведения столь различные духовно, как лютеровски- грубые, подлинно немецкие «Мейстерзингеры» — и алкающий смерти, опьяненный смертью мир «Три- стана». Каждое из этих творений он обособляет от других, каждое созидает из некоего первобытного основного звука, отличающего его от всех других, вследствие чего в пределах творчества Вагнера в це- лом, которое поистине представляет собой личный его космос, каждое отдельное произведение в свою оче- редь — подобное же законченное звездное единство. Между ними существуют музыкальные соприкоснове- ния и связи, в которых намечается органическое единство целого. В «Парсифале» порою слышатся от- звуки «Мейстерзингеров»; в музыке «Летучего Гол- ландца» можно уловить предвестия «Лоэнгрина», а в его тексте встречаются такие предварения рели- гиозного экстаза языка «Парсифаля», как слова:
126
«Бальзам священный моим ранам— слова и клятвы те струят»; воплощенные в Ортруде языческие припо- минания в христианском «Лоэнгрине» звучат уже по- нибелунговски. Но в целом каждое из этих творений стилистически обособлено от других, притом так, что тайна стиля в его значении как ядра искусства, как едва ли не самого искусства, становится очевидной, ясно ощутимой; тайна эта — в сочетании личного с вещным. В каждом своем творении Вагнер пред- стает нам подлинно самим собой, каждый такт никем, кроме него, не мог быть создан, каждый отмечен ни с чем не схожей его печатью, формулой его личности. И, однако, каждое из них в то же время является от- дельным своеобразным стилистическим мирком, пред- ставляет собой плод вещного вчувствования, уравно- вешивающего личное своеволие и в нем растворяю- щегося. Величайшим чудом в этом отношении, быть может, является творение семидесятилетнего Ваг- нера — «Парсифаль», непревзойденный в смысле по- знания и воплощения отдаленнейших миров, жутких и святых, — самое, даже в сравнении с «Тристаном и Изольдой», предельное из созданного Вагнером, сви- детельствующее о такой способности духовного и сти- листического приноровления, которая в конце его творческого пути превосходит все, к чему он перед тем приучил нас, — произведение, насыщенное звука- ми, которым вновь и вновь внимаешь с тревогой, любопытством и зачарованностькх «Скверная история! — пишет Вагнер в мае 1859 года из Люцерна, в разгаре работы над третьим действием «Тристана», целиком его захватившей, все« лившей в него тревогу за образ Амфортаса, давным- давно им задуманный и вынашиваемый. — Скверная история! Представьте себе, ради всего святого, что случилось! Вдруг я ужасающе ясно увидел, что Амфортас — мой Тристан третьего действия, в немы- слимом его усилении». — Это «усиление» — не завися- щий от воли Вагнера, основанный на самоуглублении закон жизни и роста его творчества. В течение всей своей жизни он изощрялся в воплощении терзаний и искупительных мук Амфортаса, Они уже заключены
127
в тангейзеровом «Как тяжела грехов мне ноша!», в «Тристане» они, казалось бы, претворились в поп plus ultra1 потрясающего выражения, но в «Парси- фале» ему — он с ужасом в этом убеждается — при- дется еще превзойти достигнутое в «Тристане», под- вергнуть его «немыслимому усилению». Суть дела — в предельном заострении воплощаемых эмоций, к ко- торым бессознательно подыскиваются все более убе- дительные и углубленные поводы и ситуации. Отдель- ные темы, отдельные произведения — ступени, все бо- лее и более мощные вариации некоего единства, замкнутого в себе, сферически-округленного творе- ния целой жизни, которое подверглось постепенному «становлению», но в известном смысле было налицо с самого начала. Отсюда переплетенность отдельных замыслов, переход одного замысла в другой, вслед- ствие чего художник, чье искусство отмечено этой чертой, этим духовным своеобразием, никогда не бы- вает исключительно занят той задачей, тем произведе- нием, над которым работает в данный момент, а одно- временно несет и бремя всего остального, постоянно отягощая им свое творчество. Появляется некая мни- мая (лишь наполовину мнимая) планомерность твор- ческой работы, распределяемой на всю жизнь, на- столько продуманная, что Вагнер в 1862 году, в раз- гар работы над «Мейстерзингерами», в письме из Бибриха к Бюлову как нельзя более определенно предсказывает, что «Парсифаль» будет последним его творением, — предсказывает ровно за двадцать лет до того, как осуществил этот замысел. Ведь предвари- тельно ему придется, чтобы заполнить все пробелы выработанного им творческого плана, написать «Зиг- фрида», в созидание которого еще вклиниваются «Тристан» и «Мейстерзингеры», — и всю «Гибель бо- гов» целиком. «Кольцо» тяготеет над ним в продол- жение всей его работы над «Тристаном», а «Три- стану» с самого начала сопутствует замысел «Парси- фаля». Этот замысел живет в Вагнере позднее, когда он трудится над пышущими подлинно лютеровским Здесь: в крайнюю форму (лат.).
128
здоровьем «Мейстерзингерами», — в сущности, он до- жидается воплощения с 1845 года, когда в Дрездене впервые был поставлен «Тангейзер». 1848 год отмечен эскизом в прозе, где миф о Нибелунгах сконцентриро- ван в драму, — записью «Смерти Зигфрида», которой суждено разрастись в «Гибель богов». Но в проме- жутке— с 1846 по 1847 год — был создан «Лоэнгрин» и уже вчерне разработан сюжет «Мейстерзингеров», являющихся юмористическим подобием «Тангейзера», дополняющей его сатировской игрой. Именно в соро- ковых годах у Вагнера — в середине этого десяти- летия ему исполнилось тридцать два года — целиком сложился тот план творческой работы всей его жизни, от «Летучего Голландца» до «Парсифаля», который он выполнял в течение последующих четырех десяти- летий, до 1881 года, в одно и то же время внутренне созидая все свои произведения, тесно между собой переплетенные. Его творчество не поддается точному хронологическому членению. В нем можно, правда, установить последовательность во времени, но вместе с тем оно целиком существует с самого начала. По- следнее из его творений, задолго им предугаданное как последнее, создано им в шестьдесят девять лет и для него знаменует освобождение, ибо оно означает конец, исход, завершенность и за ним ничто уже не грядет; работая над ним, старец, как художник пол- ностью выразивший себя, только над ним и работает; исполинский труд закончен,, и сердце, продержавшееся в течение семидесяти лет при величайших испытаниях, может наконец в последний раз сжаться — и остано- виться навсегда. Бремя этого творчества покоится на плечах отнюдь не столь дюжих, как плечи св. Христофора, на орга- низме, столь хилом и по внешним признакам и по субъективным ощущениям, что никто не осмелился бы предположить, что он долго продержится и донесет эту тяжелую ношу до намеченной цели. Это натура, ежеминутно находящаяся на грани изнеможения, для которой хорошее самочувствие является редкой
129
случайностью. В тридцать лет этот человек, страдаю- щий запорами, меланхолией, бессонницей, одержимый всяческими немощами, находится в таком состоянии, что часто в унынии садится и плачет с четверть часа. Ему не верится, что он доживет до завершения «Тан- гейзера». В тридцать шесть лет ему кажется дерзо- стным безумием взяться за осуществление «Нибе- лунга», а в сорок он «ежедневно думает о смерти» — он, кто почти семидесяти лет от роду напишет «Парсифаля». Его терзает нервный недуг — одна из тех не под- дающихся точному определению болезней, которые в течение долгих лет изматывают человека и грозят сделать ему жизнь невыносимой, хотя и не являются «опасными для жизни». Их жертвы имеют веские основания не веровать в эту «неопасность», и Вагнер в своих письмах не раз высказывает убеждение, что смерть его близка. В тридцать девять лет он пишет сестре: «Мои нервы вконец расшатаны; быть может, благоприятное изменение внешних условий жизни способно будет искусственно отдалить мою смерть на несколько лет; но это могло бы удаться лишь в отно- шении самой смерти, — моего умирания оно уже не может задержать». В том же году: «Я болен тяже- лой нервной болезнью и после многократных попыток добиться радикального излечения уже не надеюсь на выздоровление… Моя работа — единственное, что меня поддерживает; но нервы головного мозга у меня на- столько истощены, что я никогда не могу работать больше двух часов в день, и даже эти два часа я обретаю только в том случае, если после работы мне удается опять-таки на два часа прилечь и нако- нец ненадолго уснуть». Два часа в день. Из столь не- значительных, по крайней мере временами, каждо- дневных единиц составился гигантский труд жизни, в непрестанной борьбе с быстрым иссяканием сил осу- ществленный благодаря изумительной упругости, ко- торая вновь и вновь на краткий срок оживляла гас- нувшую энергию, — упругости, морально определяемой словом терпение. «Истинное терпение свидетельствует о большой упругости^,— говорит Новалис, а Шопен- 130
--------------------------гауэр восхваляет терпение как подлинное мужество. Целостное сочетание — телесное и нравственное — упругости, терпения и мужества, вот что дало этому человеку возможность выполнить свою миссию, и не- легко назвать жизнь другого художника, на которой так хорошо можно было бы исследовать своеобразную жизненную конституцию гения, сочетание чувствитель- ности и силы, хрупкости и выносливости, сочетание противоборства, и неожиданных для самого себя пре- одолений, являющееся источником великих созданий и, что весьма понятно, с течением времени порождаю- щее ощущение постоянной подвластности некоей за- даче, одаренной собственной независимой волей. Да, здесь трудно не поверить в некую метафизическую собственную волю творческого замысла, стремящегося к осуществлению, — замысла, для которого жизнь его творца лишь орудие, лишь жертва, добровольная и в то же время вынужденная. «Поистине, чувствуешь себя омерзительно, но все же чувствуешь себя» — вот одно из зачастую встречающихся в письмах Вагнера проявлений недоуменного и жестокого самовысмеива- ния. И он не преминул установить причинную связь между своим недугом и своим творческим бытием, истолковать и то и другое, и искусство и болезнь, как некое тяжкое испытание и в итоге сделал попытку ускользнуть от него — наивнейшим образом, посред- ством водолечения. «Год тому назад, — пишет он, — я находился в водолечебнице, с намерением стать со- вершенно здоровым в своих ощущениях человеком. Моим сокровеннейшим желанием было обрести здо- ровье, которое должно было дать мне возможность совершенно избавиться от пытки всей моей жизни — от искусства; то была последняя отчаянная борьба за счастье, за подлинную, благородную радость жизни, которая выпадает лишь на долю человека здо- рового и сознающего свое здоровье». Какое детски путанное и за душу хватающее при- знание! Холодными обливаниями хочет он излечиться от искусства, то есть от той конституции, которая де- лает его художником! Отношение Вагнера к искусству, року его жизни, настолько сложно, что с трудом под* 9* 131
--------------------------дается выяснению, оно сплетено из величайших противоречий, порою кажется, что он бьется в логи- ческой их безысходности, словно в тенетах. «И за такое дело мне еще взяться? — восклицает сорокашестилетний Вагнер, взволнованно изъяснив духовные и символические вехи своего замысла «Парсифаля». — Да еще написать музыку к этому? — Покорнейше благодарю! Пусть этим занимается кто хочет; я уж лучше буду держаться подальше!» — Надо вслушаться в звучание женского кокетства в этих словах, полных трепетной страсти созидать, полных сознания, что ему не уйти от этой задачи, и вожделеющего отнекивания! Мечта отделаться от искусства, обрести вместо обязанности творить право жить, быть счастливым вновь и вновь встречается в его письмах; слова «счастье», «благородное счастье», «благородное наслаждение жизнью» проходят в них как представление, контрастирующее с представле- нием о бытии художника, — проходят наряду с пони- манием искусства как способа замены всякого непо- средственного наслаждения. На тридцать девятом году жизни он пишет Листу: «Я с каждым днем при- ближаюсь к верной гибели; я живу неописуемо пре- зренной жизнью] Истинное наслаждение жизнью мне совершенно незнакомо; для меня наслаждение жизнью, любовью (это слово им подчеркнуто) суще- ствует лишь в моем воображении, но не в моем опыте. Вот почему моему сердцу пришлось вселиться в мой мозг, моей жизни — стать сплошь искусственной; лишь как поборник искусства, как «художник» могу я еще жить, «художник» поглотил во мне «человека». Нужно признаться, что никогда еще искусство так резко, в таких сильных словах, с такой исполненной отчаяния откровенностью не было охарактеризовано как наркотическое средство, гашиш, paradis artificiell. И на Вагнера находят приступы бурного возмущения против этого искусственного бытия, как, например, в письме к Листу, написанном в день, когда ему исполнилось сорок лет. «Я хочу вновь принять кре- Искусственный рай (франц.).
132
щение; не хочешь ли быть моим восприемником? Я хотел бы, чтобы мы оба затем немедленно удрали отсюда куда глаза глядят!.. Пойдем со мной бродить по белу свету, хотя бы даже нам пришлось погибнуть в буйном веселье, разбиться насмерть, ринувшись в бездну!» Вспоминается Тангейзер, крепко обхватывающий руками Вольфрама, чтобы увлечь его за собой в грот Венеры, ибо в самом деле — здесь фанта- зия, распаленная лишениями, представляет себе мир, «жизнь» как подлинный грот Венеры, как царство сплошного в богемном вкусе je m'en fichisme'a 1 и ги- бели в бешеном разгуле, — словом, всего того, чему заменой, как это ни «презренно», должно служить искусство. Но наряду с этим или, вернее, в странном сплете- нии с этой ролью искусство предстает ему в совер- шенно ином свете, а именно: как средство избавления, успокоительное лекарство, как состояние чистого со- .зерцания и безволия, ибо так философия научила его взирать на искусство, а он с духовной покладистостью и готовностью поучаться, свойственными людям искусства, охотно следует за ней. Разумеется, он идеалист! Смысл жизни не в ней самой, а в чем-то высшем, в созидательной задаче, в творчестве, и то, что ему приходится «непрестанно, вечно вести борьбу за самое необходимое», что он «нередко в течение долгих периодов вынужден думать лишь о том, как обеспечить на ближайшее время покой вовне и сред- ства к существованию и для этого, наперекор себе, подделываться под воззрения тех, кто могут помочь мне устроиться, казаться им совсем иным, чем я есть на самом деле, — это ведь, в сущности, возмути- тельно… Все эти заботы вполне естественны и легко переносимы для тех, кто на жизнь смотрит как на самоцель и для кого забота о добывании всего необ- ходимого — самая лучшая приправа к призрачному наслаждению тем, что они с таким трудом добывают; вот почему никто не может вполне уразуметь, отчего такому человеку, как я, все это так абсолютно Наплевательства (франц.).
133
противно, хоть оно и является общим уделом, законом жизни для всех. Но кто же способен по-настоящему, с полной ясностью понять, что изредка встречаются люди, взирающие на жизнь не как на самоцель, а как на неизбежное средство к достижению высшей цели?» (Письмо к Матильде Везендонк из Венеции, октябрь 1858 года.) И в самом деле, позорно и крайне унизи- тельно быть вынужденным так ожесточенно бороться за жизнь и выпрашивать на нее подаяние, когда смысл жизни видишь отнюдь не в ней самой, а в ее высшей, вне ее и над нею лежащей цели, в искусстве, в творчестве, ради которого необходимо завоевать себе мир и спокойствие и которое в свою очередь представляется художнику озаренным светом мира и спокойствия. Но когда ценою больших усилий нако- нец обретена свобода для самого важного — для ра- боты, требующей известных, нелегко выполнимых условий, тогда лишь начинается подлинный, неустан- ный добровольный труд высшего порядка, труд твор- ческий — борьба в искусстве, сущность которого для художника во время низменной борьбы за жизнь была окутана обманными иллюзиями философии, ибо оно отнюдь не является дарующим избавление позна- нием и чистым «представлением», а высшим, судо- рожным напряжением воли, подлинным, истинным «колесом Иксиона». Чистота и покой, — глубокое томление по ним жи- вет в груди Вагнера, дополняя в нем жажду жизни, и в те периоды, когда оно, как реакция на тщетное его стремление к непосредственному наслаждению жизнью, берет верх, искусство — этим его отношение к нему еще более усложняется — начинает казаться ему главным препятствием к спасению. Здесь в силу внутреннего сродства повторяется толстовское осужде- ние искусства, жестокое отрицание собственного при- родного дара во имя «духа». Ах, это искусство! Как прав был Будда, когда называл его наивернейшим пу- тем к погибели! В письме к Матильде Везендонк из Венеции, от 1858 года, Вагнер, поведав ей о своем за- мысле буддийской драмы «Победители», пространно и взволнованно это излагает. Буддийская драма — вот 134
--------------------------в чем загвоздка. Здесь налицо contradictio in adjecto1 — это он осознал, увидев, как трудно дать драматургиче- ское, а главное — музыкальное воплощение человека, достигшего полной свободы, отрешившегося от всех страстей, каким является Будда. То, что чисто, свято, умиротворено познанием, то мертво для искусства, святость и драматическое действие несовместимы — это ясно! И счастье, что Шакьямуни Будде, если ве- рить источникам, приходится разрешить последнюю проблему, пройти через последний конфликт: преодо- лев самого себя, он, отказавшись от суровых своих правил, решается принять девушку-чандалку Савитрн в общину святых. Благодарение богу, — этим со- здается возможность использовать Будду для искус- ства. Вагнер ликует — и в ту же минуту начинает испытывать муки совести от сознания тесной связан- ности искусства с жизнью, силы его соблазна. Разве он сам себя не уличил в том, что стремится к созда- нию драмы, а не к достижению святости? Если б не искусство, он мог бы стать святым; не отрешившись от искусства, он никогда им не станет. Каких вершин познания, каких глубин прозрения он бы ни достиг, они лишь будут обогащать его как поэта, как худож- ника, они предстанут перед ним в чарующих образах, исполненные увлекательной наглядности, и он не смо- жет устоять против искушения воссоздать их. Мало того, сама эта бесовская антиномия является для него источником наслаждения! Она омерзительна, но при- ковывает его интерес, немедленно возбуждает в нем сильнейшее желание воплотить ее в психологически- романтической опере, тут же, в письме к Матильде Везендонк, довольно отчетливо им намечаемой. Письмо является эскизом этой оперы. Гете сформули- ровал положение: «Ничто так прочно не отрешает от мира, как искусство, и ничто так прочно с ним не свя- зывает, как искусство». Посмотрите, во что это про- никнутое бесстрастной признательностью утверждение превратилось в мозгу романтика! 1 Противоречие между определяемым словом и определе- нием (лат.). J3Ô
--------------------------Но чем бы, в сущности, ни было искусство, какой бы обманчивой заменой подлинного чувственно пол- ного счастья и в то же время помехой спасению души оно ни являлось, творческая работа Вагнера благо- даря той могучей упругости, которою он сам в душе не может не восхищаться, непрестанно подвигается вперед: партитуры громоздятся друг на друга, — вот что важно. Этот человек так же мало ведает, как по- настоящему следует жить, как и все мы; жизнь дви- жет им и вымогает у него то, что ей от него нужно, — его творчество, нимало не тревожась о том, как бьется он в тенетах своих мыслей. «Дитя! Этот «Тристан» бу- дет страшен! Последний его акт!! Боюсь, что оперу запретят, если только плохое исполнение не превра- тит ее целиком в пародию, — лишь посредственные представления могут меня спасти! От подлинно хоро- шего исполнения люди должны обезуметь, иначе я себе этого не могу представить! Вот до чего я до- шел! Горе мне! А ведь работа сейчас шла так хорошо! Прощай!» Это — записка к Везендонк. Записка отнюдь не буддийская; в ней слышатся раскаты хохота, исступленного, полного ужаса перед злодейственной силой воплощаемого художником опьянения жизнью. В этом рыхлом меланхолике, чья болезнь, в сущности, являет собой лишь небюргерскую разновидность здо- ровья, таятся огромные запасы веселости, неистощи- мой жизненной силы. Какое живительное обаяние должно было исходить от этого человека, о личном общении с которым Ницше до конца своих дней неиз- менно говорил как о счастливейшем событии всей своей жизни! Прежде всего он обладает драгоценной способностью отбрасывать пафос и тешить себя ба- нальным; по окончании напряженнейшей работы це- лого дня он любил объявлять, что веселость, свой- ственная человеку, вступает в свои права, — объявлял об этом в Байрейте неизменным возгласом: «А те- перь— ни одного серьезного слова!», обращенным к сотрудникам-артистам, людям сцены, нужным ему для театрального воплощения его созданий и с кото- рыми он, сам насквозь проникнутый духом театра, хо- роший товарищ по колеснице Феспида, отлично ладиг, 136
--------------------------несмотря на большую интеллектуальную между ними дистанцию. Его простодушный мангеймский друг Гек- кель, первый пайщик Байрейта, весьма красочно рас- сказывает об этом. «Очень часто,— пишет он,— в лич- ном общении Вагнера с его артистами проявлялась самая непринужденная веселость; во время последней репетиции под рояль в зале гостиницы «Зонне» он из озорства прямо-таки стал на голову». Это снова на- поминает о Толстом,— я имею в виду эпизод, когда престарелый пророк, душевно сокрушающийся хри- стианин, из озорства, вызванного избытком жизнен- ных сил, вскакивает на плечи своего шурина Берса. Как все теноры и рассыпающие соловьиные трели певицы, что величают его «маэстро», он — человек искусства, то есть человек по своему внутреннему складу веселый и готовый увеселять других, устрои- тель развлечений и празднеств, тем самым являющий глубокую и весьма полезную для собственного здо- ровья противоположность тому, кто стремится к по- знанию истины, постигает ее и судит, кто ко всему относится абсолютно серьезно, как Ницше. Следует согласиться с тем, что художник, даже если он оби- тает в самых возвышенных сферах искусства, никогда не бывает абсолютно серьезным человеком, что для него важно впечатление, производимое на других, за- бава высокого свойства, и что трагедия и фарс имеют один и тот же корень. Внезапный поворот, перемена освещения превращают одно в другое: фарс скрыто воплощает трагическое, а трагедия в конечном итоге — возвышенная шутка. Серьезность художника — тема, наводящая на размышления. Она может показаться и несколько щекотливой, а именно — поскольку со- мнению подвергается интеллектуальная серьезность человека искусства, подлинная искренность отношения его к истине, ибо художественная его серьезность, знаменитая «игра всерьез» — самая чистая, самая тро- гательная форма величия человеческого духа — не подлежит сомнению. Но что следует думать о том другом ее виде, например об интеллектуальной серьез- ности мыслителя, искателя истины и глашатая ее Ри- харда Вагнера? Аскетически-христианские взгляды и 137
--------------------------учения, которыми он проникся и которые проповедо- вал в старости, эта зиждущаяся на причащении фило- софия святости, достигаемой воздержанием от «уго- ждения плоти» в каком бы то ни было смысле, эти идеи и убеждения, «воплощением» которых является драма о «Парсифале» и сам «Парсифаль», — несо- мненно, коренным образом отрицают, вычеркивают и опровергают ту пронизанную полнотой чувственного восприятия революционность молодого Вагнера, кото- рою определяются атмосфера и идейное содержание «Зигфрида». Она уже не существует, не должна была бы существовать. Если бы художник относился с подлинной интеллектуальной серьезностью к этим новым, поздно им постигнутым, воспринятым, ве- роятно, как конечные, истинам, его произведения бо- лее раннего периода должны были бы им быть при- знаны ошибочными, греховными, тлетворными — и по- сему быть отвергнуты им и сожжены собственной рукою творца, дабы человечество отныне никогда уже не подвергалось их воздействию, препятствующему его спасению. Но он и не помышляет об этом. Ему и в голову это не приходит! Кто бы решился уничтожить такие прекрасные творения? Все они продолжают со- существовать, все они по-прежнему исполняются, ибо художник чтит свою биографию. Он отдается на волю различных физиологических настроений, соответствую- щих различным возрастным периодам, и воплощает их в творениях, которые духовно противоречат друг другу, но все прекрасны и заслуживают быть сохра- ненными. Постижение новых «истин» для художника означает лишь новые импульсы в игре его творческих сил, новые возможности выражения. Он верит в них, принимает их всерьез ровно настолько, насколько это нужно, чтобы дать наивысшее их воплощение и таким образом достичь наиболее сильного воздействия. Сле- довательно, его отношение к ним очень серьезно — серьезно до слез, но все же не до конца, а посему ничуть не серьезно. Его серьезность как художника несомненна, это «игра всерьез» — и она абсолютного свойства. Его серьезность как мыслителя не абсо- лютна, ибо она — серьезность в целях игры. Вот. по- до
--------------------------чему художник в среде приятелей обнаруживает го- товность трунить над своей торжественностью — до такой степени, что Вагнер оказался способным по- слать Ницше «Парсифаля» с надписью: «Рихард Вагнер, непременный член духовной консистории». Но Ницше не умел по-приятельски и по-художнически относиться к таким вещам; подобная добродушно- подмигивающая покладистость не могла поколебать его смертельно-скорбной, абсолютной серьезности, примирительно ее настроить по отношению к подлажи- вающейся под католицизм христианственности творе- ния, о котором он сказал, что оно является дерзно- веннейшим вызовом музыке. Когда Вагнер в ребяче- ской ярости швырял брамсовскую партитуру с рояля на пол, Ницше подобные вспышки вражды художника к другому художнику и желания властвовать над всеми воспринимал с глубокой болью и говорил: «В эту минуту Вагнер не был велик!» Когда Вагнер, чтобы дать себе роздых, ударялся в тривиальность, дурачился и рассказывал саксонские анекдоты, Ницше краснел за него, и мы понимаем стыд, который в нем вызывало это быстрое изменение духовного уровня, хотя что-то в нас, быть может наша причастность к искусству, настойчиво твердит, что нам не следует так уж близко принимать это к сердцу. Знакомство с философией Артура Шопенгауэра является решающим событием в жизни Вагнера: ни одна из предшествовавших духовных встреч, хотя бы даже с Фейербахом, не может с ней сравниться ни в плане личного, ни в плане исторического ее значе- ния; ибо для него, кому она была «предуказана» в подлинном смысле этого слова, она означала выс- шее утешение, глубочайшее самоутверждение, духов- ное избавление, и несомненно лишь она дала его му- зыке смелость окончательного становления. Вагнер не очень-то верил в существование дружбы; в его глазах и в согласии с его опытом, грани индивидуа- лизации, разобщающие души, делали одиноче- ство непреодолимым, исчерпывающее понимание — 139
--------------------------невозможным. Здесь он чувствовал себя понятым и сам понимал до конца. «Мой друг Шопенгауэр», «Дар небес моему одиночеству», «Но есть у меня друг, — так он пишет, — которого я люблю все боль- ше и больше. Это мой старый, такой угрюмый на вид и все же столь глубоко любвеобильный Шопенгауэр! Какую ни с чем не сравнимую отраду я испытываю, когда, раскрыв эту книгу, внезапно, в какие бы дали, в какие бы глубины меня ни завлекли мои чувствова- ния, целиком нахожу себя отображенным в ней, вижу себя в ней предельно понятым, ясно выраженным — но только на том совершенно ином языке, который быстро превращает страдание в предмет постиже- ния… Это — прекраснейшее взаимное воздействие, взаимопроникновение, дарующее величайшее счастье; и это воздействие вечно ново, ибо оно все усили- вается… Как хорошо, что старик ничего не знает о том, чем он является для меня, чем я благодаря ему стал для себя самого». Для людей творческих счастье такого взаимного узнавания возможно лишь тогда, когда они говорят на разных языках; иначе оно становится катастрофой, гибельной альтернативой: «либо он, либо я». В такой связи, как в данном случае, — между двумя разными категориями, между образом и мыслью, — исключено соперничество, обычно возникающее при смежности, при тождестве душевных конституций. Изречение: «Pereant qui ante nos nostra dixerunt» l здесь так, же утрачивает силу, как и вопрос художника у Гете: «Что за жизнь, коль есть другие?» Напротив — то, что этот другой живет, воспринимается как помощь в злосчастье, как благостное, нежданное подтвер- ждение и разъяснение собственного бытия. По всей вероятности, никогда во всей летописи душ чело- веческих потребность смятенного, терзаемого чело- века — потребность художника — в духовной поддер- жке, в оправдании и наставлении мыслью не была удовлетворена столь чудесным образом, как это вы- пало на долю Вагнера благодаря Шопенгауэру. 1 Да погибнут сказавшие наши слова раньше нас (лат.). 140
--------------------------«Мир как воля и представление»! Сколько воспо- минаний о собственном, юношеском опьянении духа, о собственном, пронизанном меланхолией и благодар- ностью, счастье восприятия вызывает мысль о связи творчества Вагнера с этой мир критикующей и мир упорядочивающей книгой, этой поэмой постижения и художественной метафизикой инстинкта и духа, воли и умозрения, этим изумительным этически-пессими- стически-музыкальным созданием мысли, столь глу- боко родственным, по времени и по сущности, парти- туре «Тристана»! Вновь звучат старые слова, кото- рыми юноша в романе описывает соприкосновение своего героя с Шопенгауэром: «Неведомое чувство радости, великой и благодар- ной, овладело им. Он испытывал ни с чем не сравни- мое удовлетворение, узнавая, как этот мощный ум покорил себе жизнь, властную, злую, насмешливую жизнь, — покорил, чтобы осудить. Это было удовле- творение страдальца, до сих пор стыдливо, как чело- век с нечистой совестью, скрывавшего свои страдания перед лицом холодной жестокости жизни, страдальца, который из рук великого мудреца внезапно получил торжественно обоснованное право страдать в этом мире — лучшем из миров, или, вернее, худшем, как неоспоримо и ядовито доказывалось в этой книге». Они вспоминаются вновь, старые слова благодар- ности и восхваления, обращенные к тому, что, однажды осчастливив нас духовно, с тех пор продол- жало в нас трепетать, — к пробуждению среди ночи, в блаженном, внезапном испуге, от недолгого глубо- кого . сна, — ощущая при этом зерно зароненной в душу метафизики, в которой «я» предстает как нечто призрачное, смерть — как освобождение от не- совершенства этого «я», мир — как порождение воли, навечно ей принадлежащее, покуда, безраздельно себя постигнув, она не придет к отрицанию самой себя и ей не откроется путь от заблуждения к сладо- стному покою. Это — послесловие, учение о мудрости и о спасении, присовокупленное к философии воли, по всей своей концепции имеющей мало общего с мудрой умиротворенностью и покоем; выработать 141
--------------------------такую концепцию могла лишь натура, терзаемая своей необузданностью, натура волевая и увлекаю- щаяся, в которой, правда, влечение к очищению, оду- хотворению, познанию было столь же сильно, как и темное влечение, ее обуревавшее; это эротическая концепция мира, настойчиво объявляющая пол средо- точием воли, проповедующая эстетическое отношение к вещам, бескорыстное, чистое созерцание их как единственную возможность на время избавиться от пытки страстей. Волею, вожделением вопреки разуме- нию порождена эта философия, являющаяся интел- лектуальным отрицанием воли, и в этом ее аспекте Вагнер —глубоко, братски родственная творцу ее на- тура — воспринял ее и с величайшей признатель- ностью освоил как выражение его собственного «я», целиком его воспроизводящее. Ведь его натура тоже слагалась из бурно влекущей, мучительной воли к могуществу и наслаждению — и стремления к нрав- ственному очищению и спасению, из страстей — и жажды покоя; и философская система, представляю- щая собой своеобразнейшую смесь тяготения к покою и героики, вещающая, что «счастье»—химера, и за- ставляющая попять, что самое высшее, наиболее до- стойное устремления — это жизнь героическая; каким блаженством должна была она явиться для Вагнера, какое подлинное, словно для него созданное отобра- жение самого себя он должен был в ней усмотреть! У присяжных исследователей творчества Вагнера встречается высказываемое ими совершенно всерьез утверждение, будто философия Шопенгауэра не ока- зала влияния на «Тристана». Это свидетельствует о поразительном отсутствии понимания. Правда, в архиромантическом прославлении мрака, которым проникнуто это творение — возвышенно-болезненное, истомляющее и чарующее, глубоко пронизанное всеми самыми пагубными и самыми высокими тай- нами романтики, — нет ничего специфически-шопен- гауэровского. Чувственно-сверхчувственные интуиции «Тристана» имеют более отдаленные истоки; они вос- ходят к томимому страстью, больному чахоткой Но- валису, который пишет: «Тот союз, что переходит за 142
--------------------------грань смерти, есть брачный союз, дарующий нам по- другу для мрака ночного. В смерти любовь всего слаще; для того, кто любит, смерть — брачная ночь, тайна сладостных мистерий»; Новалису, кто в «Гим- нах к ночи» печально вопрошает: «Ужель всегда должно к нам утро возвращаться? Ужель земного власти нет конца? И никогда любви сокрытой жертва не возгорится пламенем навек?» Тристан и Изольда называют друг друга «обреченными ночи»—до- словно как у Новалиса; он говорит о тех, кто «ночи обречен». Но еще более удивительна в плане истории человеческого духа, еще более характерна для проис- хождения, для эмоциональной и идейной основы «Тристана» его связь с книжкой, пользующейся дур- ной славой, — с «Люциндой» Фридриха Шлегеля, где сказано: «Мы бессмертны, как сама любовь. Я уже не могу сказать «моя любовь» или «твоя любовь», ибо они одинаковы и слиты воедино, являясь в рав- ной мере любовью — и взаимностью. То брачный союз, единение и слияние навеки наших душ, не только для того, что мы называем этим миром, или же тем, иным, но для мира истинного, недели- мого, безыменного, беспредельного, для всего нашего бессмертного бытия и вечной жизни»… Вот духовное выражение волшебного, смертонос- ного напитка любви: «И поэтому я был бы готов, если бы мне показалось, что тому пришло время, так же радостно и так же легко осушить с тобой чашку лавровишневой воды, как последний бокал шампанского, который мы выпили вместе с тобою, с теми же, мною произнесенными словами: «Так выпьем же остаток нашей жизни!» — И мысль о смерти в любви здесь выражена: «Я знаю, и ты не захотела бы меня пережить, ты последовала бы в мо- гилу за опередившим тебя супругом, из любви и стра- сти к нему ринулась бы в пылающую бездну, куда ввергает индусских женщин изуверский закон, грубой преднамеренностью и насилием оскверняя и разру- шая хрупкие святыни доброй воли». Есть и упомина- ние об «энтузиазме сладострастия», что является подлинно вагнеровским определением, Есть тут —
143
в прозе — эротически-квиетистское восхваление и пре- возношение сна, райского покоя, священной тишины бездеятельности, в «Тристане» претворившееся в нежно убаюкивающий мотив валторны, в пение разделенных на партии скрипок. — И разве не сделал я ценной находки для истории литературы, когда; в молодые еще годы, подчеркнув в любовном диалоге Люцинды и Юлиуса пронизанную экстазом реплику- АО. вечное томление! Но придет наконец время, когда бесплодная тоска, призрачный блеск дня потускнеет и угаснет и в великой ночи любви наступит вечный покой!» — написал на полях: «Тристан». Мне и по сей день неизвестно, было ли еще кем-нибудь отме- чено, в качестве бессознательной реминисценции, это дословное заимствование, это повторение тождествен- ного, так же как мне неизвестно, знают ли филологи, что заглавие «Веселая наука» взято Ницше из шле- гелевской «Люцинды». В своем культе ночи, в своем отвержении дня «Тристан» и помимо воздействия Шопенгауэра пред- стает нам как творение романтическое, глубоко свя- занное с мироосмыслением и мироощущением роман- тиков. Ночь — родина и область романтики, ею от- крытая; всегда романтики противополагали ее как истинное благо мишурному блеску дня — царство чувствительности противопоставляли разуму. Никогда не забуду впечатления, которое на меня при первом моем посещении дворца Линдергоф, любимого место- пребывания душевнобольного и алкавшего красоты короля Людвига, произвело это преобладание ночи, выраженное там в пропорциях покоев. Жилые, пред-, назначенные для дневного пребывания помещения небольшого дворца, расположенного в чудесном гор- ном уединении, невелики и сравнительно скромны,— заурядные комнаты. Лишь один зал в нем, огромных сравнительно размеров, отделан позолотой, обтянут шелком, обставлен с громоздкой пышностью. Это — спальня с увенчанной балдахином, роскошно убран- ной кроватью, по обе стороны которой высятся золо- тые канделябры: настоящий дворцовый зал для празднеств, посвященных ночи. Это подчеркнутое
144
преобладание «более прекрасной половины суток», ночи, исконно, подлинно романтично; романтика свя- зуется со всеми проявлениями материнско-мифиче- ского культа луны, который с самой ранней поры че- ловечества противостоит почитанию солнца — религии мужского, отцовского начала; и вагнеровский «Три- стан» вовлечен в обширный круг этих магических соотношений. Но если те, кто пишут о Вагнере, утверждают, что «Тристан и Изольда»—любовная драма и как тако- вая выражает высшее утверждение воли к жизни, а посему не имеет ничего общего с учением Шопен- гауэра; если они настаивают на том, что ночь, воспе- тая в «Тристане», — ночь любви, когда «нас усла- ждает страсти нега», и что, если уж в этой драме и заключена какая-либо философия, она — прямая про- тивоположность учению об отрицании воли, а посему это творение Вагнера совершенно независимо от ме- тафизики Шопенгауэра, — то все это свидетельствует о разительном отсутствии психологического чутья. Отрицание воли — нравственно-интеллектуальный компонент философии Шопенгауэра, не имеющий су- щественно важного в ней значения, являющийся вто- ростепенным. Система Шопенгауэра — философия воли, эротическая в своей основе, и, поскольку она такова, «Тристан» весь насыщен, весь пропитан ею. Факел, угасание которого в начале второго действия мистерии акцентируется в оркестре мотивом смерти; экстатический возглас влюбленных: «Даже тогда я есмь мир», с мотивом томления взмывающий ввысь из глубин психологически и метафизически живопи- сующей музыки, — разве все это не от Шопенгауэра? В «Тристане» Вагнер поэтизирует миф в той же мере, как и в «Кольце»; в драме любви он тоже дает во- площение мифа о сотворении мира. В 1860 году он пишет из Парижа Матильде Везендонк: «Нередко я с тоской взираю на страну Нирваны. Но из Нир- ваны быстро передо мною вновь возникает Тристан; бы знаете буддийскую теорию возникновения мира: легкое облачко омрачает ясную гладь небес», — тут он вписывает те четыре хроматически устремляю-
145
щиеся ввысь ноты, которыми начинается и на кото- рых замирает его opus metaphysicnm l: gis-a-ais-h» — «Оно ширится, сгущается, и наконец весь мир вновь предстает мне плотной, непроницаемой массой»* Это — та символически выраженная в звуках мысль, которую принято называть «мотивом томления» и ко- торая в космогонии «Тристана» знаменует собой пра- начало всего, как знаменует его в «Кольце» es-dur'Hbrâ мотив Рейна. Это — «воля» Шопенгауэра, воплощен- ная в том, что Шопенгауэр называл «средоточием воли», в любовном вожделении. И это мифическое отождествление сладостно-мучительно-творческого начала, впервые омрачившего пустынную гладь небес, с половым влечением — настолько подлинно шопенгауэровское, что упорное отрицание этого при- верженцами Вагнера становится чудаческим упрям- ством. «Как могли бы мы умереть,—спрашивает Три- стан в первоначальном, еще не облеченном в стихо- творную форму наброске, — что можно было бы в нас умертвить, что не являлось бы любовью? Разве не все в нас дышит любовью? Разве может когда-нибудь прийти конец нашей любви? Разве мог бы я разлю- бить любовь? И если б я захотел умереть — могла бы умереть во мне любовь, когда в любви все наше бы* тие?» Здесь безусловное поэтическое утверждение тождества воли и любви. Любовь здесь взята взамен воли к жизни, воли, которую смерть не обрывает, а освобождает от давящих оков индивидуации. Кстати, весьма интересно проследить, в какой духов- ной неприкосновенности миф о любви воплощен в Тристане, как он оберегается от какого бы то ни было замутнения и искажения моментами историче- скими и религиозными. Такие обороты, как «Да будет он низвергнут в ад или вознесен на небеса», имею- щиеся в наброске, при разработке его отпадают. В этом, несомненно, выражается сознательное зате- нение всего исторического, но лишь в духовно-фило- софском его аспекте и ради него. Это затенение изу« Метафизический труд (лат.).
146
мительным. образом сочетается с интенсивнейшей яр- костью в живописании ландшафта, народности, культуры, с невероятной по верности ощущения и ма- стерству выполнения стилистической спецификой; ни- где вагнеровское искусство мимикрии не торжествует столь таинственным образом, как в стилесозидании «Тристана»: оно не ограничивается областью языка, не исчерпывает себя в речевых оборотах, подсказан- ных духом рыцарской эпики, а в силу некоей интуи- тивной гениальности искуснейшим образом внедряет кельтское начало, англо-нормано-французскую атмо- сферу в словесно-звуковой комплекс, пронизывает его ими насквозь с интенсивностью вчувствования, позво- ляющей нам постичь, какими тесными, родственными узами душа Вагнера связана с Европой периода, предшествовавшего образованию национальных госу- дарств. Только в плане спекулятивной мысли Вагнер, служа эротическому мифу, лишает его историчности и своевольно его очеловечивает. Ради мифа он исклю- чает небо и преисподнюю. Отсутствует христианство, которое в соответствии с исторической обстановкой должно было быть дано. Совершенно отсутствует ре- лигия. Нет и бога — никто его не называет, никто не взывает к нему. Есть одна лишь эротическая филосо- фия, атеистическая метафизика, космогонический миф, в котором мотив томления созидает мир. Здоровые формы, в которых проявляется болез- ненность натуры Вагнера, болезненные формы, в ко- торых проявляется ее героизм — лишь один из приме- ров всей противоречивости и сложности этой натуры, ее дву- и многозначности, обнаружившейся для нас уже в слиянии столь, казалось бы, противоположных по существу своему начал, как мифичность и психо- логичность. Понятие романтического в конечном счете наиболее подходит для приведения всех этих черт к одному знаменателю; но именно это понятие столь сложно, отливает таким множеством красок, что скорее означает отказ от определения, нежели само определение. Только у романтиков совершается слияние народ- ности с предельной изысканностью^ изощреннейшим
147
«коварством» (любимое выражение Э.-Т.-А. Гофмана) приемов и воздействий, только романтизм делает возможным то «двойное видение», о котором по по- воду Вагнера говорит Ницше и которое способно воздействовать и на самые грубые, и на самые утон- ченные натуры — (конечно, бессознательно, пошло- стью было бы приписать это спекулятивному рас- чету),— с тем результатом, что создания, подобные Лоэнгрину, способны приводить в восхищение такие умы, как творца «Цветов зла», и вместе с тем не- притязательно служить возвышению сферы народ- ного, наподобие Кундри вести двойную жизнь — в ка- честве опер, исполняемых по воскресеньям, и как предмет нежной любви многоопытных, душевностра- ждущих и переутонченных людей. Романтическое, особенно в союзе с музыкой, к которой оно испыты- вает глубочайшее тяготение, без которой не могло бы предельно себя проявить, не знает исключительно- сти, «пафоса дистанции». Оно никому не заявляет: «Это не для тебя»; какою-либо из своих сторон оно доступно самому последнему из людей, и пусть не го- ворят нам, что так обстоит дело со всяким великим искусством. И в других случаях великому искусству удавалось соединить наивное с возвышенным; но умение осуществить сочетание простодушно-сказоч- ного с предельно-изощренным, мастерски воплотить в оргию чувственного опьянения и сделать «всенарод- ной» высшую духовность, облечь глубокую гротеск- ность в таинство причащения и бряцающее волшеб- ство превращений, в дерзновеннейшей эротической опере слить воедино искусство и религию и создать в центре Европы для подобных благочестиво-нечести- вых действ некий театральный Лурд и грот чудес для удовлетворения религиозной похоти позднего, упадоч- ного мира, — все это мог сделать только романтик, в сфере классически гуманного, подлинно благород- ного искусства это было бы совершенно немыслимо. Перечень действующих лиц «Парсифаля» — что за компания, как посмотришь! Какое нагромождение предельной, предосудительной необычайности! Вол- шебник, оскопленный собственной рукой; необуздан-
148
нейшее двойственное существо, помесь искуситель- ницы и кающейся Магдалины, в каталептическом со- стоянии переходящее из одной формы своего бытия в другую; томящийся в любви верховный жрец, чаю- щий, что девственный отрок принесет ему искупление; этот отрок, наконец, блаженный и нищий духом, со- вершенно иного склада, чем бойкий юноша, пробу- дивший от сна Брунгильду и в своем роде тоже являющий нам некую разновидность причудливого своеобразия,— все они напоминают жуткую меша- нину, сваленную в пресловутой карете Ахима фон Арнима, где есть и странная колдунья-цыганка, и мертвец Медвежья Шкура, и Голем в образе жен- щины, и фельдмаршал Корнелий Непот, являющий собою корень, выросший под виселицей Альрауны. Сравнение это покажется кощунственным — и все же проникнутые торжественностью персонажи «Парси- фаля» восходят к тому же приверженному крайно- стям романтическому вкусу, что и диковинные суще- ства, выведенные у Арнима; в новеллистическом оформлении это легче было бы распознать. Музыка, наделяющая их мифичностью и святостью, маскирует это родство, и, будучи порождено патетическим ее ду- хом, это творение предстает нам не в обличье жут- кого и шутливого озорства, как у писателей-романти- ков, а как некое высокорелигиозное, священное дей- ство. Раздражение, вызываемое отливающей всеми цве- тами радуги проблемой искусства и артистичности, меланхолическая восприимчивость к искоркам иро- нии, перебегающим от сущности художественного тво- рения к его воздействию, — все это типично для юных лет, и мне вспоминается ряд связанных с этим юношеских моих высказываний, характерных для моей, прошедшей сквозь критику Ницше, страсти к Вагнеру, — высказываний, продиктованных тем «омерзением постижения», которое, как наиболее родственное юности, заимствовалось мною у Ницше. Он заявляет, что к партитуре «Тристана» относится с «некоторой опаской». «Кто, — восклицает он,— кто осмелится назвать то слово, которым подлинно опре- 149
--------------------------деляются «ardeurs» * музыки «Тристана»? Сейчас не- сколько стародевичий комизм подобной постановки вопроса гораздо острее ощущается мною, чем в ту пору, когда мне было двадцать пять лет. Ибо ка« кая же тут требуется особая «смелость»? Чувствен- ность, безграничная, спиритуализованная, мистически претворенная и выраженная с предельным натурализ- мом, неутолимо алкающая чувственность — вот оно, это слово, и невольно спрашиваешь себя, откуда вдруг взялась у «свободного, столь свободного ду- хом» Ницше эта ненависть к половому влечению, на которое он в своем вопросе намекает в порядке пси- хологического доноса? Разве тем самым не выпадает он из взятой на себя роли защитника жизни против нравственности? Разве это не выдает в нем с головою пасторского сына, моралиста до мозга костей? К «Тристану» он применяет созданную мистиками формулу «сладострастия ада». Что же, достаточно сравнить мистику «Тристана» с мистикой гетевского «блаженного томления» и его «высшего соития», чтобы убедиться в том, как мало у Вагнера общего со сферою Гете. Но насколько более страждущим душевное состояние Запада стало за девятнадцатый век по сравнению с эпохой Гете — этому, в конечном итоге, сам Ницше не менее наглядный пример, чем Вагнер. Воздействие того же порядка, что и музыка Вагнера, наркотизирующее и вместе с тем возбу- ждающее, оказывает ведь на нас и море, и, однако, никто не счел бы уместным перед лицом моря вда- ваться в психологические разоблачения. То, что до- зволено великой стихии, должно быть дозволено и ве- ликому искусству, и когда Бодлер, далекий от пози- тивной нравственности, с простодушным восхищением художника говорит о том «экстазе, слиянии воедино блаженства и постижения», в который его повергает вступление к «Лоэнгрину», когда он прославляет «грезы, подобные сновидениям после опия», и «не- изъяснимое упоение, . царящее в этих возвышенных сферах», он, несомненно, проявляет гораздо больше 1 Пыл (франц.)* 150
--------------------------свободомыслия и жизненной отваги, чем Ницше с его сомнительной «опаской». Правда, его определение вагнеромании как некоей «не слишком тяжелой эпи- демии чувственности, которая не сознает своей при- роды», остается в силе, и, быть может, именно это «неосознание своей природы» является тем, что при мысли о романтической популярности Вагнера раз- дражающе действует на некую нашу потребность в ясности, — является, быть может, причиной реше- ния: «лучше держаться подальше». Драматургическая одаренность Вагнера, его спо- собность в одном и том же образе сочетать воедино народное и изощренно-духовное ярче всего про- является в герое революционного периода его жизни, в Зигфриде. «Трепетный восторг», который буду- щий директор байрейтского театра, как он сам рас- сказывает в своей статье «Об актерах и певцах», однажды испытал на представлении театра марионе- ток, — этот восторг принес свои плоды, нашел выра- жение в инсценировке «Кольца», являющегося благо- даря своему незатейливому герою идеалом народного увеселения. Кто может отрицать разительное сход- ство Зигфрида с размахивающим дубинкой миниа- тюрным персонажем наших ярмарочных балаганов? Но в то же время он ведь сын небесного светила и олицетворение северного мифа о солнце, что, однако, не мешает ему являть собой, в-третьих, нечто весьма современное, принадлежащее девятнадцатому веку, а именно — свободного человека, разбивающего древние скрижали и обновляющего развращенное общество, быть Бакуниным, как не обинуясь всегда его называет веселый рационалист Бернард Шоу. Да, он ярмарочный скоморох, бог солнца и революциони- зирующий общество анархист в одном лице — боль- шего театр не может требовать; и это искусство запу- тывания выражает лишь природу самого Вагнера, за- путанную и во всех отношениях поддающуюся весьма различным истолкованиям. Он не поэт и не музыкант, он — нечто третье, в чем оба эти свойства сливаются 151
--------------------------так, как это ни до, ни после него не встречалось: он Дионис театра, умеющий и поэтически обосновы- вать и как бы рационализировать грандиозные собы- тия, им воплощаемые. Но поскольку он, следовательно, все же художник слова, он является им не в совре- менном его значении, не как носитель культуры и ли- тератор, не благодаря своему интеллекту и сознанию, а в ином, гораздо более задушевном и сокровенном смысле: его силами, через его посредство творит душа народа, он лишь ее рупор и орудие, лишь «чревове- щатель господень», как удачно сострил Ницше. Во всяком случае, таково правильное и ортодоксальное понимание его поэтического творчества, и некая огромного размаха неуклюжесть, под углом зрения культуры и литературы в нем обнаруживающаяся, как будто подтверждает это понимание. Однако при этом он способен был написать: «Нельзя недооцени- вать значение мысли; произведение, творимое бессо- знательно, принадлежит периодам, весьма от нас от- даленным; произведение периода наивысшего рас- цвета образованности не может быть создано иначе, как сознательно». Это сокрушительнейший удар, на- несенный теории чисто мифического происхождения его творений, и в самом деле, в них наряду со всем тем, что отмечено печатью вдохновения и слепо-бла- женного восторга, столько глубоко и тонко продуман- ного, насыщенного намеками, сознательно сплетае- мого воедино; наряду с титаническим зодчеством, зодчеством богов, — столько умного, кропотливейшего труда, что вера в созидание им в трансе, вслепую, оказывается совершенно несостоятельной. Тот исклю- чительный ум, что проявляется в его критических ра- ботах, правда, служит не подлинно интеллекту, «ие истине», не отвлеченному познанию, а его собствен- ному творчеству, которое ему надлежит разъяснить, оправдать, которому он должен проложить путь, во- внутрь и Еовне, — но тем не менее ум этот является неоспоримым фактом. Возможно еще предположение, что в процессе творчества ум был совершенно выклю- чен, уступил место нашептываниям «души народа». Но чувство, говорящее нам, что не могло этого быть,
152
находит подтверждение в целом ряде более или ме- нее достоверных данных о его жизни, свидетельствую- щих о том, что очень часто упорству приходилось заступать место вдохновения, что, по собственному его признанию, лучшее из всего, им написанного, ему удалось создать лишь с помощью размышления; это же подтверждается и приписываемыми ему выска- зываниями такого примерно содержания: «Ах, я делал попытку за попыткой, думал, размышлял без конца, пока наконец не достигал того, что мне было нужно». Словом, его творчество как поэта и художника находится в соприкосновении с периодами, «весьма от нас отдаленными», а вместе с тем — принадлежит вре- менам, когда большие полушария мозга давным- давно уже прошли путь развития, приведший к совре- менному интеллекту. Этому соответствует являю- щаяся подлинной его сущностью нерасторжимая слитность демонизма с бюргерством, как и у Шопен- гауэра, который именно в этом отношении особенно близок ему и по эпохе, и по всему своему складу. Небюргерская приверженность его натуры к крайно- стям, которую он старается приписать музыке, го- воря: «Она-то и превращает меня в человека, выра- жающегося возгласами, и восклицательный знак, в сущности — единственный знак препинания, способ- ный меня удовлетворить, когда я покидаю мир зву- ков!»— эта приверженность сказывается в восторжен- ном характере всех его душевных состояний, в част- ности депрессивных; она обнаруживается вовне, в его судьбе (ведь судьба — лишь выявление характера) — в его разладе с миром, его истерзанной, гонимой, су- дорожной, из стороны в сторону швыряемой жизни, драматико-лирический рассказ о которой он вклады- вает в уста Зигмунда, глашатая его страданий: «Меня влечет к мужчинам, к женщинам влечет; сколько их ни встречал, где бы их ни находил, друга ли, жену ль обрести хотел — всегда впадал в немилость, злосча- стье тяготело надо мной. Какой бы ни дал правиль- ный совет — всегда недобрым он другим казался; в чем зло, погибель видел я—другие с радостью
153
к тому стремились. Куда бы в странствиях своих я ни пришел — везде вражда меня встречала; везде одну я злобу находил. Блаженства я алкал и пробуждал страданье…» Здесь каждое слово подсказано личным опытом и нет ни одного, которое в точности не подхо- дило бы к его собственной жизни; в прекрасных этих стихах высказано то, что он в прозе пишет Матильде Везендонк: «… ибо мир, в сущности говоря, не хочет меня принять». Или ее мужу: «…мне так трудно устроиться в этом мире, тут не обойтись без тысячи ошибок… Трудно со мной… Вот почему мир и я, — мы противостоим друг другу, как два туполобых упрямца, и, конечно, тот из нас, у кого череп посла- бее, должен им платиться, отчего, вероятно, и про- исходят частые у меня нервные головные боли». Эта проникнутая отчаянием шутливость дополняет его облик. Лет сорока восьми он упоминает о той «не- обузданной веселости», которою в Веймаре тешил всех, — «по той простой причине, что стоит ему только стать серьезным, как он немедленно обмякает, впа- дает в расслабленность». «Это — дурное свойство моего темперамента, приобретающее надо мной все большую власть; пока я еще сопротивляюсь ему изо всех сил, ибо у меня ощущение, что когда-нибудь я неминуемо изойду слезами!» Какое излишество в сла- бости! Какая эксцентричность в духе капельмейстера Крейслера! Страстные взлеты и падения своей лично- сти, буйный, трагический ее пафос он, стилизовав их в мрачнейших тонах, придав им черты обреченности и мучительной тоски по искуплению и покою, рельеф- нее всего отразил в «Летучем Голландце», чудесно их использовав для ожизления этой фигуры и придания ей красочности; большие интервалы, на которых по« строена партия «Голландца», уже сами по себе, и притом характернейшим образом, создают впечатле- ние волнения и смятенности. Нет, этот человек — не бюргер в смысле какой- либо размеренности и приспособленности. И все же его окружает- атмосфера бюргерства, атмосфера его века, та, что окружает и Шопенгауэра, философа ка- питализма: морализирующий пессимизм, настроение
154
распада, под звуки музыки совершающегося,.подлинно характеризующие девятнадцатый век и сочетающиеся fi нем с монументальностью, с большими масштабами, словно величие — неотъемлемая принадлежность мо- рали. Повторяю, его окружает атмосфера бюргерства, притом не только в этом, общем ее значении, но и еще в другом, гораздо более личном плане. Я не буду настаивать на том, что в 1848 году он выступал как революционер, как поборник интересов среднего класса, был, следовательно, бюргером политически активным; он был таковым на свой особый лад — как художник и в интересах своего творчества, творчества революционного, для которого он от ниспровержения существующего строя ждал идейных выгод, улучше- ния условий своей деятельности. Но, при всей его ге- ниальности и одержимости, в некоторых более интим- ных чертах его личности ясно обнаруживается бюргер- ское,— так, например, когда он после переезда в приют на зеленом холме, близ Цюриха, с боль- шим удовлетворением пишет Листу: «Все устроено на долгий срок, сообразно моим желаниям и потребно- стям, все вещи размещены так, как нужно. Мой ка- бинет обставлен с известной тебе педантичностью и элегантным комфортом; рабочий стол стоит у боль- шого окна…» Как педантичный порядок, так и бюр- герская элегантность окружения, необходимые ему для работы, соответствуют тому элементу обдуман- ности и мудрого усердия в созидании, которого его творчество, при всем своем демонизме, отнюдь не лишено и который является подлинно бюргерскою его чертою; более поздняя его самоинсценировка в облике «немецкого мастера» с дюреровским беретом на го- лове внутренне, по природному его складу была вполне оправдана, и было бы несправедливо за всем тем вулканическим, огненно-расплавленным, что рас- крывается нам в этом творчестве, недооценивать старонемецкий его элемент, восходящий к старинным нашим мастерам, — простосердечное терпение, пре- данность своему ремеслу и вдумчивую усидчивость, которые в нем также налицо и столь для него суще- ственны* Он пишет Отто Везендонку: «Сообщу вам
155
вкратце1 о ходе моей работы. Когда я взялся за нее, я был исполнен надежды, что смогу весьма быстро ее закончить… Но отчасти я был настолько поглощен всевозможными заботами и огорчениями, что неодно- кратно и подолгу не в состоянии был работать; отча- сти же я вскоре так глубоко и незыблемо проникся своеобразным отношением к нынешним моим работам (которые я никак не могу выполнить на скорую руку, а лишь постольку могу испытывать от них удовлетво- рение, поскольку каждая мельчайшая их деталь исхо- дит из удачного замысла и соответствующим образом мною разработана), что мне пришлось отказаться от того поспешного, эскизного выполнения, которое пред- ставлялось единственно возможным в такой краткий срок». Это та самая «честность и добросовестность», которые Шопенгауэр, как он утверждает, унаследо- вал от своих предков-купцов и перенес в сферу духов- ных ценностей. В этом сказываются та основатель- ность, та бюргерская аккуратность работы, что выра- жена и во внешнем виде вагнеровских партитур, не впопыхах набросанных, а чрезвычайно тщательно и разборчиво написанных, в частности — в партитуре самого экстатического его творения, «Тристана», являющейся образцом четкого, искусного письма. Нельзя, однако, отрицать, что пристрастие Вагнера к бюргерской изысканности с течением времени из- вращается, начинает принимать характер, уже ничего общего не имеющий с немецким шестнадцатым веком, с духовным укладом старинных мастеров и дюреров- ским беретом, а показывающий нам девятнадцатый век в дурном его интернациональном выражении, ко- роче говоря: характер буржуазности. Его личность как человека и художника отмечена не только старо- бюргерскими, но и современно-буржуазными свой- ствами: тяготением к изобилию и роскоши, к богат- ству, к шелкам, к бархатам, к пышности эпохи грюндерства — черта прежде всего частной его жизни, но сильно сказавшаяся в сфере духовного и художе- ственного. В конце концов вагнеровское искусство и макартовский букет (с павлиньими перьями), укра- шавший обтянутые шелком, раззолоченные гостиные
156
буржуазии того времени, — явления одной и той же эпохи, восходящие к одним и тем же эстетическим- воззрениям; известно ведь, что Вагнер намеревался заказать Макарту декорации для своих опер. В письме к госпоже Риттер он пишет: «С недавних пор мною снова овладело пристрастие к роскоши (правда, те, кто могут себе представить, что именно она призвана мне заменить, сочтут меня очень нетребовательным); по утрам я располагаюсь посреди всей этой роскоши и работаю; это — самое необходимое, и утро без ра- боты для меня как день в аду…» Не знаешь, что тут более бюргерское: любовь к роскоши — или же то, что утро без работы кажется таким невыносимым. Но здесь мы уже приближаемся к тому пределу, за ко- торым буржуазное перерождается в нечто жутко- артистичное, дерзновенное, предосудительное, прини- мает характер трогательной, возбуждающей почти- тельный интерес болезненности, к которой слово «бюргерское» никак уж не применимо, — прибли- жаемся к своеобразнейшей области стимуляции, ко- торую Вагнер в письме к Листу описывает иносказа- тельно, в очень сдержанных выражениях: «Ибо меня обуревает истинное отчаяние каждый раз, когда я вновь берусь за искусство; но уж если это так, уж если я снова должен отрешиться от действительности, снова броситься в волны художественного вымысла и находить удовлетворение в мире, созданном моей мечтой, то по крайней мере моя фантазия должна обрести помощь, мое воображение должно найти опору. Не могу я при такой работе жить как собака, спать на соломе и услаждать себя сивухой. Я дол- жен испытывать ласкающие меня ощущения, для того чтобы мой дух мог совершить мучительно труд- ное дело — сотворить несуществующий мир. Когда я теперь вновь взялся за план «Нибелунгов» и оконча- тельное их воплощение, многое должно было соеди- ниться, чтобы привести меня в необходимое, артисти- чески-блаженное настроение; я должен был получить возможность жить лучше, чем жил в последнее время». Формы его «пристрастия к роскоши», «ла- скающие ощущения», которые должны служить опо-
157
рой его воображению, хорошо известны. Это те под- битые гагачьим пухом шелковые халаты, в которые ой кутается, те атласные, отделанные позументом и расшитые гирляндами роз одеяла, под которыми он спит, — осязательные проявления расточительной пышности, ради которой он влезает в многотысячные долги. Пестрые атласные одеяния — вот та роскошь, которою ок облекается, прежде чем сесть за работу, за свое мучительно-тяжелое дело. Нарядившись в них, он обретает «артистически-блаженное настроение», необходимое ему для зоссоздания подлинной героики Севера, возвышенной символики природы, для вопло- щения златокудрого, солнцеподобного отрока-храб- реца, у раскаленной наковальни кующего меч по- беды, — картины, пробуждающие в сердцах немецких юношей энтузиазм, горделивое чувство доблести и мощи. Этот контраст ровно ничего не доказывает. Гни- лые яблоки в столе Шиллера, от запаха которых Гете едва не лишился чувств, ни для кого не являются аргументом против подлинного величия его творче- ства. Условия, в которых нуждался для своей работы Вагнер, случайно требовали больших затрат, — впро- чем, можно себе представить иные способствующие созиданию костюмировки, хотя бы монахом или сол- датом, более подходящие для сурового служения искусству, нежели атласные халаты. И как здесь/так и там мы имеем дело с проявлениями жуткой, но безобидной патологической артистичности, только ме- щан способной приводить в смятение. Правда, есть и разница, отрицать которую невозможно. В творениях Шиллера нет следа тех гнилых яблок, чей отзываю- щий тленом запах стимулировал его. Но кто может отрицать, что атлас так или иначе ощущается в тво- рениях Вагнера? Бесспорно: в воздействии, оказывае- мом творениями Шиллера, в том, как они овладели человечеством, идеалистическая воля Шиллера про- является более целостно и односмысленно, чем отра- зились в характере воздействия произведений Ваг- нера этические взгляды их творца. Его убеждения как реформатора в области культуры были враждебны
158
искусству как роскоши, направлены цротив роскоши в искусстве; он провозглашал очищение, одухотворе- ние оперы, в его понимании целиком покрывающей понятие искусства вообще. Он презрительно именовал Россини «сладострастным сыном Италии, блаженно улыбающимся в лоне величайшей роскоши», италь- янскую оперную музыку называл «непотребной жен- щиной», французскую — «кокеткой с холодной улыб- кой на устах». Но разве эта обусловленная художе- ственными и поэтическими мотивами ненлвисть, это отвращение нашли себе вполне соответствующее вы- ражение в самом его искусстве и в приемах его воз- действия, в том, посредством чего оно пленило и под- чинило себе буржуазное общество Европы и всего мира? Разве не было все то сладостно-упоительное, чувственно-ранящее, чувственно-томящее, дурманя- щее, гипнотизирующе-обволакивающее, плотно и пышно простеганное, — словом — все то изысканно- роскошное, что есть в его музыке,— разве не было все это именно тем, что так неудержимо привлекало к нему буржуазную публику? В своей песенке об удалых парнях, один из которых губит себя разгуль- ной жизнью, Эйхендорф, желая красочно охарактери- зовать обаяние соблазна, говорит о «волнах, утехи сулящих», — о «волнах, утехи сулящих, что рокочут в блистающей бездне морской». Это великолепно ска- зано. Только романтик способен так выразительно живописать грех, и в этом отношении Вагнер в «Тан- гейзере» и «Парсифале» сравнялся с ним. Но разве его музыка — не такая же «блистающая бездна», от- куда, подобно вертопраху Эйхендорфа, восстаешь, «как старец дряхл и истомлен»? Если на эти вопросы приходится хоть частично давать утвердительный ответ, то, очевидно, здесь на- лицо то, что называют «трагической антиномией»,— один из тех контрастов, одно из тех сложно перепле- тенных противоречий личности Вагнера, уяснить которые мы стремимся. Этих противоречий много; а так как немалая их доля касается взаимоотноше- ния между воззрениями и воздействием, то весьма важно заранее подчеркнуть полную, достойную ува- 159
--------------------------жения чистоту и идеальность его художественной лич- ности, оградить ее от всяческих кривотолков, могущих возникнуть в силу массового характера успеха его творчества, волшебного действия его на массы. Вся- кая критика, даже та, что исходила от Ницше, склонна приписывать воздействие художественного творения сознательным, обдуманным намерениям ху- дожника, намекать на некий расчет, что совершенно ошибочно и в корне неверно; как будто художник не творит именно то, чем сам он является, что ему са- мому кажется благим и прекрасным, как будто воз- можно творчество, воздействие которого на других служило бы для художника предметом насмешки, а не было бы воздействием, прежде всего им самим на себе испытанным! Быть может, слово «безвинность» менее всего применимо по отношению к искусству, и все же художник безвинен. Такой грандиозный успех, какого «сумела добиться» музыкальная драма Вагнера, никогда вообще не выпадал на долю боль- шого искусства. Через пятьдесят лет после смерти ве- ликого мастера земной шар ежевечерне окутан зву- ками его музыки. Это искусство театрального воздей- ствия и потрясения масс содержит в себе элементы империалистического стремления к покорению мира, элементы мощно возбуждающие, деспотические, де- магогически подстрекающие, наводящие на заключе- ние, что подлинным их источником является честолю- бие, безграничная кесарская воля к власти. В дей- ствительности дело обстоит иначе. «Одно лишь скажу вам, — пишет Вагнер из Парижа любимой женщине, — только в чувстве моей чистоты я черпаю силу. Я чувствую себя чистым: в глубинах души моей живет сознание, что я всегда творил для других, ни- когда— для себя; свидетели тому — нескончаемые мои страдания». Если это не правда, то во всяком случае настолько правдоподобно, что скептикам остается только умолкнуть. Он не знает честолюбия. «Величию, славе, народовластию — всему этому, — уверяет он Листа, — я не придаю ровно никакого значения». Даже народовластию? Народовластию, быть может, и да, — в том смягченном облике народ-
160
ности старонемецких мастеров, в каком оно в плане идеала, блаженной мечты, романтически-демократи- ческой настроенности художника и художества так простосердечно, с такой искренней напыщенностью выражено в «Мейстерзингерах». Да, народность Ганса Сакса, против которого «вся школа» бессильна, ибо народ весь носит его на руках, — блаженная мечта. В «Мейстерзингерах» налицо заигрывание с народом как верховным судьей в делах искусства, заигрывание, являющееся прямой противоположностью аристокра- тической строгости суждений и характерное для ваг- неровского демократически-революционного толкова- ния искусства, для его концепции искусства как звучащего полным голосом призыва к народному чув- ству— концепции, резко отличной от прежнего клас- сически-придворного, надменного его понимания, ко- торое Вольтер выразил словами: «Quand la populace se mêle de raisonner, tout est perdu» К И, однако, этот художник при чтении Плутарха испытывает, в проти- воположность Карлу Моору, отвращение к «великим людям» и ни за какие блага не согласился бы быть одним из них. «Гадкие, мелкие, приверженные наси- лию натуры, ненасытные, ибо они лишены всякого внутреннего содержания, а поэтому вынуждены бес- прерывно искать пищу вовне и пожирать все, что их окружает. Пусть не морочат мне голову этими вели- кими людьми! Я стою за изречение Шопенгауэра: «Не тот достоин преклонения, кто завоевал мир, а тот, кто преодолел его!» Избави меня бог от этих «великих» натур, всех этих Наполеонов и им подобных». — Кем был он сам—тем, кто преодолел мир, или тем, кто его завоевал? Что выражено в его акцентированной темой мировой эротики формуле: «Даже тогда я есмь мир», — завоевание или преодоление? Всякая попытка приписать ему честолюбие в том или ином ходячем его значении оказывается несо- стоятельной уже потому, что по условиям и обста- новке того времени он первоначально творил без ма- лейшей надежды оказать немедленное воздействие, 1 Когда чернь начинает рассуждать — все пропало (франц.).
161
без всяких на то перспектив, творил в созданных его фантазией просторах, для воображаемой идеальной сцены, об осуществлении которой в то время и думать не приходилось. Поистине, не о тонком расчете, не о честолюбивом использовании реальных возможно- стей свидетельствуют признания вроде тех, что со- держатся в письме к Отто Везендонку: «Мне стало ясно: только когда я творю, я полностью есмь то, что я есмь. Постановка моих произведений будет уделом иного, более просветленного времени, которое мне еще надлежит подготовить моими страданиями. — Даже наиболее родственным мне друзьям, людям искусства, последние мои работы внушают одно лишь изумление: для надежды ни у кого из них, близко стоящих к сценической жизни нашего искусства, не хватает мужества. Я встречаю у них лишь грусть и сострадание. И ведь они совершенно правы. Ничто так, как они, не убеждает меня в том, как чудовищно я опередил все меня окружающее». Никогда одино- чество гения, его оторванность от действительной жизни не были выражены такими за душу хватаю- щими словами. Но разве мы, люди последних десяти- летий девятнадцатого века и первой трети двадцатого, эпохи мировой войны и начала разложения позднего капитализма, мы, живущие в дни, когда искусство Вагнера владеет театром большого масштаба и в совершеннейшем исполнении восторжествовало во всех центрах цивилизованного мира, — разве мы мо- жем считаться представителями того «более просвет- ленного» времени, которое ему надлежало «подгото- вить своими страданиями»? Разве человечество пе- риода, простирающегося с 1880 по 1933 год, стоит так высоко, что грандиозный успех, искусством Ваг- нера у него обретенный, может служить показателем величия и истинности этого искусства? Не будем задавать вопросов. Проследим, как ве- личие этого искусства проявляется в том, что оно пы- тается пойти навстречу притязаниям реального мира, приноровиться к нему — и не может этого достичь!: Задумает ли он, себе и людям для отдыха и забавы, в искреннем стремлении к легкости и удобопонятно-
162
сти, незначительную комическую оперу, сатировскую игру к «Тангейзеру»,— она перерастет-в «Мейстер- зингеров». Возьмется ли за создание оперы в италь- янском духе, мелодичной, лирически-напевной, с не- многими действующими лицами, несложной по инсце- нировке, — замысел, казалось бы, легко осуществимый, под его рукой претворяется в «Тристана». Не может художник умалить себя, даже если он того хочет, не может он себя изменить; он творит то, что он собою являет, и искусство являет нам правду — о художнике. Итак, грандиозная мировая действенность этого искусства, поскольку речь идет о личности Вагнера и об истоках этой действенности, подлинно духов- ного и возвышенного свойства: такова она прежде всего в силу высокого уровня этого искусства, ничего так глубоко не презирающего, как эффект, как «дей- ствие без причины»', а затем — потому, что все то империалистическое, демагогическое, подчиняющее себе массы, что в нем есть, прежде всего следует по- нимать полностью вне жизненной практики, отвле- ченно, как осуществимое лишь при коренном, револю- ционном изменении реальных условий, и в особенно- сти проявляется эта художественная «безвинность» там, где сложно инструментированная воля к вооду- шевлению выражена в призыве к нации, в виде вос- хваления и превозношения немецкого духа, как это делается хотя бы в «Лоэнгрине» через посредство «немецкого меча» короля Генриха, или в «Мейстер- зингерах» — в форме простодушных речений Ганса Сакса. Совершенно недопустимо истолковывать на- ционалистические жесты и обращения Вагнера в со- временном смысле — в том смысле, который они имели бы сегодня. Это значит фальсифицировать их и злоупотреблять ими, пятнать их романтическую чи- стоту. Идея национального объединения в ту пору, когда Вагнер включил ее в качестве глубоко впечатляющего элемента в свое творчество, иначе говоря — до того, как она претворилась в жизнь, — пребывала в герои?
163
ческой, исторически оправданной стадии своего суще- ствования, была прекрасна, жизненна, подлинно не- обходима, проникнута поэзией и разумом, имела цен- ность для будущего. Когда в наши дни басы с целью произвести, кроме музыкального, еще и патриотиче- ское впечатление, тенденциозно подают прямо в пар- тер стихи о «немецком мече» или же веские, сумми- рующие всю оперу заключительные слова «Мей- стерзингеров»: «Пускай падет союз имперский весь, — немецкий дух в искусстве будет жив», — это демагогия. Именно эти слова, которые сразу же вполне определились и имеются уже в конце самого раннего, мариенбадского наброска оперы от 1845 го- да, свидетельствуют о подлинной духовности вагне- ровского национализма, о его чуждости политике, о совершенно анархическом равнодушии к государ- ственности, только бы сохранилось одно: духовно- немецкое— «немецкое искусство». Что при этом он имел в виду не столько немецкое искусство вообще, сколько свое собственное музыкально-театральное творчество, отнюдь не чисто немецкое, претворившее в себе не только Вебера, Маршнера и Лорцинга, но и Спонтини, и «большую оперу», — это дело другое. В глубине души он, быть может, думал то же самое, что, как укоризненно утверждает Берне, думал Гете, чуждый патриотизму, как никто другой: «Чего нем- цам нужно? Ведь они имеют меня!» Как политик Рихард Вагнер всю свою жизнь был скорее социалистом и утопистом в области культуры, стремившимся к бесклассовому, основанному на любви, освобожденному от роскоши и от проклятия золота обществу, в его мечтах представлявшему со- бой идеальную публику для его искусства, нежели патриотом, стремящимся к созданию сильного госу- дарства. Душою он был с бедными против богатых. Свое участие в революционном движении 1848 года, за которое он поплатился двенадцатилетним мучи- тельным изгнанием, он впоследствии, презрев «по- стыдный» свой оптимизм и, насколько это было воз- можно, отождествив непреложную данность, империю Бисмарка, с осуществлением своих мечтаний, — вся-
164
чески старался преуменьшать и отрицать. Он проде- лал путь немецкого бюргерства: от революции к разо- чарованию, к пессимизму, к смирившейся духом внут- ренней жизни под защитой власти. И однако в его сочинениях мы находим следующее, в известном смысле отнюдь не немецкое высказывание: «Кто уви- ливает от политики, тот сам себя обманывает». Че- ловек, одаренный умом столь живым, столь смелым, не мог не осознать единства проблемы гуманизма, не- разрывной взаимосвязи духа и политики; он не разде- лял иллюзий немецкого бюргерства, обманывавшего себя утверждением, что можно быть человеком куль- турным и в то же время аполитичным, — глубочай- шее заблуждение, явившееся причиной всех бедствий Германии. До того, как была провозглашена импе- рия, и до обоснования в Байрейте отношение его к отечеству было отношением человека одинокого, не- понятого, отринутого, — было пронизано критикой и насмешкой. «Ах, какой энтузиазм во мне вызывает Немецкий союз германской нации! — пишет он в 1859 году из Люцерна. — Только бы, боже упаси, святотатец Луи Наполеон не приложил руку к любез- ному мне Немецкому союзу[2]! Я слишком огорчился бы, превратись он во что-либо иное!» Тоска по родине, терзавшая его в пору изгнанничества, по возвраще- нии, под влиянием личного опыта, сменяется горьким разочарованием. «Жалкая страна, — восклицает он,— и прав некий Руге, сказавший: немец— подлое суще- ство!»— Нужно, однако, считаться с тем, что эти злобные отзывы вызваны исключительно нежеланием немцев уверовать в его искусство: они глубоко, по-детски личного свойства. Германия хороша или плоха постольку, поскольку она признает его — или отказывает ему в признании. Но еще в 1875 году он на званом вечере, в ответ на лестное замечание, что немецкая публика никому не оказывала столько внимания, как ему, с желчным юмором сказал: «Как же! На паи подписались султан и египетский хедив». То, что он все же, в противоположность Ницше, сумел в совершившемся вследствие бисмарковских
165
войн восстановлении империи усмотреть исполнение своих желаний как немца; то, что «империю», для ко- торой Ницше не находил достаточно страстных выра- жений хулы, он был согласен и способен считать под- линной, настоящей почвой для своей созидательной работы, —делает честь его сердцу художника. Воскре- шение, в масштабе малой Германии, древнегерман- ской империи — событие, свидетельствовавшее о не- бывалом в истории успехе, укрепило в Вагнере, по словам его друга Геккеля, веру в развитие подлинно немецкой культуры и искусства, иными словами — в возможности воздействия его художественного тво- рения, сублимированной оперы. Эта вера вызвала к жизни «императорский марш», вызвала стихотворе- ние, обращенное к немецкой армии, стоявшей на под- ступах к Парижу,— и свидетельствующее лишь о том, что Вагнер без музыки не поэт; вызвала невероятно безвкусную, во всех отношениях с головой выдающую его сатиру на агонизирующий Париж 1871 года, под названием «Капитуляция». Но самым знаменатель- ным ее порождением был манифест «О постановке торжественно-сценического представления «Кольцо Нибелунга», в ответ на который последовало одно- единственное заявление о вступлении в число ревни- телей Байрейта — все того же Геккеля, владельца ма- газина роялей в Мангейме. Противоборство стремле- ниям и притязаниям Вагнера, боязнь открыто стать на его сторону по-прежнему были сильны; однако с периодом основания империи совпало и основание первого «Вагнеровского общества» и выпуск паев для финансирования байрейтского театра, началось осу- ществление задуманного, претворение его в жизнь, изобиловавшее, как это всегда бывает, компромис- сами. Вагнер был в достаточной мере политиком, чтобы связать свое дело с империей, созданной Бисмарком: он видел беспримерный успех, присовоку- пил к нему свой, и европейская гегемония его искус- ства стала, в сфере культуры, необходимой принад- лежностью политической гегемонии Бисмарка. Вели- кий государственный деятель, с чьим созданием он соединил свое, ровно ничего не смыслил в его творче-
166
стве, никогда им не интересовался и считал Вагнера человеком свихнувшимся. Но старик император, тоже ничего во всем этом не смысливший, посетил Байрейт и сказал Вагнеру: «Я не думал, что вы добьетесь своего». Творчество Вагнера было объявлено нацио- нальным делом, стало официальной принадлежностью -империи и в известной мере оставалось связанным с этой черно-бело-красной империей, хотя по своей подлинной сущности и даже по своеобразию немец- кого своего духа оно имеет весьма мало общего с ка- ким бы то ни было государством, воплощающим силу и воинственность. Говоря о противоречивости натуры Вагнера, о сложном сплетении в ней противоположностей, нельзя не коснуться того великого сочетания, сплете- ния в нем немецкого и всемирного, которое является неотъемлемой чертой этой натуры, абсолютно непо- вторимой ее особенностью, дающей пищу для раз- мышлений. Всегда существовало, существует и те- перь немецкое искусство высокого разряда — в част- ности, я разумею здесь область литературы, — столь безраздельно принадлежащее интимной, родной нам Германии, столь сокровенно, глубинно-немецкое, что оно только в сфере этого «родного» способно, притом весьма благородным образом, воздействовать и вызы- вать ревностное почитание — и лишено этого свойства в европейском, в мировом масштабе. Это его судьба, как любая другая, и она отнюдь не определяет его ценности. Гораздо менее значительные произведе- ния — изделия демократические, годные для всех и всем потребные, с легкостью переходят все рубежи, и, поскольку они всем доступны, их повсюду хорошо, слишком хорошо понимают; но и в произведениях, по достоинству и значению своему стоящих ничуть не ниже этого сокровенно-родного искусства, иногда ока- зывается капля демократически-европейского елея, открывающая перед ними весь мир, обеспечивающая им понимание во всем мире. Искусство Вагнера именно таково, с тою лишь разницей, что этого елея в нем не одна лишь капля, а оно пропитано им насквозь. Искусство это — глу-
167
боко, мощно, неоспоримо немецкое искусство. Только в недрах немецкой жизни из музыки могла родиться драма, как то, по крайней мере единожды, на вер- шине творчества Вагнера, в чистейшей, чарующей форме совершилось в «Тристане и Изольде»; и немец- кими в самом высоком смысле этого слова надлежит назвать поразительную углубленность этого творче- ства, его склонность к мифичности и тяготение к ме- тафизичности, а главное — глубоко-вдумчивое вос- приятие им себя самого, высокое и торжественное по- нимание искусства, — вернее сказать, театра, — кото- рого оно исполнено и которое от него исходит. При всем том оно доступно всему миру, отвечает запросам всего мира в такой степени, в какой никогда еще не отвечало немецкое искусство столь высокого разряда, и, из эмпирического явления делая вывод о «воле», в нем обнаруживающейся, о его характере, мы пребы- ваем в кругу излюбленных мыслей его творца. Мне уже приходилось раньше упоминать книгу под назва- нием «Рихард Вагнер как явление культуры», автор которой — иностранец, швед Вильгельм Петерсон- Бергер — высказывает по этому поводу чрезвычайно интересные мысли. Он говорит о национализме Ваг- нера, о национально-немецком характере его искус- ства, и попутно делает замечание, что немецкая на- родная музыка — единственная область, остающаяся вне его синтеза. Правда, продолжает он, иногда Ваг- нер, как в «Мейстерзингерах» и в «Зигфриде», в це- лях рельефной характеристики обращается к народ- ному искусству; но оно не является основой и отправной точкой его музыкального творчества, в про- тивоположность Шуману, Шуберту и Брамсу, чье творчество берет начало в народной стихии, непосред- ственно из нее выливается. Необходимо, утверждает Петерсон, проводить различие между искусством на- родным и искусством национальным; первое характе- ризуется направленностью вовнутрь, второе — направ- ленностью вовне. Музыка Вагнера более национальна, нежели народна; конечно, многое в ней восприни- мается, особенно иностранцем, как немецкое, но при 168
--------------------------всем том на ней, по выражению шведского критика, несомненно лежит отпечаток космополитизма… Здесь, как мне кажется, весьма тонко подмечено и истолковано своеобразие немецкого элемента у Ваг- нера. Да, Вагнер — выражение немецкого, выражение национального, показательное, быть может — слиш- ком показательное. Ибо сверх того, что его творче- ство является стихийным откровением немецкого духа, оно дает и сценическое его воплощение, притом своею интеллектуальностью и плакатной действенно- стью доходящее до гротеска, до пародийности и словно предназначенное для того, чтобы исторгать у трепещущей от жуткого любопытства публики всего мира возглас: «Ah! ça c'est bien allemand par exemple!» 1 Итак, при всей мощности и правдивости воплощения Вагнером немецкого склада, он пред- стает в его искусстве по-современному изломанным и распадающимся, пышным, аналитичным, интеллек- туальным, и в этом источник его завораживающей силы, присущей ему способности мирового, планетар- ного воздействия. Искусство Вагнера являет нам самоотображение и самокритику немецкого духа, наи- более сенсационные, какие только можно себе пред- ставить; оно способно даже у самого тупого ино- странца возбудить интерес ко всему немецкому, и страстное углубление в это искусство всегда в то же время является и страстным углублением в этот дух, критически и вместе с тем пышно им восславляемый. В этом заключается его национализм, но национа- лизм этот до такой степени насыщен европейской артистичностью, что совершенно не поддается какому- либо упрощению, иначе говоря — опошлению. «Вам дано служить делу того, кто в будущем ста- нет знаменитейшим из всех мастеров». Эти слова Шарль Бодлер в 1849 году написал молодому немец- кому музыкальному критику, восторженному почита- телю Вагнера. Это предсказание изумительно по своей прозорливости и вызвано пламенной любовью, вызвано страстью, порожденной внутренним срод- Вот уж это подлинно' немецкое! (франц.) 169
--------------------------ством; и то, что Ницше, не подозревавший о проявле- ниях этого сродства, сумел его распознать, свиде- тельствует о его гениальности как критика. В своих «Материалах к делу Вагнера» он пишет: «Если в свое время Бодлер был первым пророком и глашатаем Делакруа, то теперь он, быть может, стал бы первым «вагнерианцем» Парижа. В Бодлере есть многое от Вагнера». Лишь спустя несколько лет ему попадается на глаза письмо, в котором Вагнер благодарит фран- цузского поэта за выраженное им восхищение, и Ницше торжествует. Да, Бодлер, самый ранний по- клонник Делакруа, этого Вагнера живописи, и в са- мом деле оказался первым вагнерианцем Парижа и одним из первых подлинных, глубоко захваченных и проявивших наибольшее понимание вагнерианцев вообще. Его статья о «Тангейзере», появившаяся в 1861 году, была первым решающим, сделавшим эпоху высказыванием о Вагнере и в историческом аспекте осталась самым из них важным. То счастье узнавания самого себя в творческих устремлениях другого художника, которое Бодлер обрел в музыке Вагнера, он испытал еще один-единственный раз — когда впервые ознакомился с творчеством Эдгара Аллана По. Оба они, Вагнер и По, божества Бод- лера, — странное для немецкого слуха сопоставление! Это соседство внезапно показывает нам искусство Вагнера в новом свете, вскрывает ряд духовных взаимосвязей, распознавать которые нас не приучили патриотические его истолкователи. При звуке этого имени перед нами встает мир красочный и фантасти- ческий, влюбленный в смерть и красоту, мир западно- европейской романтики в последнюю пору ее рас- цвета, мир пессимизма, искушенности в редчайших наркотических снадобьях, мир переутонченной чув- ственности, упивающийся мыслями о внутреннем единстве разнородных эстетических впечатлений, меч- тами Гофмана-Крейслера о взаимосоответствии и со- кровенной связи цветов, звуков и ароматов, о мисти- ческом преображении чувств, слитых воедино… В этом мире надо представить себе Рихарда Вагнера, в этом окружении его понять; он — прославленней-
170
ший собрат и товарищ всех этих, от жизни стражду- щих, приверженных состраданию, алкающих экстаза символистов и поклонников art suggestif!, прихотливо перемешивающих все искусства, испытывающих по- требность d'aller au delà, plus outre que l'humanité» 2, как сказал Морис Баррес, последний из тех, кто кре- щен этой водой, — поклонник Венеции, Тристанова города, певец крови, сладострастия и смерти, нацио- налист в конце своего пути, вагнерианец — с начала своей жизни и вплоть до ее конца. То волна ли /вся в сиянье? Иль клубится — благоуханье? Что-то веет /и колышет… Глаз ли видит, /слух ли слышит? Полной грудью /пить ли счастье, Иль, исчезнув, /млеть в бесстрастье? В тех созвучьях, /звонких лучах, Во вселенских /дивных мирах Разлиться — /расплыться — День забыть, /ночь любить!3 Таково предельное, высшее воплощение этого мира, завершение его и торжество, проникнутое, насы- щенное его духом, чью европейскую, мистически-чув- ственную артистичность Вагнер и ранний Ницше сти- лизуют, придавая ей окраску немецкой просвещенно- сти, связывая ее с трагедией, вершины которой для них — Эврипид, Шекспир и Бетховен. В более позднее время Ницше, раздраженный некоторой неясностью немецкого мышления в области психологии, покаянно корректировал это толкование, чрезмерно подчерки- вая европейскую артистичность Вагнера и высмеивая немецкое его мастерство. Это несправедливо. В Ваг- нере очень силен подлинно немецкий дух. И то, что романтическое достигло вершины и возымело миро- вой успех в немецком своем выражении и в обличье преданного своему делу мастерства, было ему пред- указано внутренним его складом. 1 Искусства, основанного на внушении (франц.). 2 Очутиться по ту сторону, за пределами человеческого (франц.). 3 Перевод Вс. Чешихина,
171
В заключение — еще несколько слов о Вагнере как мыслителе, о его отношении к прошлому и будущему, ибо и здесь в его характере наблюдается двойствен- ность, сплетение мнимых противоречий, соответствую- щее контрасту в нем немецкого и европейского. Есть в личности Вагнера черты реакционные — черты, сви- детельствующие о тяготении к прошлому и темном культе минувшего; пристрастие к мистическому и ми- фически-пралегендарному, протестантский национа- лизм «Мейстерзингеров» и подлаживание под католи- цизм в «Парсифале», влечение к средневековью, к рыцарству и придворному кругу, к чудесам и рели- гиозному восторгу могут быть истолкованы в этом смысле. И однако для того, кто в какой-либо мере ощущает подлинную, сокровеннейшую сущность этого искусства, мощно устремленного к новаторству, к из- менению, к освобождению, совершенно недопустимо понимать его речь и манеру выражаться буквально, а не как то, что они есть: это — наречие художника, язык иносказательный, сплошь и рядом служащий для выражения совершенно иных, революционных мыслей. Не может дух, обращенный вспять, к благо- честивому ли, к жестокому ли прошлому, притязать на этот, при всей своей отягощенности и связанности со смертью, насыщенный жизнью, бурно-прогрессив- ный творческий дух; на того, кто воспел разрушителя мира, рожденного в свободнейшем любовном союзе; на дерзновенного музыкального новатора, в «Три- стане» одной ногой уже ставшего на почву атональ- ности, кого в наши дни, несомненно, назвали бы боль- шевиком в области культуры; на человека, принадле- жащего народу, всю свою жизнь искренне отрицавшего власть, деньги, насилие и войну, и свой театр для торжественных сценических представлений, пусть и превращенный эпохой в нечто совсем иное, задумав- шего как театр бесклассового общества. И в то же время на него может притязать каждый, чья воля устремлена в будущее. Но праздное занятие — вызывать великих людей из небытия в современность, дабы узнать предполагае- мое их мнение о проблемах нашей жизни, перед ними
172
не стоявших и духовно им чуждых. Как отнесся бы Рихард Вагнер к нашим вопросам, тревогам и зада- чам? Это «бы» — бессодержательно и призрачно; мышление в такой форме невозможно. Мнения — дело второстепенное даже в ту пору, когда они вы- сказываются, а тем более впоследствии! Остается человек и продукт его борьбы — его творчество. Удо- влетворимся тем, что будем почитать творчество Ваг- нера как великое, многосложное явление немецкой и всей западноевропейской жизни, которое во все вре- мена будет мощно стимулировать искусство и пыт- ливую человеческую мысль.
1933
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МОРЮ С ДОН
КИХОТОМ
19 мая 1934 года Мы решили для начала выпить в баре по рю- мочке вермута, что сейчас и делаем, спокойно дожи- даясь отплытия. Я вынул из чемодана эту тетрадь и один из четырех, переплетенных в оранжевое полотно, томиков «Дон Кихота», который меня сопровождает; с разборкой всего остального можно повременить. Ведь пройдет девять, если не десять, дней, пока мы высадимся у антиподов; снова наступит суббота и, как завтра, воскресенье, а за ним еще понедельник и вторник, прежде чем кончится эта высокоцивилизо- ванная авантюра, — степенный голландец, на палубу которого мы так недавно вступили, не доставит нас раньше этого срока. Да и к чему бы? Длительность путешествия, соответствующая приятным, не слишком крупным размерам нашего судна, несомненно, более разумна и сообразна природе, чем бешеная рекорд- ная гонка тех колоссов, что в шесть, а то и в четыре дня проносятся по необъятным далям, расстилаю- щимся перед нами. Медленно, медленно, Рихард Ваг- нер говорил, что подлинно немецким темпом является анданте; правда, подобные частные решения вечно спорного вопроса: «Что является немецким?» — в до- статочной мере произвольны, воздействие их — по преимуществу отрицательного свойства, ибо они по- буждают порицать в качестве «ненемецкого» многое,
174
что отнюдь этого не заслуживает., например: аллег* ретто, скерадядо, сяиритуозо. Вагнеровское изречение было бы гораздо более метким, если 6 он опустил придающее ему сентиментальную окраску упоминание о национальном и ограничился признанием трезвого достоинства медлительности, в чем я вполне с ним согласен. Хорошая работа требует времени. Того же требует и большая работа, иначе говоря: простран- ство требует для себя времени. Отнимать у простран- ства то измерение, каким для него является связанное с ним от природы время, или урезывать его в этом отношении — такого рода вещи ощущаются мною как нечто противоестественное, как своего рода нечестие. Гете, бесспорно дружески относившийся к людям, но не любивший того, чем искусственно повышается способность человека воспринимать окружающее, — микроскопов, подзорных труб, — наверно, одобрил бы мою щепетильность. Правда, тут возникает вопрос, где в таком случае проходит грань греховности, и не являются ли десять дней таким же злом, как шесть или четыре. По-настоящему следовало бы определять на переезд через океан столько же недель, сколько на это уходит дней, и пользоваться ветром, являющимся силой природы, — но ведь и пар является ею. К слову сказать, мы идем на нефти… Но все это начинает походить на разброд в мыслях. Вполне понятное явление. В нем выражается за- таенная тревога. Я просто-напросто волнуюсь, как перед публичным выступлением,— что в этом удиви- тельного? Мне предстоит впервые пересечь Атлантику, впервые встретиться и познакомиться с мировым океа- ном, а в конце пути, по ту сторону излома земного шара, перекрываемого исполинским водным простран- ством, нас ждет Новый Амстердам, мировой город. Таких городов всего четыре или пять: они образуют особую категорию городов-монстров безмерного раз- маха, не умещающихся даже в разряде больших го- родов, подобно тому как в сфере природы и ланд- шафта чудовищно выделяется категория архистихий- ного — пустыни, моря, высокие горы. Я вырос на берегу Балтийского моря, провинциального внутрен-
175
него водоема; в крови у меня традиции старинного города средней величины, умеренная цивилизация, которой свойственна нервозная сила воображения, знающая благоговейный ужас перед стихией, но и иронически ее неприемлющая. Во время шторма в открытом море капитан корабля, на котором плыл Иван Александрович Гончаров, пришел к нему в каюту: он — писатель, он должен посмотреть это грандиозное зрелище. Автор «Обломова» поднялся на палубу, огляделся кругом, сказал: «Безобразие, бес- порядок!» — и снова спустился к себе. Успокоительно действует мысль, что водную пу- стыню мы встретим в союзе с цивилизацией и под ее защитой на этом добротном корабле, чьи роскошные прогулочные палубы, выкрашенные эмалевой краской коридоры, тянущиеся между д>;умя рядами кают, гостиные и устланные коврами трапы мы сейчас бегло осмотрели, чьи мужественные командиры и экипаж вообще только и знают, что побеждать стихию. Ко- рабль промчит нас по ней, как белый, сверкающий голубыми окнами хартумский поезд люкс мчит путе- шественника по зловещим просторам, между пышу- щими зноем, грозящими смертью холмами Ливийской и Аравийской пустынь… «Исторгнутость» — достаточно припомнить это слово, чтобы понять, что значит чувствовать себя в лоне человеческой цивилизации. Я невысоко ставлю тех, кто при виде стихии изливаются в лирических восторгах перед ее «величием», не проникаясь созна- нием ее ужасающе равнодушной неприязни. Сейчас, однако, самое время года смягчает аван- тюру, вводит эту неприязнь в рамки известного дру- желюбия. Стоит поздняя весна; в такую пору от океана вряд ли приходится ждать слишком буйных выходок, а что до справедливых его требований, то мы надеемся оказаться на высоте их, не поддаться морской болезни, уповая в особенности на таблетки «вазано» в моем саквояже, тоже являющиеся неким гуманным прикрытием тыла. Другое дело, если бы сейчас была зима! Друзья, странствующие виртуозы, рассказывали мне о комических ужасах подобного
176
переезда, которым и мне, мол, по всей вероятности, когда-нибудь придется подвергнуться. Волны? Не волны, а горы! Гауризанкары! Выходить на палубу запрещено, раздосадованного Гончарова не вытащили бы наверх, лучше на все это смотреть в наглухо за- крытый иллюминатор. Лежишь, пристегнутый к своей постели, подымаешься, опускаешься сложным, спуты- вающим все направления, переворачивающим мозг и внутренности одуряющим движением, напоминаю- щим увеселительные пытки наших ярмарок. Видишь, как с головокружительной высоты на тебя несется умывальник, а по полу, наклон которого беспрерывно меняется, в нелепом хороводе, то и дело карамболи- руя, кружатся сундуки и чемоданы. Вокруг царит неистовый, адский шум, производимый отчасти бу- шующею вовне стихией, отчасти кораблем, который, все еще ожесточенно сопротивляясь, устремляется вперед, потрясаемый в мельчайших своих составных частях. Это длится три дня или три ночи, — предпо- ложим, что два дня уже миновали и настал третий. Все это время ты ничего не ел. Наступает минута, когда тебе приходится вспомнить об этом своем обык- новении. Уж если ты не умираешь, — на что ты не раз в течение долгих минут безоговорочно готов был пойти за эти дни, — тебе нужно, как-никак, снова под- крепиться, и ты звонишь стюарду,— ведь электриче- ский звонок действует и весь механизм первокласс- ного плавучего отеля продолжает работать даже среди светопреставления, проявляет дисциплинированность до конца; в этом — утонченный, заслуживающий вы- сокого уважения героизм человеческой цивилизации. Стюард приходит в белой куртке, с салфеткой,— он не валится в каюту, а твердо держится на ногах, возле двери. Среди адского грохота он улавливает твой еле слышный заказ, уходит и возвращается, лов- кими вывертами руки охраняя подвергающееся вели- чайшей опасности равновесие горячего блюда, кото- рое несет. Ему приходится выжидать подходящей минуты, той минуты, когда положение вселенной даст ему возможность дугообразным, если не до конца выдержанным, то все же рассчитанным движением
177
поставить блюдо на твою постель. Он улучает эту минуту; все, что от него зависит, он выполняет стойко и умело: размашистый жест как будто удается, но в ту же секунду положение вселенной меняется, и блюдо, перевернутое вверх дном, оказывается на постели твоей жены. — Не может этого быть… Таковы рассказы, — можно ли не вспоминать о них, в то время как мы маленькими глотками пьем про- щальный наш вермут и я пишу все это. Правда, они, эти рассказы, едва ли требуются для того, чтобы по- высить мое уважение к нашему предприятию, хотя бы уже потому, что я вообще легко преисполняюсь ува- жения и, так сказать, всегда хожу высоко вскинув брови, подобно всем тем, кто наделен фантазией—- даром занимательным, но провинциальным. С этим даром никогда не станешь светским человеком, ибо он до самой старости «хранит» — если это хвалебное слово здесь уместно — от уверенности в своем превос- ходстве. Иметь фантазию — не значит выдумывать то, чего нет, а значит считаться с тем, что есть, но это, разумеется, не подобает светскому человеку. Мы, как это ни невероятно, вновь пускаемся в путеше* ствие, предпринятое Колумбом на запредельный За- пад; в течение нескольких суток мы (правда, ро< скошно снабженные всем необходимым) будем но- ситься в космических пустотах, между континен- тами, — и что же, я не думаю, чтобы большинство наших спутников это натолкнуло на размышления—■ подобные размышления. Кстати, где они, наши спут« ники? Мы одни в обитом тисненой кожей, уютно пу« стующем зале бара, и мне вспоминается, что на паро- ходике, доставившем нас сюда из Булонской гавани, мы тоже были едва ли не одни. Стюард бара подхо- дит к нам и, покачивая головой, сообщает, что здесь село четверо пассажиров первого класса, включая нас; человек двенадцать едут из Роттердама; еще четверо явятся вечером в Саутгемптоне, — это все. Что мы на это скажем? Мы заметили, что при таком рейсе компании неизбежно придется доложить боль- шие деньги. Очень печально, — причина в кризисе, в депрессии. Но на обратном пути — так мы едино-
178
--------------------------душно решаем—-дела поправятся. В июне для аме- риканцев начинается европейский сезон; их манят Зальцбург, Байрейт, Обераммергау, — нехватки не бу* дет: в чаевых — вот что подразумевают обе стороны- Удрученный стюард хотя и выражает сомнение, но все же отчасти удовлетворен, а мы, исходя из наших интересов, соображаем, что плыть на столь малолюд- ном корабле будет очень приятно. Он будет почти це- ликом в нашем распоряжении, мы будем чувствовать себя здесь словно на яхте частного лица. И сознание, что ничто и никто мне не помешает, заставляет меня вспомнить о книге, которую я захватил с собою в до- рогу — оранжевого цвета томике, который лежит возле меня и является лишь частью объемистого це- лого. Дорожное чтение — общее понятие, в котором зву-= чат отголоски неполноценности. Весьма распростра- нено мнение, что в дороге следует читать лишь самые легкие, самые бессодержательные вещи, вздор, помо- гающий «коротать время». Я никогда не мог этого уразуметь, ибо, не говоря уже о том, что так называе- мое занимательное чтение, несомненно, самое скуч- ное, какое только бывает, мне никак не понять, почему именно при таком торжественном, важном случае, каким является путешествие, нужно снижать свои привычные духовные запросы и обращаться к неле- пице. Неужели ситуация отрешенности и напряжения, в какой пребываешь во время путешествия, создает душевное настроение, при котором нелепицы отталки- вают меньше, чем обычно? Я только что упомянул об уважении. Я питаю уважение к нашему предприятию, поэтому мне приличествует и надлежит уважать то чтение, которое ему сопутствует. «Дон Кихот» — ми- ровая книга, это и есть то, что нужно для путеше- ствия, объемлющего полмира. Отважной авантюрой было написать его, а его прочесть и тем самым вос- принять— тоже авантюра, достойная тех обстоя- тельств, в каких она осуществляется. Как это ни странно, я никогда еще не читал его систематиче- ски, до конца. Я хочу выполнить это на борту кораб- ля и справиться с этим морем повествования, как в 12* 179
--------------------------течение десяти дней мы справимся с Атлантическим океаном. В то время как я письменно излагал свое намере- ние, загрохотал кабестан. Мы отплыли. Пойдем на палубу, поглядим на берег и вдаль. 20 мая Мне не следовало бы делать то, что я делаю, а именно: сидеть сгорбившись и писать. Это не спот собствует хорошему самочувствию, — ведь море, как говорят американцы, сидящие с нами за одним сто- лом, «a little rough» \ а колебания парохода, которые нельзя не признать размеренными и не слишком бур- ными, наверху, где расположена комната, предназна- ченная для письма, естественно, ощущаются сильнее, чем внизу. Смотреть в окно не годится: вид горизонта, то вздымающегося, то опускающегося, порождает в голове неприятное ощущение, хорошо знакомое по опыту ранних лет, но затем позабытое; однако всма- триваться в бумагу и в написанное тоже не очень-то приятно. Странное упорство — во что бы то ни стало., даже при столь неблагоприятных обстоятельствах, придерживаться усвоенной на всю жизнь привычки после утреннего моциона, после завтрака заниматься литературой. Вчера вечером мы ненадолго зашли в Саутгемптон и взяли на борт тех немногих пассажиров, которые были записаны в этом порту — последнем перед дол- гим путем, где больше не будет остановок. Ночь уже увлекла нас далеко, в безбрежные дали: смутно еще виднеется южный берег Англии, но пройдет немного времени, и серый, чуть пенящийся диск моря под та- ким же мутно-серым небом совершенно опустеет, за- мкнется в себе. Мне не в новость, что море, созерцае- мое с корабля в виде иеущербленного замкнутого круга, производит на меня далеко не столь сильное впечатление, как с берега. Восторг, вызываемый во мне его священным натиском на земную твердь, слу- жащую мне прочной опорой, здесь не рождается. Это 1 Немножко неспокойно (англ.). 180
--------------------------разочарование, очевидно, объясняется1 прозаическим превращением стихии в водный путь, проезжую до- рогу — превращением, в силу которого она утрачи- вает прежний свой характер зрелища, мечты, идеи, духовного проблеска вечности — и становится окру- жением. Но, судя по всему, окружение не восприни- мается эстетически. Так воспринимается только про- тивостоящий нам образ. Шопенгауэр говорит: «Созер- цать вещи — весьма приятно, но отнюдь не приятно их переживать». Очень возможно, что истинность этого направленного против всякого душевного томле- ния афоризма подтверждается моим опытом на море. Никакой иллюзии не идет на пользу повседневное, близкое с ней общение, даже если это общение уме- ряется тем великим, порождающим пристыженность, защитным комфортом, какой предоставляет роскош- ный пассажирский пароход. Некоторые требования к нам все же предъяв- ляются. Неизбежен нервный шок в первые часы после замены привычной, устойчивой основы иной, неустой- чивой. В течение нескольких дней хождение по трапу, зыблющемуся, рыхло вздымающемуся под ногами и ускользающему из-под них, кажется чем-то недосто- верным; хватаешься за голову, кружением изъявляю- щую протест, и испытываешь соблазн счесть это ду- рацкой шуткой. Нелепа была прогулка по палубе сегодня утром — эти, словно в параличе, насильствен- ные остановки и пьяные падения ничком, при которых разражаешься презрительно-недоуменным смехом, ибо, как это ни странно, являешь склонность припи- сывать себе, невзирая на обстоятельства, некое со- стояние, порождающее столь недостойные следствия,— подобно тому как, подымаясь в гору, считаешь, что у тебя «отяжелели» ноги. Но я с удовлетворением убеждаюсь, что никакие невзгоды, причиняемые мне морем, никакое повышение кислотности и потрясение нервной системы не в состоянии поколебать унаследо- ванную мною от предков, окрепшую в детстве приязнь к соленой стихии. Дурное самочувствие здесь не является поводом к досаде, оно не затрагивает ду- шевного состояния, как, даже будучи сильно выра- Ш
--------------------------женным, не затрагивает аппетита; я, так сказать, не обижаюсь на море и думаю, что мое давнее к нему расположение устояло бы даже в том случае, если бы вызванное им недомогание достигло и более высокой степени. Друг давней юности, прибой, Я снова встретился с тобой! Мне вспомнились сегодня утром стихи, которые Тонио Крегер не сумел сложить в нечто целое, когда сердце его жило. К симптомам несильной морской болезни нельзя не причислить сонливость первых дней, непреодоли- мую тягу ко сну. Повинно в ней, по всей вероятности, высокое атмосферное давление, но более всего — колебательное движение, убаюкивающее, заволаки« вающее голову каким-то туманом. Здесь, несомненно, действует то же начало, что и в укачивании детей: сон достигается искусственно, посредством утомления мозга, вызываемого колебанием, — хитрая выдумка кормилиц и нянек, извечная и не слишком добро- совестная, подобно опаиванию маком. Вчера после полудня и вечером под музыку в го- лубом зале я прочел кое-что из «Дон Кихота», а сейчас, расположившись в палубном кресле, пред- ставляющем собою транспозицию — в другую край- ность — удобнейшего шезлонга Ганса Касторпа, хочу продолжить это занятие. Какой своеобразный лите- ратурный памятник! Подвластный вкусам своей эпохи в большей степени, чем то согласилась бы признать его собственная, направленная против этих вкусов сатира, подвластный им и по своим, зачастую целиком верноподданническим и раболепным, настроениям — и вместе с тем во всем творчески-эмоциональном сво- бодный, в силу своей критичности и всечеловечности высоко вознесшийся над временем. Не могу передать восхищения, которое вызывает во мне перевод Люд- вига Тика, этот гибкий, богатый оттенками немецкий язык эпохи классики и романтики, наш язык в счаст- ливейший его период. Он как нельзя лучше передает огромного размаха юмористический стиль книги, лиш- 182
--------------------------ний раз внушающий мне соблазн заявить, не оби- нуясь, что юмористическое является существеннейшим элементом эпического, заставляющий меня ощутить их слитность, — хотя вряд ли это можно объективно обосновать. Романтически-юмористическим стилевым приемом является самый трюк, в силу которого вся «великая и достопамятная история» выдается за пере- вод и комментированную переделку арабской руко- писи, сочинителем которой якобы является «мориск», иначе говоря, мавр Сид Ахмет бен-Инхали, и на кото- рую для вида ссылается автор, почему он нередко пользуется косвенными оборотами, как, например: «В истории сказано, что…» !, или: «Благословен все- могущий аллах!» — восклицает Ахмет бен-Инхали в начале этой восьмой главы» К Подлинным юмором проникнуты зазывно-резюмирующие заголовки, вроде следующего: «Об остроумной и забавной беседе, ка-, кую вели между собой Санчо Панса и супруга его Те* реса Панса, равно как и о других происшествиях, о которых мы не без приятности упомянем», или же пародийно-шутливое «О событиях, которые, как гово- рит бен-Инхали, станут известны тому, кто о них про-* чтет, если только он будет читать со вниманием». На- конец, юмористичной в самом глубоком смысле является подлинно человеческая многогранность, жиз- ненно-правдивая двузначность обоих главных персо- нажей, которую автор с гордостью осознает при срав- нении с ненавистным ему, низкопробным продолже- нием. Продолжение это, сочиненное из зависти к мировому успеху романа неким предприимчивым кропателем, изображает Дон Кихота просто-напросто сумасбродом, заслуживающим, чтобы его нещадно колотили, а Санчо — ненасытным обжорой. Дышащий презрением ревнивый протест против подобного опошления не раз звучит во второй части «Дон Ки- хота» и побуждает Сервантеса полемизировать в про- логе, к слову сказать, выдержанном в духе чрезвычай- ного, правда, притворного, достоинства и самооблада- 1 Здесь и дал^е цитаты из «Дон Кихота» приводятся в пере- воде Н, Любимова.
183
ния. В нем он, пользуясь испытанным риторическим приемом, приписывает читателю жажду мести и по- срамления, сам же отказывается от мести с благород- ством, которое было бы под стать самому ламанчцу. «Тебе бы хотелось, — обращается он к читателю, — чтобы я обозвал его (автора подложного «Дон Ки- хота») ослом, дураком и нахалом, но я этого и в мыс- лях не держу; он сам себя наказал, ну его совсем, мне до него и нужды нет». Все это звучит красиво и по-христиански. Един- ственное, что не могло не задеть его за живое, — это то, что «тот господин» (автор подложного «Дон Ки- хота») «назвал его стариком и безруким», словно в его, Сервантеса, власти «удержать время, чтобы оно нарочно для меня остановилось, и как будто я полу- чил увечье где-нибудь в таверне, а не во время вели- чайшего из событий, какие когда-либо происходили в век минувший и в век нынешний и вряд ли произой- дут в век грядущий», — речь идет о битве при Лепанто. «Также объявляю во всеобщее сведение,— продолжает он, ловко парируя удар, — что сочиняют не седины, а разум, который с годами обыкновенно мужает». Это тоже очаровательно. Но кроткая про- светленность седовласого Сервантеса отнюдь не про- является в тех язвительнейших соображениях, кото- рые он просит читателя передать «тому господину» с целью уяснить жалкому кропателю, что «одно из самых больших искушений — это навести человека на мысль, что он способен сочинить и выдать в свет книгу, которая принесет ему столько же славы, сколько и денег, и столько же денег, сколько и славы». Эти рассуждения бесспорно свидетельствуют о жажде мести, о лютой ярости, сильнейшей ненави- сти, о не вполне отчетливо осознанном страдании, причиняемом художнику смешением того, что имеет успех, несмотря на хорошее выполнение, с тем, что имеет успех потому, что выполнено плохо. Сервантесу пришлось испытать, что бездарное изделие, выдаваемое за продолжение его труда, точно так же обошло весь свет, читалось столь же усердно: в нем были скопированы наиболее грубые из тех 184
--------------------------черт, которым подлинный «Дон Кихот» обязан своим успехом. Комизм сумасбродства, то и дело награж- даемого палочными ударами, и мужицкого обжор- ства — этим подражатель вполне обошелся; задушев- ность, мастерство слога, грусть и человеческая про- никновенность оригинала в нем отсутствовали, и, как это ни ужасно, никто этого не заметил; толпа — так могло показаться — не увидела никакой разницы. Это нестерпимо обидно для художника, и когда Сервантес говорит о «чувстве тошноты и омерзения», которое вызывает тот, другой «Дон Кихот», он имеет в виду свои собственные переживания, хотя и приписывает их публике, и подлинную вторую часть труда он должен был написать для того, чтобы избавить не читателей, а самого себя от чувства тошноты и омерзения, которое в нем возбуждало не только это бездар- ное изделие, по и — поскольку оно получило призна- ние—успех его собственного труда. Бесспорно, вторая часть «Дон Кихота», о которой автор уведомляет читателя, что она «скроена тем же самым мастером и из того же сукна, что и первая», способна была реа- билитировать успех первой, спасти художественную честь этого опороченного успеха. Но вторая часть уже не обладает изначальной свежестью, безмятежным простодушием первой, показывающей, как из непритя- зательного замысла, жизнерадостно задуманной са- тиры, которой автор вначале не придавал большого значения, par hasard et par génie ! вырастает народная книга, книга человечества. Вторая часть была бы менее отягощена гуманизмом, книжной ученостью, на- летом некоей холодной литературности, если бы при ее созидании не сыграло большой роли честолюбивое же- лание выделиться изысканностью. В частности, здесь более четко, более сознательно разработана уже упо- минавшаяся мною многогранность главных персона- жей. Именно этим вторая часть должна прежде всего доказать, что «скроена тем же самым мастером и из того же сукна, что и первая». Конечно, Дон Кихот 1 Волею случая и дарования (франц.). 185
--------------------------безрассуден, — увлечение рыцарскими бреднями- сде- лало его таким; но этот являющийся анахронизмом конек в то же время служит источником такого под-, линного благородства, чистоты, тонкого изящества, такого внушающего искреннюю симпатию и глубокое уважение достоинства всего его облика, и физического и духовного, что к смеху, вызываемому его «печаль- ной», его гротескной фигурой, неизменно примеши- ваются удивление и почтение, и каждый, кто встре- чается с ним, ощущает, недоумевая, искреннее влече- ние к жалкому и вместе с тем величественному, в одном пункте свихнувшемуся, но во всем остальном безупречному дворянину. Дух, претворившийся в не- кий сплин, — вот та сила, которая поддерживает его и облагораживает, благодаря которой никакие уни- жения не могут умалить его нравственного достоин- ства. И то, что толстяк Санчо Панса, со своими по- словицами, своей находчивостью и мужицким здравым смыслом, заинтересованный отнюдь не в «идее», при- носящей одни только палочные удары, а лишь в наби-, той съестным котомке, — что Санчо все же чутьем по- нимает этот дух, всею душой предан своему доброму нелепому господину и, несмотря на все невзгоды, которые претерпевает на его службе, никак не может с ним расстаться, не покидает его, блюдет беззавет- ную верность истого оруженосца, хотя ему и прихо- дится иной раз надувать своего повелителя, — это прекрасно, это заставляет нас полюбить и его, наде- ляет его образ человечностью и возносит его из сфе- ры чисто комического в сферу задушевно-юмористич- ного. Санчо — поистине народный персонаж, ибо в нем воплощено отношение испанского народа к благород- ному безрассудству, служить которому оруженосец волей-неволей призван. Этот вопрос занимает меня уже со вчерашнего дня. Мы видим, что целая нация про- возглашает меланхолическое переряжение и доведение до абсурда своих классических свойств, какими являются величавость, идеализм, неуместно проявляе- мое великодушие и верность, себе в ущерб, рыцар- ским традициям —самой замечательной, самой досто- 186
--------------------------славной своей книгой, с
горделивой, тихой грустью узнает себя в этой книге. Разве это не изумительно?
Историческое величие Испании — позади, в далеких веках; в наше время ей приходится
преодолевать трудности приспособления. Но меня интересует именно различие между
тем, что громко именуют «историей», и духовным, человеческим. Быть может,
иронизирова- ние над собой, вольное и поэтически-легкомысленное отношение к
себе еще не делают народ особо пригод- ным играть роль в истории; но они
привлекательны, — а в конечном итоге, привлекательность или омерзи- тельность
тоже ведь имеет значение в истории. Что бы там ни говорили историки-пессимисты,
у человечества есть совесть, хотя бы только эстетическая, вкусовая. Правда, оно
покоряется успеху, fait acc
--------------------------Вдобавок ветрено, но море по-прежнему не слишком бушует, поэтому не приходится говорить о дурной погоде. На черной доске, висящей на площадке трапа, над дверью в столовую, и служащей для оповещения пас- сажиров, мы сегодня утром прочли по-английски, что всех нас в одиннадцать часов утра просят явиться, имея при себе проездные билеты, к обозначенным со- ответствующими номерами стоянкам спасательных шлюпок, чтобы получить от их командиров инструк- ции на случай крайности. Я не видел, выполнили ли другие это распоряжение; что касается нас, то мы после бульона, разносимого в это время стюардами в белых куртках, отправились к указанному месту, так как «крайность» весьма интересует меня среди этого все затушевывающего комфорта, цель кото- рого— заставить забыть о серьезности положения. По дороге нам, сомневавшимся, правильно ли мы идем, повстречался старший стюард, хорошо знакомый нам по столовой и оказавшийся командиром нашей шлюпки, призванным нас инструктировать и спа- сать, — приветливый голландец, при небольшом за- пасе слов говорящий по-английски и по-немецки с одинаковой, полной юмора беглостью, изображаю- щий добродушие и, наверное, очень оборотистый, с горбатым, оседланным золотыми очками носом,— такие у нас чаще всего встречаются в Швабии,— в красиво обшитом галунами сюртуке, который он по вечерам сменяет на другой, покороче, со смокинго- образным вырезом. Он повел нас к месту предпола- гаемой «крайности», на открытую палубу для прогу- лок, и на своем забавно-приятном, гортанном и в то же время жестковатом немецком говорке, характер- ном для нидерландцев, спокойно, как бы вскользь объяснил нам, как производится посадка в шлюпки; нет ничего проще и безопаснее: шлюпка, моторная шлюпка, прехорошенькая, только уж очень малень- кая, спускается в случае сильного волнения с верхней палубы, повисает вот здесь, у релинга, мы садимся, затем она оказывается на воде, — «ну, а потом, — так он говорит, — я доставлю вас домой». m
--------------------------Домой? Странная формулировка! Это звучит так, словно мы на волнах скажем ему свой адрес, а затем он в спасательной шлюпке отвезет нас по этому ад- ресу. Домой, — а что это слово, в сущности, означает? Должно ли оно означать Кюснахт близ Цюриха, в Швейцарии, где я поселился год тому назад и где чувствую себя скорее в гостях, чем дома, — почему и не могу пока еще считать это место надлежащей целью для спасательной лодки? Или же, если уда- литься несколько в прошлое, оно обозначает мой дом в мюнхенском Герцогспарк, на берегу Изара, где я рассчитывал окончить свои дни и который тоже ока- зался лишь временным пристанищем, квартирой не на долгий срок? Домой, — вероятно, для этого нужно вернуться к самому дальнему, в край моего детства, в любекский отчий дом, по сей день стоящий на своем месте — и все же исчезнувший в глубине прошлого. Странный у нас командир шлюпки н спасатель со своими очками, золотыми нашивками на рукавах и своим неопределенным «Домой»! Так или иначе, мы получили нужные инструкции, а затем еще побеседовали с нашим ангелом-храните- лем, в особенности потому, что мне хотелось знать, были ли с ним когда-нибудь такие неприятные случаи и приходилось ли ему принимать участие в подобных посадках. Три раза, — отвечал он. Три раза на протя- жении его кочевой жизни это уже случалось с ним; тем, кто так много плавает в море, не очень-то легко этого избегнуть. Но как же так? В чем была при- чина?— «Наталкивались! — отвечает он с шутливым недоумением, — наталкивались, какая же еще при- чина? Это всегда может случиться, если долго пла- ваешь в море». Мы никак не могли отчетливо представить себе подобную картину, не могли постичь, каким образом дипломированные мореплаватели, ко- торым мы слепо верим, ошибаются якобы так легко и часто, что суда то и дело «наталкиваются». Но более точных сведений нам не удалось от него добиться. Этому препятствовала скупость его делового словаре ного запаса, хотя пользуется он им непринужденно и с юмором. Быть может, то, что он рассказывал, было
189
всего-навсего бахвальством, наподобие мечтательного посула «доставить домой». В столовой он по преимуществу ухаживает за неким, очевидно привыкшим жить в свое удовольствие, американским семейством, постоянно заказывающим кушанья, которые не значатся на карте, и ублажаю- щим себя особо изысканными яствами — омарами, шампанским, икрой, нежнейшими омлетами. Правда, он, заложив руки за спину, с выражением профессио- нального юмора в прикрытых очками глазах подходит то к одному, то к другому столу, каждому уделяя ча- стицу своей приветливости. Но у стола американцев он останавливается дольше и чаще всего, внимательно наблюдает за подачей изысканных яств, а нередко и сам красиво раскладывает их. В интересе, с которым окружающие следят за этой «просперити», нет ни малейшей неприязни, — ведь лишений никто не испы- тывает. Еда очень обильна, и, что особенно важно, это обилие можно варьировать по своему желанию. Ника- кое точно определенное меню не берет вас под свою опеку. В вашем распоряжении вся карта, отпечатан- ная убористым шрифтом, все время меняющаяся; руководствуясь ею, вы выбираете блюда сообразно вашему аппетиту и самочувствию и могли бы, если бы у вас хватило сил, три раза в день поедать в любом порядке все, что вам предлагается, начиная с hors d'œuvres1 и кончая ice creams2. Но как ограниченны возможности человека! Пароходная компания это знает» и, наверно, проводимый ею принцип свободы выбора оказывается экономичным, в особенности зимой. Мы сидим за круглым столом, посредине столовой, вместе с двумя судовыми офицерами: доктором — мо- лодым, симпатичным, американцем по национально- сти, — и казначеем — голландцем, классически невоз- мутимым и обладающим таким аппетитом, что ему всегда подают двойные порции. К нам присоединились еще двое: добродушный низкорослый делец из Фила- 1 Закусок (франц.). 2 Мороженым (англ.), m
--------------------------дельфии, большой любитель шампанского, обличьем и складом ума напоминающий мне представителей циви- лизованного купечества моей родины, и немолодая, одетая с буржуазной тщательностью, из желания быть приветливой то и дело смеющаяся девица, ездившая навестить родных в Голландию и возвращающаяся восвояси. После высадки ей придется еще пересечь весь континент, — ее родина в штате Вашингтон, у Ти- хого океана. Люди путешествуют — порою и неразумно. Моя жена вне себя по поводу малюток из Роттердама, двойняшек, в чью колясочку мы частенько загляды- ваем на палубе и которых везут в гости к бабушке, в Южную Каролину. Старушке хочется повидать вну- чат,— прекрасно, но ведь это страшно эгоистично. Южная Каролина расположена южнее Сицилии, в июне там счень жарко, и если роттердамские малютки заболеют кровавым поносом и умрут, что тогда скажет бабушка, во что бы то ни стало по- желавшая их видеть? Это не наше дело, но когда один и тот же горизонт замыкает в себе и нас, и подобные явления, поневоле над ними задумываешься. У малюток няня-еврейка; она читает модные ро- маны. Мать вместе со старшими детьми обедает не- подалеку от нас, в углу столовой; остальные посети- тели нам тоже давным-давно — так нам кажется — примелькались. Их немного, они все те же. В пути никто не садится и не высаживается, — невозможность этого очевидна, и все же нет-нет да и ловишь себя на чаянии как-нибудь увидеть новое лицо. Затем есть еще стол, занятый молодыми голландцами, очевидно путешествующими для собственного удовольствия и то и дело разражающимися взрывами хохота; и пятый стол, за которым сидит капитан в обществе пожилой, благообразной американской супружеской четы« В часы дневного чая и после обеда супруги эти, дер- жась очень прямо, сидят друг подле друга в музы- кальной гостиной и читают. Это было бы все, если б не enfant terrible нашего общества — ширококостый янки с сильно выступающим вперед ртом, тем самым рыбьим ртом англосаксов, под которым лондонские m
--------------------------полисмены закрепляют ремень своей каски, — чело- век на вид лет тридцати пяти, потребовавший для себя отдельный столик, за едой читающий книгу и ни с кем не общающийся. Правда, его нередко видят в третьем классе играющим в shuffle board с евреями-эмигрантами. Его обособленность шокирует всех, отношение к нему неприязненное. Мне много раз приходилось видеть, как он, полулежа в шезлонге или сидя в столовой, делает какие-то заметки в своем блокноте. С ним что-то неладно, это чувствуют все. Ни на что не похоже — сторониться всех и в то же время развлекаться в третьем классе. Наверно, он, хотя его вечерний костюм и вполне корректен, писа- тель, критически относящийся к общественному строю и враждующий с ним. Я несколько завидую упорству, с каким он настоял на отдельном столике, и слегка ревную его к евреям-эмигрантам, которых он удостаи- вает общения. Я сумел бы не хуже их понять мысли, развиваемые им в его записях, — мое самолюбие за- веряет меня в этом, хоть я и должен признаться, что в настоящий момент меня занимают вопросы не столько социального, сколько эстетического и психо- логического порядка. В течение всего дня я тешусь эпическим вымыслом Сервантеса, тем, что по его воле приключения второй части — или хоть некоторая доля их — проистекают из литературной славы Дон Кихота, из популярности, которой он и Санчо пользуются благодаря «их» ро- ману, пространной истории, в которой они доподлинно изображены, — благодаря первой части. Никогда бы им не довелось побывать при герцогском дворе, если бы они уже не были, по книге, так хорошо известны высокой чете, пришедшей в восторг от возможности лично, «взаправду» познакомиться со странствующими чудаками и ради своей сиятельной потехи оказать им гостеприимство. Это совершенно ново и оригинально; в мировой литературе я не знаю другого случая, когда бы герой романа таким образом жил славой своей славы, если можно так выразиться, своей громкой из- вестностью, ибо повторное появление в обширных циклических романах уже знакомых персонажей, как 192
--------------------------мы это видим у Бальзака, — нечто совсем иное. Правда, их реальность в известной степени подтвер- ждается, усиливается и углубляется старым с ними знакомством, тем, что они, уже побыв в повествова- нии, появляются в нем опять; но эта реальность остается в том же плане, что и раньше, категория иллюзий, к которой она принадлежит, не меняется. У Сервантеса здесь внесено гораздо больше романти- ческой мистификации, иронической магии; в этой вто- рой части Дон Кихот и его оруженосец покидают ту сферу действительности, к которой принадлежали, роман, в котором жили, и, радостно приветствуемые читателями их историй, облеченные плотью, пускаются в виде потенцированных реальностей разгуливать по некоему миру, который, подобно им, представляет в сравнении с миром предшествовавшим, миром книги, более высокую степень реальности, хотя, как и он, опять-таки является миром повествования, иллюзор- ным оживлением фиктивного прошлого, почему Санчо и позволяет себе в шутку сказать герцогине: «…А ору- женосец, который выведен в этой книге и которого зовут Санчо Пансою, — это я, если только меня не подменили в колыбели, то есть я хочу сказать, в книгопечатне». Мало того, Сервантес еще вводит персонаж из ненавистного подложного продолжения своей книги, чтобы заставить его путем соприкоснове- ния с действительностью убедиться в том, что тот Дон Кихот, с которым он связан по ходу повествования, никак не может быть подлинным и настоящим. Эти вольты совершенно в духе Э.-Т.-А. Гофмана, как и во- обще здесь прекрасно видно, откуда взялось все это у романтиков. Они не были, надо сказать, величай- шими из художников, но они изощреннее других раз- мышляли о хитроумных глубинах искусства и иллю- зорного, о непостижимых тайнах отображения; именно потому, что они были художниками одновременно и искусными и стоявшими над искусством, ироническое разложение формы являло для них такую опасную за- манчивость. Полезно отдавать себе отчет в том, что эта опасность тесно связана со всякой техникой художе- ственной реализации в плане юмористического. От 13 Т. Манн, т. 10 193
--------------------------шутливости некоторых приемов реализации эпического лишь один шаг к остроумно-трюковому, к уже лишен- ным четкой формы и веры в форму шутовским продел- кам. Так я, неожиданно для читателя, даю ему воз- можность своими глазами лицезреть Иосифа, сына Иакова, сидящим при свете луны у колодца, срав- нить его личность во плоти и крови, привлекательную, хотя человечески несовершенную, какая она есть, с той идеалистической славой, которой тысячелетия заволокли его образ. Мне хочется думать, что юмор подобной реализации, создающей благоприятные воз- можности и пользующейся ими, еще лежит в пределах бережного и почтительного отношения к искусству. 22 мая Итак, мы, в силу безостановочного действия ма- шины, изо дня в день равномерно движемся вперед по океанским просторам, и, погружаясь утром в столь приятную мне теплую ванну из клейкой, слегка отзы- вающей гнилью морской воды, пропитывающей всю кожу солью, я с удовольствием думаю, что за ночь, во время сна, мы вновь оставили позади изрядную долю необозримого пространства. Погода временами как будто проясняется, в небе показывается синева, своим ярким, напоминающим юг отблеском подкрашиваю- щая и воду, но вскоре этот теплый свет снова погло- щается пасмурной дымкой. Под вечер мы зачастую, обвеваемые попутным вет- ром, стоим на верхней палубе и наблюдаем, как ко- рабль, держа путь на запад, режет диск океана. Мы все время плывем в сторону заходящего солнца, коле- бания курса ничтожны; вчера мы устремлялись в са- мую точку заката, сегодня несколько отклонились на юг. Прекрасное, гордое это зрелище — плавное следо- вание большого корабля по беспредельным горизон- там, форма движения, несомненно являющая больше достоинства, нежели бешеная, петлистая гонка курьер- ских поездов. Поражает абсолютная пустота вокруг, на «маршруте», по которому плавают корабли всех мореходных стран. Уже четвертые сутки как мы 194
--------------------------в пути, но по сегодняшний день нам не пришлось видеть даже полосы дыма над далеким пароходом. Это легко объяснимо: здесь избыток места. В этом просторе есть нечто космическое; многочисленные корабли теряются в нем, словно звезды в небесном пространстве, и встреча двух судов является редкой случайностью. Ежедневно черная доска напоминает нам о том, чтобы мы переводили часы назад, в пределах от полу- часа до сорока минут, — вчера их было тридцать де- вять. Официально это происходит в полночь, но мы выполняем это важное действие вскоре после обеда, продлевая таким образом вечер, дабы не удлинилась ночь, и снова переживаем, за чтением или за музыкой, отрезок уже прожитого времени. Да, мы призадумы- ваемся, заставляя часовую стрелку вновь пройти во времени часть того пути, который она сегодня совер- шила в третий раз. Тридцать девять минут, помножен- ных на десять, — это шесть с половиной часов, кото- рые мы потеряем, — нет, выиграем, — в продолжение этого путешествия. Как, неужели, двигаясь вперед в пространстве, мы движемся назад во времени? Ко- нечно, раз путь лежит к закату, в сторону, противопо- ложную вращению Земли. Слово «космическое», как- то невзначай употребленное мною раньше, здесь как нельзя более уместно. Становятся ощутимыми связи, соединяющие нас с мировым пространством и време- нем и, вопреки комфорту, призванному банализиро- вать стихийное, лишить его внушительности, влияю- щие на сознание; мы неприметно переходим в чуждые нам дни, в места земной поверхности, вращающиеся мимо солнца в иную пору, чем другие населенные ее части; у нас еще будет ночь, мы будем спать, когда там, на родине, уже яркий день. Все это ясно, хорошо всем известно но поскольку это теперь коснулось нас, мы вновь это обсуждаем: если бы мы плыли все дальше и дальше на запад и таким образом возврати- лись бы домой через Дальний Восток, то в пути при- рост времени дошел бы до крайнего предела — до це- лого дня, до изменения календарной цифры, а затем снова пошел бы на убыль, так что в конце концов
195
свелся бы на нет; то же самое произойдет и в том слу- чае, если мы возвратимся в нашу часть света не круж- ным путем, а той же дорогой. Жалеть об этом не при- ходится,— прирост времени не означает прироста дли- тельности жизни, и если бы мы попытались обмануть космос и, прибыв к месту назначения, не двинулись бы ни вперед, ни назад, а сидели бы с выигранными нами шестью часами на одном месте и стерегли бы их, как Фафнир свое сокровище, то от этого к органически определенному нашей жизни сроку не прибавилось бы ни одной секунды. Что за мысли, приличествующие школьнику! Но разве не правда, что космологическому созерцанию мира, если сравнить его с его противоположностью — созерцанием психологическим, — присуще нечто инфан- тильное? Мне вспоминаются при этом блестящие, по- детски круглые глаза Альберта Эйнштейна. Ничего но могу с собой поделать: мне кажется, что познание гуманитарное, углубление в человеческую жизнь носит более зрелый, более взрослый характер, чем спекуля- тивные рассуждения о Млечном Пути, и, проникну- тый глубочайшим почтением, я хотел бы, чтобы это оказалось истиной. Гете говорит: «Каждой отдель- ной личности надлежит предоставить свободу зани- маться тем, что ее привлекает, что доставляет ей удо- вольствие, что ей кажется полезным; но истинное по- знание человечества — в познании человека». Что касается «Дон Кихота», то это поистине при- чудливое произведение, — наивно-грандиозное в своей непосредственности и непревзойденное в своей противо- речивости. Я не перестаю недоумевать над вкраплен- ными в него новеллами, авантюрно-сентиментальными и выдержанными совершенно в стиле и вкусе тех са- мых изделий, осмеяние которых художник поставил себе задачей, так что читатели вволю могли насла- диться в книге тем, от чего автор намерен был их отучить, — весьма приятный вид лечения от вреднььх привычек. Здесь автор сбивается с роли, как если бы он своими пасторальными новеллами стремился до^ казать, что то, что под силу его эпохе, под силу и ему,, более того, — что он в этом достиг высокого совер- 196
--------------------------шенства. Но вопрос о том, не сбивается ли он с роли и в тех гуманистических речах, которые нередко вкла- дывает в уста своего героя, не разрушает ли он этим цельность его характера, не возносит ли героя выше его уровня, не говорит ли, вопреки законам художе- ства, только от своего имени и за себя, — этот вопрос для меня не решен. Такие речи, как, например, о вос- питании, о поэтах прирожденных и о тех, кто стано- вится поэтами единственно с помощью мастерства, — выслушиваемые случайным попутчиком, дворянином в зеленом плаще, — превосходны: они дышат чистей- шим умом, справедливостью, благоволением к людям и формальным благородством; недаром дворянин в зе- леном плаще был поражен ими, и притом настолько, что его первоначальное предположение о безумии на- шего рыцаря рассеялось. Так оно и должно быть, и читателю также следует отказаться от этого предпо- ложения. Дон Кихот безрассуден, но отнюдь не безу- мен, в чем, правда, сам автор первоначально не отда- вал себе полного отчета. Его уважение к личности, созданной его собственным комическим вымыслом, не- прерывно возрастает в течение всего повествования, и, быть может, процесс этого роста — самое захваты- вающее во всем романе, едва ли даже не самодовлею- щий роман; притом он тождествен росту уважения автора к своему произведению, задуманному непритя- зательно, как некая грубоватая сатирическая шутка, без представления о том, какой символической верши- ны человечности герою суждено будет достичь. След- ствием этого оптического перемещения является тес- ная солидарность автора со своим героем, стремление поднять его до своего собственного духовного уровня, сделать его рупором своих взглядов и воззрений и вос- полнить нравственной стойкостью и высокой образо- ванностью то подлинно рыцарское изящество, которое безрассудная идея Дон Кихота придает ему, несмотря на всю плачевность его обличья. Дух, которого испол- нен повелитель Санчо Пансы, и форма выражения им своих мыслей — вот то, что зачастую внушает оруже- носцу безграничное восхищение, да и для многих дру- гих являет неотразимую привлекательность. 197
--------------------------23 мая Волнение утихло. Стало теплее, веют менее резкие, влажные ветры Гольфстрима. Я начинаю день с того, что в целях моциона чет- верть часа играю на палубе в мяч с дек-стюардом из Гамбурга, отрекомендовавшимся мне в качестве усерд- ного моего читателя. Весьма приятно затем начинать завтрак с половинки грейпфрута — освежающего, по- хожего на огромный апельсин плода, который на паро- ходе имеется отменного качества и мякоть которого, для большего удобства вкушающих, предварительно на кухне посредством особого инструмента отделяют от кожуры. Зато мне никак не удается приохотить себя к замороженному коктейлю из томатов, на мой вкус приторному, который американцы пьют перед каждой трапезой. Так как моцион необходим, а вечное кружение по прогулочной палубе действует одуряюще, мы решили заняться играми, которые на палубе в большом ходу, и по утрам, да и после полудня, проводим за ними целые часы. В обществе приветливого молодого гол- ландца, присоединившегося к нам, мы играем в shuffle board — игру, красные, помеченные цифрами квадраты которой всюду нарисованы на досках палубы. Занима- тельное, хорошо придуманное упражнение! Длинной лопатообразной палкой нужно толкать в эти квадраты круглые плоские деревяшки; вся штука в том, чтобы попасть прямо в середину, так, чтобы деревяшка не коснулась контуров квадрата, обходить при этом грозную минусовую зону, стремиться к квадрату, обо- значенному цифрою + 10, исправлять последующими ударами промахи и между делом, искусно карамболи- руя, сгонять противника с выгодных позиций — всё действия, которые легче описать, чем выполнить, и которые в силу неровности пола, а главное — неустой- чивости самого места игры, поминутного наклона па- лубы то в одну, то в другую сторону, представляют большие трудности, становятся делом нелепой случай- ности. Мало помогает, если целишься самым даже добросовестным образом: деревяшки, направляемые 198
--------------------------неведомыми силами, летят куда попало, и в резуль- тате испытываемой игроком досады к внешнему мо- циону присоединяется и внутренний, так что трапезы, за которые мы садимся после игрьи, вполне нами за- служены. Более изысканной игрой, чем shuffle board, является дек-гольф, в котором игроки, стоя на некоем подобии зеленого луга в миниатюре — ровной площадке, обтя- нутой зеленой материей, — стараются молоточками при возможно малом числе ударов направлять легкие шары из шести расположенных рядом исходных точек сквозь узкие ворота в лунку, находящуюся на другом конце площадки. Теоретически вполне возможно до- стичь этого одним ударом, по крайнем мере исходя из средних точек, расположенных по той же линии, что ворота и лунка. Но как редко это удается! Три удара делают честь любому участнику, два — считаются бле- стящим рекордом. Обычно у ворот происходят вели- чайшие конфузы и рикошеты, и незадачливому игроку приходится помечать на доске шесть или семь ударов. Перед чаем и после обеда мы обычно сидим в голубом зале, именуемом здесь Social Hall \ и слу- шаем музыку. Иногда — в особенности днем — мы единственные слушатели; музыканты тогда играют ради нас одних, хотя мы отлично могли бы без этого обойтись. Но в зале должен быть хоть один человек, а то они не играют. Временами мы с палубы видим в окно, как они уныло, словно безработные, расхажи- вают около своих пультов в безлюдном помещении. Но стоит кому-нибудь из пассажиров войти в зал, как они берутся за инструменты и немедленно начинают играть. Оркестр состоит из рояля, двух скрипок, контра- баса и виолончели. Концертмейстер в то же время и дирижер. Программы бессодержательны, — что поде- лаешь! Вершина их —попурри из «Кармен», фантазия на мотивы «Травиаты». Обыкновенно — тут слово «обыкновенно» как нельзя более кстати — они испол-. няют приспособленные для чаепитий, при наличии 1 Общественный салон (англ.).
199
честолюбия подражающие Пуччини, приторные пьесы» которыми услаждает себя средний цивилизованный человек во всем мире и которые ему преподносят и среди необъятных просторов, дабы за свои деньги он, в привычном окружении, мог себя чувствовать в безо- пасности. Все в этих путешествиях рассчитано на то, чтобы вызвать забытье, бездумность, и я из врожден- ной строптивости смотрю иногда под звуки этих пош- лых улещиваний в окно, на прогулочную палубу, и сквозь ее окно дальше — на серо-зеленую, пенящуюся бездну и на горизонт, вздымающийся, секунду-другую пребывающий в таком положении и снова погружаю- щийся вниз. Мы аплодируем музыкантам, и они каждый раз, по-зидимому испытывая радостное удивление, через концертмейстера изъявляют нам благодарность. Но и помимо нас они получают удовольствие от своей ра- боты и делятся им друг с другом: в некоторых местах они переглядываются, обмениваются знаками и сло- вечками, понятными им одним, пересмеиваются. Я приглядываюсь к ним, и мне думается, что они заслуживают серьезного к себе отношения. Вот они сидят и пиликают, исполняя слащавые пустячки, как это им и полагается. Но уже неоднократно отмечалось и свидетельствовалось, что при известных обстоятельствах они точно так же способны сидеть и до послед- ней минуты играть «Nearer, my God, to thee». Именно с этой точки зрения на них и следует смотреть. В промежутках между всем этим я читаю свой оранжевый томик и изумляюсь неистовой жестокости Сервантеса. Ибо, несмотря на тесную солидарность автора со своим героем, о которой я вчера писал, и на его к нему уважение, он неистощим в придумывании смехотворнейших, постыднейших для Дон Кихота и его доблести положений, в измышлении фантасти- ческих, полных комизма, унизительных происшествий, вроде истории с творогом, который «низменно мысля- щий» Санчо спрятал в шлем своего господина; там творог слежался, и отжался, и в самую патетиче- скую минуту сыворотка начинает течь по лицу и бороде Дон Кихота, который немедленно высказывает
200
предположение, что у него либо растопился мозг, либо он весь взмок от пота, причем решительным тоном добавляет: «Но если я и впрямь вспотел, то уж, конечно, не от страха». Есть нечто сардоническое и юмористически-дикое в таких измышлениях, как, на- пример,— приведу еще один случай, — омерзительное, в сущности, происшествие, когда Дон Кихота подвер- гают предельному поношению: сажают в деревянную клетку и возят в ней. Палочные удары сыплются на пего без конца, почти в таком же изобилии, как на Луция в «Золотом осле». И все же автор любит и уважает его. Разве вся эта жестокость не смахивает на самобичевание, издевательство над самим собой, самоистязание? Мне даже думается, что Сервантес тут предает осмеянию свою много раз поруганную веру в идею, в человека и в возможность его облагородить, и что это исполненное горечи примирение с низмен- ной действительностью является подлинным определе- нием юмора. Чудесна оценка переводческого дела, которую Сервантес вкладывает в уста Дон Кихота. Ему ка- жется, — говорит он, — что переводить с одного языка на другой — то же, что рассматривать фламандские стенные ковры с изнанки, «ибо рисунок хоть и виден, но все же искажен затягивающими его нитями и не являет красоты и совершенства лицевой стороны… Я не делаю, однако, отсюда вывода, что ремесло пере- водчика — мало похвальное занятие». Удивительная по своей меткости характеристика! Исключение он делает только для двух испанских переводчиков — Фигероа и Хауреги. У них, по его отзыву, поистине едва различаешь, где перевод и где подлинник. По всей вероятности, это были необыкновенные люди. Но, во имя Сервантеса, хотелось бы присоединить к ним еще одного — Людвига Тика, наделившего Дон Ки- хота лицевой стороной — немецкой. 24 мая Вчера я вспомнил и упомянул о «Золотом осле», п это не случайно, ибо я напал на след некоей связи «Дон Кихота» с позднеантичным романом, связи, 201
--------------------------о которой я, по малой своей осведомленности, не знаю, отмечена ли она другими или нет. В самом деле, соответствующие места и эпизоды обращают на себя внимание своей необычайностью, причудливостью своих мотивов, указывающей на древность происхо- ждения; и характерно то, что мы находим их во вто- рой, духовно более ценной части книги. Так, в девятнадцатой главе имеется рассказ о свадьбе Камачо «и других поистине забавных проис- шествиях». Забавных? На этой свадьбе творятся страшные вещи, но, объявив их «поистине забавны- ми», автор как бы предупреждает о том, что все эти ужасы — не что иное, как шутовство, обман, плутов- ские проделки, исподтишка подсмеивающееся лицедей* ство, трагическое дурачение читателя и тех, кто уча- ствует в этих событиях, в конечном итоге разрешаю- щихся радостным изумлением. «Поистине забавным» образом здесь описывается деревенское празднество—« свадьба прекрасной Китерии с богатым Камачо, удач- ливым соперником отвергнутого красавицей — правда, отвергнутого вопреки ее собственному желанию — славного юноши Басильо, с самых ранних лет полю- бившего соседскую дочь Китерию, которая отвечает ему взаимностью; перед богом и людьми они, несо- мненно, имеют право принадлежать друг другу, и лишь под жестоким давлением отца соглашается Китерия на брак с Камачо. Все участники празднества в сборе. Уже должно состояться венчание, как вдруг слышатся хриплые крики и среди присутствующих появляется злосчастный Басильо, одетый в черный камзол с «на- шивками в виде языков пламени». Прерывающимся голосом он обращается к Китерии и объявляет ей, что, не желая являться моральной помехой полному, со- вершенному счастью ее и Камачо, он сам уйдет прочь с дороги. «Много лет, — этим возгласом он заканчи- вает свою речь, — много лет здравствовать богатому Камачо с бесчувственною Китерией, и да умрет бед- няк Басильо, коего свела в могилу бедность, подре- завшая крылья его блаженству!» С этими словами он из своего посоха, воткнутого в землю, выхватывает скрытую в нем, как в ножнах, короткую шпагу и, 202
--------------------------укрепив в земле ее рукоять, бросается на острие, так что окровавленное стальное лезвие входит в него до половины и пронзает насквозь; несчастный, обливаясь кровью, падает наземь. Трудно даже представить себе, что пышное, весе- лое празднество могло быть прервано столь ужасным образом. Все бросаются к Басильо. Сам Дон Кихот, спрыгнув с Росинанта, бежит на помощь несчаст- ному; священник не отходит от него и не разрешает извлечь из раны шпагу, прежде чем Басильо не испо- ведуется, а то, мол, если извлечь, он тотчас испустит дух. Злосчастный Басильо начинает подавать при- знаки жизни и слабым голосом выражает желание, чтобы Китерия в смертный его час отдала ему свою руку в знак согласия стать его женой, — тогда его греховная смерть будет иметь оправдание. Как он представляет себе это? Неужели он думает, что бога- тый Камачо согласится отказаться от своих прав в пользу умирающего? Священник увещевает Басильо, уговаривает его помыслить о спасении души, испове- даться, но Басильо, по-видимому уже находящийся при последнем издыхании, отвечает, закатив глаза, что ни за что не станет исповедоваться, покуда Ките- рия не отдаст ему своей руки, на что почтенный Ка- мачо, из опасения погубить христианскую душу, в конце концов изъявляет согласие, и священник благо- словляет их. Но тотчас после этого Басильо вска- кивает на ноги, извлекает из своей груди шпагу, сидевшую там, как в ножнах, и дерзко заявляет тем, кто уже громко кричат «Чудо! чудо!»: — Не «чудо, чудо», а хитрость, хитрость! Словом, оказывается, что шпага прошла не сквозь грудь и ребра Басильо, а сквозь жестяную трубочку, искусно прилаженную и наполненную кровью, и что влюбленные заранее сговорились об этой проделке, которая благодаря покладистости Камачо, а также и мудрым настоятельным уговорам Дон Кихота кон- чается тем, что Китерия остается с Басильо. Допустимо ли такое? Сцена самоубийства пока- зана с величайшей серьезностью, в ней звучат траги- ческие ноты; она вызывает безраздельный ужас и
203
сострадание не только в сердцах всех тех, кто присут- ствует при ней, но и в сердцах читателей,— и что же? В конце концов она оказывается смехотворным обма- ном, скоморошеством. Не без досады вопрошаешь себя, приличествуют ли, в сущности говоря, такие мистификаторские приемы искусству — тому, что в на- шем понимании является искусством? Но дело в том, что от Эрвина Роде, а также из прекрасного исследо- вания будапештского мифолога и историка религий Карла Керени о греко-восточном романе я узнал, что сочинители поздней античности питали пристрастие к подобным сценам. Александрийский романист Ахил- лей Татий в своей «Истории Левкиппы и Клитофонта» пространно, не опуская ни одной жестокой подроб- ности, рассказывает, как разбойники в болотистых низинах Египта зверски умерщвляют героиню, притом на глазах ее возлюбленного, отделенного от нее ши- роким рвом. В ту минуту, когда он в своем безмерном отчаянии намеревается лишить себя жизни на ее мо- гиле, к нему подбегают его спутники, которых он тоже считал мертвыми, вытаскивают из могилы Левкиппу целой и невредимой и объясняют Клитофонту, что уговорили разбойников-буколов, взявших их в плен, поручить им умерщвление Левкиппы и посредством бутафорского кинжала с подвижным клинком и на- полненной кровью кишки, которой они обвязали де- вушку, создали видимость совершившегося злодей- ства. Мне думается, — быть может, я ошибаюсь,— что в этой главе «Дон Кихота» использован рассказ о кишке, наполненной кровью, и обо всем этом до- нельзя грубом надувательстве. Второй эпизод воскрешает в памяти самого Апу- лея. Я имею в виду чрезвычайно странное «приклю- чение с ослиным ревом», рассказанное в двадцать пятой и двадцать шестой главах, — рассказ о том, как двое деревенских судей, у одного из которых пропал осел, рука об руку отправляются пешком в лес, где рассчитывают найти этого осла, и, убедив- шись, что его там нет, пытаются приманить его, под- ражая ослиному реву, изощряясь в этом искусстве,- которым оба они великолепно владеют. Разойдясь
204
в разные стороны, они принимаются реветь по-осли* ному, и, как только слышится рев одного из них, дру- гой бежит ему навстречу, полагая, что осел уже сыскался, ибо никто, кроме осла, не мог бы реветь так естественно, и каждый из них расточает другому похвалы, восхищаясь его изумительным дарованием. Что касается осла, то он упорно не является, так как лежит, обглоданный волками, в самой чащобе. Там судьи наконец находят его и, разочарованные и охрип- шие, возвращаются восвояси. Но молва о том, как они состязались в пении, распространяется по всей округе, вследствие чего крестьяне их деревни подвер- гаются насмешкам жителей окрестных селений: стоит последним увидеть кого-нибудь из односельчан обоих судей, как они начинают реветь по-ослиному, а это вызывает жестокие раздоры, более того — побоища между селами. Санчо Панса и Дон Кихот попадают в эту местность в самый разгар приготовлений к од- ному из таких боев, ибо, как это сплошь и рядом бывает, жители ослиной деревни не преминули на- смешку обратить в предмет гордости, сделать из нее некий палладиум: они отправляются в бой со зна- менем, на белом атласном фоне которого изображен ослик с раскрытой пастью и высунутым языком. С этой эмблемой они, вооружившись копьями, арба- летами, секирами и алебардами, выступают на- встречу противникам ослиного рева, чтобы завязать с ними бой, как вдруг к воинственным крестьянам подъезжает Дон Кихот. Он обращается к ним с при- зывом, именем разума увещевая их отказаться от своего намерения и не идти на кровопролитие из-за пустяков. Все слушают его, по-видимому, очень охотно. Но тут Санчо, желая поддержать своего гос- подина, перебивает его и портит все дело. Он заявляет крестьянам, что глупо обижаться из-за одного только ослиного рева, и присовокупляет, что в юности ревел по-ослиному так искусно и натурально, что на его рев отзывались все ослы, какие только были в деревне; и, желая доказать, что искусство это, подобно плава- нию, однажды будучи постигнуто, век не забывается, он, зажав рукою нос, начинает реветь с такой силой,
205
что по всем окрестным долинам прокатывается эхо, — реветь, как оказывается, к величайшему для себя ущербу. Ибо крестьяне, неминуемо приходящие в бе- шенство от ослиного рева., жестоко избивают Санчо Пансу, а самому Дон Кихоту приходится, вопреки своему обыкновению, пуститься наутек от угрожаю- щих ему секир и арбалетов. Он во весь опор мчится прочь от толпы крестьян. Немного погодя за ним уныло следует Санчо, которого крестьяне, едва он немного пришел в себя, положили, поперек его осла. Впрочем, дружинники, до ночи тщетно прождав врага, не принявшего их вызов, вернулись к себе в деревню веселые и довольные. «И если бы, — прибавляет уче- ный автор, — им был ведом обычай древних греков, они на этом самом месте непременно сложили бы трофей». Удивительное происшествие! В нем слышатся отго- лоски, сквозят намеки, происхождение которых, мне кажется, вполне ясно. В мире греко-восточных рели- гиозных представлений осел играет совершенно осо- бую роль. Он — то животное, которое посвящено злому брату Осириса, Тифону-Сету, «Рыжему», и коренящаяся в мифах ненависть к нему еще так сильна была в средневековье, что раввины — коммен- таторы библии именуют Исава, рыжего брата Иакова, «диким ослом». С этим фаллическим, существом не- разрывно было связано представление о побоях. Выражение «колотить осла» имеет культовую окраску. Ослов целыми стадами в порядке ритуала гоняли вокруг городских стен, нещадно их избивая. Суще- ствовал даже благочестивый обычай сбрасывать Ти- фоново животное со скалы — тот самый вид умерщвле- ния, которого с таким трудом удается избежать превращенному в осла Луцию в романе Апулея* когда разбойники угрожают ему «низвержением». К тому же его нещадно колотят за ослиный рев, совсем как Санчо Пансу, да и вообще непрестанно дубасят, по- куда он пребывает ослохМ, — таких избиений можно насчитать до четырнадцати. Добавлю, что, по Плу- тарху, жители некоторых селений до того ненавидели ослины'й рев, что отвергали даже медные трубы, ибо 206
--------------------------звук их напоминал им этот рев. Не являются ли де- ревни, о которых повествуется в «Дон Кихоте», вос- поминанием об этих не в меру чувствительных селе- ниях? Испытываешь какое-то странное чувство, видя, как у писателя испанского ренессанса в наивно-замаскиро- ванном обличье оживают эти подлинно мифические мотивы. Откуда он их почерпнул? Из непосредствен- ного знакомства с античным романом? Или, быть мо- жет, они дошли до него из Италии, через посредство Боккаччо? Пусть разрешают этот вопрос ученые. В течение дня прояснилось, в небе синева. Море фиалкового цвета, — не так ли сказано у Гомера? Около полудня мы видели, как плыли над водой в сиянии солнца восхитительные, подобные отмелям полосы тумана, — целой вереницей, молочно-белые, словно для ангельских стоп созданные, нежная светя- щаяся фантасмагория. 25 мая Молодой доктор не доверяет погоде. Конечно, она хороша, но ни в чем нельзя быть уверенным, раз мы еще не вышли из полосы влияния Гольфстрима. Пока что мы наслаждаемся благоприятной переменой — по- теплением, как-никак дающим нам чувствовать, что мы незаметно переходим в иные, более южные зоны; наслаждаемся ясной синевой, большей плавностью движения по утихшим волнам, пребыванием на от- крытой палубе, где мы, то греясь на солнце, то укры- ваясь в тени, проводим почти весь день. Приходится беречь лицо от коварных солнечных ожогов. Из-за ветра жара не ощущается, а тем временем солнце ис- подтишка оказывает свое в конечном итоге болезнен- ное действие. Вчера вечером в Social Hall состоялся киносеанс—• даже этот дар цивилизации должен, по воле наших фрахтовщиков, быть к нашим услугам в пути, и крайне забавно наслаждаться им при данных обстоя- тельствах. В одном конце зала был установлен белый экран, в другом — источник картин и звуков, чудо- аппарат, в который благодаря прогрессу превратилась 207
--------------------------Laterna magica* нашего детства. Сидишь, одетый в смокинг, среди слегка колышущегося великолепия гостиной, в кресле, у вызолоченного столика, пьешь чай, куришь сигареты и, как в любом «Эльдорадо» или «Капитолии» на суше, смотришь на двигающиеся, говорящие тени там, на экране, — поразительная си: туация! Однако положение действующих лиц ничуть ме уступало нашему, — они окружены были таким же, если не большим великолепием и комфортом. Необ- ходимой предпосылкой их бытия и судеб являлось устойчивое благосостояние, смягчавшее, к утешению зрителя, те конфликты и испытания, которые им при- ходилось переживать. Так и должно быть. Анфилады просторных, пышных гостиных, столы, уставленные хрусталем и серебряными вазами с фруктами,— фильм охотнее всего показывает богатство: народу — для сладких мечтаний, тем, кто олицетворяет власть денег, — для приятного самолюбования. Наш фильм, американского производства, поведал нам о пожилом директоре крупного предприятия, который, испытывая непреодолимое дилетантское влечение к музыке, жи- вописи, красоте, возвышенным страстям, покидает жену и в погоне за призрачными своими мечтами от- правляется в Париж. Но эта неподобающая такому лицу попытка кончается неудачей, правда не слишком катастрофичной: женщина, воплотившая в себе его мечту, достается молодому музыканту, создавшему себе имя благодаря его поддержке, и в последней сцене мы видим, как директор по телефону объявляет снисхо- дительной супруге о скором своем возвращении. Конец, хоть и меланхолический, однако весьма сносный — ведь зритель знает, что разочарованного, но, надо ду- мать, и умиротворенного путешественника снова ждут анфилады гостиных и столы, уставленные хрусталем. Плохо было лишь одно — что все эти приятные сцены, вполне приличествующие общественному поло- жению героев, проходили перед столь малочисленным обществом — перед десятком людей вместо тех сотен, на которые рассчитан был большой зал роскошного 1 Волшебный фонарь (лат.).
208
парохода, голубой, раззолоченный, пустота которого, зияющая и убыточная, являла картину экономиче- ского строя, трещавшего в кризисе по всем швам. Даже не все те, кто входил в состав нашей малень- кой стойкой дружины, были налицо. Я не видел аме- риканца с рыбьим ртом, делающего заметки. Где он обретается? Опять у евреев-эмигрантов в третьем классе? Беспокойный человек. Едет первым классом, обедает, одетый в смокинг, в нашей столовой, но от духовной нашей пищи отказывается самым оскорби- тельным для нас образом и удаляется в чуждые нам, враждебные сферы. Человеку следовало бы знать, где его место. Следовало бы проявлять солидарность. Приключение со львами, несомненно, является самым доблестным из всех «деяний» Дон Кихота и поистине представляет собой кульминацию всего ро- мана: чудесная глава, насыщенная комическим пафо- сом, патетическим комизмом, в котором сквозит под- линное восхищение, внушенное автору героическим сумасбродством его героя. Я прочел ее два раза под- ряд, и содержание ее, странно волнующее, величаво- смешное, не выходит у м^ня из головы. Уже самая встреча с украшенной флажками повозкой, где сидят африканские львы, которых губернатор Орана отсы- лает ко двору в подарок его величеству, — прелестная жанровая сценка: А напряжение, которое, — после всего того, что уже знаешь о слепой доблести Дон Кихота, растрачиваемой им впустую, — испытываешь, читая, как он, к ужасу своих спутников и не давая «сбить себя с толку» никакими разумными доводами, настаивает на том, чтобы сторож открыл клетку и вы- пустил свирепых голодных зверей на бой с ним, — напряжение это свидетельствует о необычайном ис- кусстве, с которым автор, многократно видоизменяя один и тот же эмоциональный мотив, умеет сохранить за ним всю его свежесть и действенность. Ведь без- рассудная отвага Дон Кихота поражает именно по- тому, что он отнюдь не так безумен, чтобы не отда- вать себе отчета в ней. «Нападение на львов, — го- ворит он потом, — я почел прямым своим долгом, хотя и сознавал, что это из ряду вон выходящее без-
209
рассудство, ибо мне хорошо известно, что такое храб- рость, а именно: это такая добродетель, которая нахо- дится между двумя порочными крайностями, каковы суть трусость и безрассудство. Однако ж наименьшим злом будет, если храбрец поднимется и досягнет до безрассудства, чем если он унизится и досягнет до тру- сости; и насколько легче расточителю стать щедрым, нежели скупцу, настолько же легче безрассудному превратиться в истинного храбреца, нежели трусу воз- выситься до истинной храбрости». Какое тонкое, мо- рально-возвышенное разграничение понятий! Наблю- дение, сделанное рыцарем Зеленого плаща, безупречно правильно: все речи Дон Кихота толковы и складны, но все поступки, которые он совершает, исходя из них, нелепы, безрассудны и ни с чем не сообразны. И едва ли автор не усматривает в этом некоей естественной и непреложной антиномии высокоразвитой моральной личности. Классическая, сотни раз увековеченная художни- ками сцена, как тощий, долговязый идальго, спешив- шись,— ибо он опасается, что его кляча окажется ме- нее храброй, чем он сам, — вооруженный плохоньким мечом и таким же щитом, готовый к нелепому бою, стоит перед отпертой клеткой, с бесстрастным вни- манием всматриваясь во все движения огромного льва, и с героическим нетерпением ждет, чтобы лев поскорее вступил с ним «врукопашную», — эта изу- мительная сцена в изложении Сервантеса снова ожи- ла передо мной, как и ее продолжение, повествующее о столь же благоприятном, сколь и конфузном для Дон Кихота презрении, с каким противник отнесся к его доблестным намерениям, и о крушении их. Ибо благородный лев, на которого скоморошество и дерз- кие выходки не производят никакого впечатления, мельком взглянув на рыцаря, повернулся, «показал ему зад», а затем «прехладнокровно и не торопясь» снова вытянулся в клетке. Героизм сведен на нет про- стейшим образом. Все то постыдное и смешное, что присуще положению отвергнутого, обрушивается на Дон Кихота в силу презрительно-равнодушного пове- дения величавого зверя. Это приводит его в неистов-
210
ство. Он приказывает сторожу дать льву несколько палочных ударов, чтобы разозлить его и выгнать из клетки. Однако сторож наотрез отказывается выпол- нить это требование и объясняет рыцарю, что тот в достаточной мере проявил свою храбрость; «от са- мого храброго бойца, сколько я понимаю, — говорит он, — требуется лишь вызвать недруга на поединок и ожидать его на поле брани; если же неприятель не явился, то позор на нем…» — и так далее. Дон Кихот в конце концов внемлет его уговорам и поднимает на острие копья в знак победы тот самый платок, кото- рым он вытирал с лица творожный пот, а бежавший Санчо, обернувшись назад и завидев этот знак, го- ворит: «Убейте меня, если мой господин не одолел этих диких зверей, — ведь он нас кличет». Здесь отчетливее, чем где бы то ни было, выра- жена решительная готовность автора одновременно и унизить и возвеличить своего героя. Но унижение и возвеличение — понятия соотносительные, насыщен- ные христианскими чувствами, и это их психологиче- ское соединение, это пронизанное юмором слияние свидетельствуют о том, насколько Дон Кихот является порождением христианской культуры, христианского сердцеведения и человечности, — и о непреходящем значении христианства для духовного мира, для ис- кусства и, наконец, для человечества, его смелого развития и освобождения. Мне вспоминается мой Иаков, простершийся в прах перед юным Элифасом, испытавший предельное унижение — и затем во сне, из глубин своей все же не смирившейся души творя- щий несказанное свое возвеличение. Что бы ни го- ворили— христианство, этот цвет иудаизма, является одним из двух устоев, на которых зиждется западная цивилизация; второй — античное Средиземноморье. Отрицание теми или иными из числа народов, объеди- няемых западной цивилизацией, хотя бы одной из этих основных предпосылок нашей морали и образо- ванности, или их обеих, повлекло бы за собой выход этих народов из этого объединения и невообразимый, впрочем — благодарение богу! — совершенно неосуще- ствимый поворот человечества вспять, до какого
211
предела — не знаю. Яростная борьба Ницше, этого- поклонника Паскаля, с христианством была противо- естественной причудой и, по правде сказать, всегда ставила меня в тупик, как и многое другое у этого злосчастного героя. Гете, более уравновешенный ду- ховно и более свободный, несмотря на свое убежден- ное язычество, с изумительной яркостью выражал свое преклонение перед христианством, воспринимая его как ту смягчающую нравы силу, которою оно является, и как своего союзника. В такие тревожные времена, как наше, всегда склонные смешивать то, что присуще данной эпохе, с непреходящим (напри- мер, либерализм — со свободой) и вместе с водою выплескивать ребенка,— в такие времена всякий сколь- ко-нибудь вдумчивый и духовно свободный человек, не только несущийся по воле ветра своего века, испы- тывает потребность вновь поразмыслить о непрелож- ных основах, вновь их осознать и отстаивать. Критика, которой наш век подвергает христианскую мораль (не говоря уже о догме и мифологии), поправки, вноси- мые в нее соответственно современному жизнеощуще- нию, — как бы далеко они ни заходили, как бы зна- чительно они ее ни преобразовывали, все же касаются лишь поверхности. Сокровенных глубин — всего того, что созидает, определяет и связует, христианской культуры людей Запада, того, что, однажды будучи обретено, уже не может быть утрачено, — они не за- трагивают. 26 мая Газета, выходящая на пароходе, достаточно ник- чемна. Она выпускается ежедневно, кроме воскресе- ний, дабы путешествующие по океану не испытывали недостатка в свежеотпечатанных известиях, как не испытывают они недостатка в свежеиспеченном хлебе. Нам ее просовывают в щель под дверь нашей каюты, где мы, возвращаясь из столовой после ленча, нахо- дим ее, подбираем и тут же принимаемся за чтение, ибо кто знает, что начнет вытворять Европа, едва только отлучишься? Газета в значительной части — это особенно касается объявлений и иллюстраций —
212
отпечатана заранее и поэтому лишена актуальности. Но на пароходе имеется ведь радиостанция, и при кажущемся нашем одиночестве, нашей заброшенности среди водной пустыни мы пребываем в связи со всем миром, можем посылать сообщения во все стороны и сами принимать их отовсюду, и то, что приносят нам радиоволны из всех стран света, помещается в столб- цах, для этой цели оставленных незаполненными. Что мы прочли сегодня? В зоологическом саду какого-то города Западной Америки тигру во время болезни давали виски в лечебных целях, и буйный зверь так пристрастился к этому напитку, что по выздоровлении не пожелал отказаться от него и ежедневно требует свою порцию виски. Это сообщение наряду с другими, сходными с ним, напечатано в пароходной газете. Приятная новость, конечно. Те, кто поместили ее, не- даром рассчитывали на наше игриво-сочувственное отношение к тигру, ставшему любителем алкоголя. И, однако, не кроется ли здесь нечто вроде злоупо- требления? Чудо техники — радиотелеграф—обречено служить передаче подобных новостей на суше и на море. — Ох уж это мне человечество! Его духовное и нравственное развитие не поспевает за техническими его успехами, далеко отстает от них, — что в данном случае лишний раз подтверждается, — и это-то и за- ставляет сомневаться в том, что будущее его будет счастливее, нежели прошлое. Ведь именно дистанция между технической его возмужалостью и незрелостью его в других отношениях создает то исполненное не- доверия любопытство, с которым хватаешься за вся- кую газету — и находишь сообщение о веселом тигре! Хорошо еще, если не что-нибудь похуже. Правда, с несерьезностью, нашей радиостанции дело обстоит совершенно так же, как с легкомыслием наших борт- музыкантов. В случае надобности она вполне сумеет передать сигнал SOS — она и это может. И ради спа- сения достоинства техники ты готов пожелать, чтобы случай к тому представился. Вчера вечером поднялся сильный ветер, и ночью была сильная боковая качка, а сегодня снова чудес- ная погода и тепло, как летом. Мы видели, как из
213
воды вынырнула большая рыба, напоминающая дель- фина. Слух о том, что мы в пути переехали кита, по- видимому, ложен. Пассажиры думают, что так пола- гается на море, а потому сообщают друг другу по- добные россказни. Около полудня стюард бара указал нам на стаю птиц — чаек, качавшихся на волнах довольно близко от парохода, — несомненный признак того, что мы уже не слишком далеко от земли. Однако не только час, но даже день нашего прибытия нельзя еще точно определить. Говорят, что при устойчиво благоприят- ном течении и тихой погоде оно состоится послезавтра, в понедельник, после полудня. На это возражают, что туманы первых дней сильно задержали нас и мы войдем в Гудзон не ранее вторника. Неопределен- ностью часа и даже дня прибытия путешествие морем тоже разнится — я чуть было не сказал: выгодно раз- нится— от путешествия по железной дороге. В путе- шествии морем, несмотря на предельный комфорт, есть нечто первобытное, большая подвластность сти- хии, большая неуверенность и подверженность слу- чаю, — все это невольно ощущаешь как некие привле- кательные особенности. Почему? Неужели и у меня — в том, что мне это по вкусу — проявляется, честно говоря, пресыщение механизмом цивилизации, склон- ность отречься от него, отвергнуть его как нечто губительное для души и жизни и утверждать, искать форму бытия, которая снова приблизила бы нас к первобытному, стихийному, неустойчивому, на военный лад импровизируемому и обильному приклю- чениями? Неужели и во мне сказывается свирепствую- щая повсюду жажда «иррационального», тот культ, опасность которого для человека, легкость злоупо- требления которым мое критическое чутье ведь живо ощущало, которому я, по присущему мне как евро- пейцу влечению к разуму и порядку, противоборство- вал,—скорее, быть может, ради равновесия, нежели потому, что во мне самом не было того, с чем я бо- ролся? Как повествователь я пришел к мифу, правда гуманизируя его, — чем вызываю безграничное к себе пренебрежение со стороны людей4 признающих одно
214
лишь непосредственное чувство, стремящихся перево- плотиться в варваров, — правда, пытаясь создать не- кое сочетание мифа и гуманности, которое, так мне думается, окажется более плодотворным для будущ- ности человечества, нежели односторонне связанное с определенным моментом противоборство духуг стремление завоевать симпатии современников ревно- стным попранием разума и цивилизации. Чтобы быть в состоянии подготовлять будущее, нужно не только «стоять на уровне времени» в смысле актуального движения, к которому, преисполнясь гордости и за- хлебываясь от презрения к отсталому либералу, све- дущему и в кое-чем другом, причастен всякий осел- Для этого нужно ощущать современность во всей ее сложности и противоречивости внутри самого себя, ибо не единым, а многообразным подготовляется будущее… Захватывает и полон значения рассказ о встрече Санчо Пайсы с мориском Рикоте, лавочником из его деревни, который после обнародования указа об из- гнании мавров вынужден был покинуть Испанию, а затем, в одежде паломника, вновь пробирается туда, влекомый тоской по родине, но заодно и желанием от- копать клад, некогда зарытый им в поле. Эта глава являет собой умнейшее сочетание заверений в лояль- ности, изъявлений безграничной преданности автора католической вере, подлинно верноподданнических чувств, питаемых им к «великому» Филиппу Третьему, и наряду с этим—живейшего, человечнейшего уча- стия к жестокой судьбе целого народа, указом об из- гнании неумолимо, без малейшего снисхождения к страданиям отдельных лиц принесенного в жертву мнимому благу государства и ввергнутого в неска- занные бедствия. Заверения эти — та цена, которою автор купил право на сочувствие. Но всегда, так мне думается, было ясно, что первые являлись политиче- ской уловкой, необходимой, чтобы выразить второе, и что искренни лишь те чувства, которые он питает к маврам. В уста мавра, так жестоко пострадавшего, он вкладывает одобрение указов его величества, 215
--------------------------признание, что они были «вполне справедливы». Многие — так, по воле автора, говорит Рикоте — ду- мали, что/королевский указ — пустая угроза, не при- нимали его всерьез. Но сам он сразу решил, что этот указ—настоящий закон, который будет беспощадно приводиться в исполнение, а понял он это потому, что знал о «преступных замыслах» своих соплеменников, замыслах такого свойства, что, кажется, само провиде- ние побудило его величество «принять и претворить в жизнь это смелое решение». Преступные замыслы, оправдывающие божественное внушение, точнее не определяются; они пребывают стыдливо окутанными мраком. Но они, по словам Рикоте, существовали, хотя он и оговаривается, что не все мориски были к ним причастны; среди нас, — повествует он, — были также стойкие и подлинные христиане; но таких было слишком мало, и как бы то ни было, опасно пригре- вать на своей груди змею и иметь врагов в своем соб- ственном доме. Рассуждения, которые автор приписывает жестоко пострадавшему мориску, изумительны по своему благоразумию и беспристрастию. Но они неприметно переходят в иную плоскость. Вполне справедливо было, говорит Рикоте, осудить мавров на изгнание, и многие считали эту кару мягкой и милосердной; но на деле она оказалась самой ужасной, какой только можно было подвергнуть его самого и весь его народ. «Всюду, куда бы ни забросила нас судьба, мы плачем по Испании; мы же здесь родились, это же настоящая наша отчизна, и нигде не встречаем мы такого приема, какого постигшее нас несчастье заслуживает, но особенно нас утесняют и обижают в Берберии и повсюду в Африке, а ведь мы надеялись, что там-то нас уж верно примут с честью и обласкают». И мо- риск, выходец из Испании, продолжает сетовать так горько, что его жалобы трогают нас до глубины души. Не хранили мы, говорит он, того, что имели, а те- перь вот, потерявши, плачем, и почти всем изгнан- никам до того хочется возвратиться в Испанию, что они бросают на произвол судьбы жен и детей и 216
--------------------------с опасностью для жизни пробираются на родину — так велика их тоска по ней. И теперь он по себе знает, что недаром говорится: «Нет ничего слаще любви к отечеству». Каждому ясно, что эти проявления неискоренимой любви к родине, глубокой привязанности к ней красноречивейшим образом опровергают покаянные речи о «змее, пригретой на своей груди», о «врагах в собственном доме» и великой справедливости указа об изгнании. Все, что автор говорит от имени Рикоте во второй половине его речи, исходит от его сердца, и несравненно убедительнее, чем то, что гла- голет его раболепно-осторожный язык; он искренне сочувствует этим изгнанникам, являющимся такими же добрыми испанцами, как он сам и всякий другой, ибо они родились в Испании, которая после их ис- хода не станет лучше, а лишь беднее; она их подлин- ная, настоящая родина, где они пустили глубокие корни, вне которой они всюду будут чужими, и везде и повсюду из их уст будут слышаться слова: «у нас», «у нас в Испании то или иное было так или вот так, то есть: лучше». Сервантесу — неимущему, зависи- мому литератору—никак нельзя было обойтись без верноподданничества; но, осквернив на миг-другой свое сердце ложью, он тотчас очищает его от этой скверны — очищает лучше, чем очистила себя Испа- ния пресловутыми указами. Он осуждает жестокость этих, только что им одобренных указов, он порицает ее — не прямо, а подчеркивая любовь изгнанников к своему отечеству. Он даже отваживается говорить о «свободе совести»; Рикоте рассказывает, как он из Италии пробрался в Германию и там ему «показа- лось привольнее, оттого что местные жители на раз- ные мелочи не обращают внимания: каждый живет как хочет, ибо почти во всей стране существует сво- бода совести». Прочтя эти строки, я в свою очередь ощутил пат- риотическую гордость, хотя слова, возбудившие ее во мне, были сказаны очень уж давно; всегда приятно слышать из чужих уст хвалу своей отчизне. 217
--------------------------27 мая У моря погода всегда переменчива, но еще более переменчива и ненадежна погода в открытом море, где к колебаниям метеорологических условий присо- единяется непрерывное движение, переход из одной климатической зоны в другую. Вчерашняя теплынь уже к вечеру, когда небо заволоклось тучами, смени- лась какой-то жуткой духотой, влажной, дымной, невыразимо тягостной и настолько гнетущей нервы, что мы вот-вот ждали катастрофы и резкой перемены погоды. Вечерний костюм был чрезвычайно стесни- телен, мы обливались потом под крахмальными со- рочками, а чай еще усиливал испарину. Не знаю, как долго это тянулось, но сегодня все по-другому. Утро было прохладное, пасмурное. Туман временами сгу- щался, и снова часами выла сирена. Но и это кончи- лось. Ветер переменил направление, небо прояснилось, но, назло солнцу, погода оставалась — по крайней мере в сравнении с тропической жарой вчерашнего вечера — такой холодной, что для лежанья в шезлонге на палубе понадобились плед и пальто. В воздухе уже чувствуется беспокойство, предше- ствующее прибытию. Сегодня воскресенье. Говорят, мы прибудем в ночь с понедельника на вторник, но до утра будем стоять вблизи устья, а в гавань войдем во вторник, в семь часов утра. Я должен еще вернуться к тому, что писал вчера, и уяснить самому себе, в какой значительной мере факт связанности творца «Дон Кихота» религией и верноподданством повышает духовную ценность его свободы, человеческую весомость его критики. Меня сильно занимает вопрос об относительности всякой свободы, то обстоятельство, что стать духовной цен- ностью, показателем более высокого достоинства сво- бода может лишь в обрамлении значительной, притом не только внешней, но и внутренней, подлинной несво- боды и зависимости. Трудно составить себе предста- вление о той зависимости, той подчиненности, в кото- рой в прежние времена пребывала творческая личность, о том освобождении творческого «я», кото-. 218
--------------------------рое принесла эпоха бюргерства и о котором можно сказать, что оно оказалось плодотворным лишь в ред- ких случаях, для очень крупных художников. В ту пору для людей, занимающихся искусством, — даже для тех, кто достигал высокого совершенства,.— ха- рактерен был духовный строй, душевный уклад, при- сущий скромным ремесленникам, и лишь время от времени отдельные личности, счастливо одаренные той великой творческой мощью, которой покоряются властелины, возносились несравненным превосход- ством своего духа над этим укладом; такие условия, пожалуй, были в целом более благоприятны для пре- успеяния художников, чем нынешние, когда дело на- чинается с раскрепощения, с «я», со свободы, с гла- венства, и нет уже той конкретной скромности, которая взращивает подлинное величие. Когда-то на- чинающий художник или ваятель, задумавший посвя- тить себя делу искусного, умелого украшения мира и стремившийся изучить эту прекрасную профессию, поступал в ученье к хорошему мастеру, мыл кисти, растирал краски, учился с азов. Из него выходил тол- ковый подмастерье, которому старик мастер иной раз поручал кое-что в своих работах, наподобие того как профессор-хирург в конце операций говорит ассис- тентам: «Доделайте!» Наконец он сам, если все шло хорошо, становился добропорядочным мастером своего дела, — большего ему и не требовалось. Он именовался «artista» — это слово покрывало оба по- нятия: понятие художника и понятие ремесленника; в Италии еще и поныне так именуется всякий ремес- ленник. Гений, выдающаяся личность, одинокое дер- зание являлись исключениями, которые возвышались над скромной и подлинной, богатой предметным зна- нием культурой ремесленников, и в своем росте достигали царственного величия; причем надо еще помнить, что и те, кто достигал высшей славы и вели- чайших почестей, оставались преданными сынами церкви, от нее получали заказы и сюжеты для них. В наши дни, как я уже говорил, начинают с гения, личности, духа, обособленности, и это нельзя не считать болезненным явлением. Гуго фон Гофман- 219
--------------------------сталь, в силу свойственных австрийцам итальянских черт интуитивно близкий восемнадцатому веку, как-то раз остроумно, с большим юмором изобразил мне ра- зительные перемены, происшедшие с тех времен в жизнеощущении музыканта.. По его словам, бы- вало, мастер этого искусства, когда к нему являлся посетитель, говорил приблизительно следующее: «Присаживайтесь! Кофейку хотите? Сыграть вам что- нибудь?» Так это происходило когда-то. А нынче вид у них всех, как у больных орлов». Конечно, так оно и есть. Творческие личности стали больными орлами в силу процесса возвеличения, которому искусство подверглось с той поры и который в массе злосчаст- ным образом вознес и меланхолизировал этих людей, да и самое искусство сделал обособленным, меланхо- личным, одиноким, непонятным, — «больным орлом». Справедливо, разумеется, что писатель является представителем иного рода творческой деятельности, нежели artista, подвизающийся в сфере изобразитель- ных искусств, и нежели музыкант; что писательство занимает среди искусств особое место, ибо техниче- ское в нем играет менее значительную и во всяком случае иную, нематериальную, более духовную роль, и что связь его с миром духовного в целом более не- посредственна. Писатель — не только художник, он художник иного, более одухотворенного порядка, ибо посредником для него является слово, его орудие — духовного свойства. Но по отношению к нему тоже хотелось бы желать, чтобы свобода и раскрепощение значились в конце, а не в начале, естественно возни- кали бы из скромности, ограничения, зависимости, подчиненности, ибо, повторяю, свобода лишь тогда становится ценной, лишь тогда придает более высокое достоинство, когда она отвоевана у несвободы, когда она> является освобождением. Человеческое участие Сервантеса к судьбе мавра, скрытое осуждение, кото- рое он тем самым выносит жестокостям, содеянным во имя блага государства, — какую силу, какую мо- ральную значимость они приобретают благодаря тем раболепным речам, которые Сервантес им предпосы- лает и в которых выражается отнюдь не лицемерие,
220
а подлинная духовная скованность! Достоинство и свобода, подобающие человеку, творческое раскрепо- щение художника, предельная смелость духа, пред- стающие нам в Дон Кихоте как смешение жестоко унижающей нелепости и трогательного величия, все это — гений, духовное величие, высшее дерзание — бе- рет начало в благочестивой зависимости, вытекающей из подчиненности святейшей инквизиции, в формаль- ной верноподданности монарху, в искании покрови- тельства таких вельмож, как граф Лемосский и дон Бернардо де Сандоваль-и-Рохас, в восхвалении их «всему миру известной» щедрости. И все это возни- кает из верноподданнической скованности так же не- произвольно и неожиданно, как само произведение, по начальному замыслу — занимательная сатириче- ская шутка, перерастает в мировую книгу и символ человечности. Я считаю, что, как общее правило, ве- ликие произведения вырастали из скромных замыслов. Честолюбию не место в начале творческой работы; оно должно расти вместе с самим творением, стремя- щимся превратиться в нечто большее, нежели то, что было задумано радостно недоумевающим художни- ком, и с этим творением, а не с личностью художника, оно должно быть связано. Нет ничего более ошибоч- ного, чем абстрактное, довещное честолюбие, често- любие в себе, независимо от созидаемого, бледное честолюбие своего «я». У таких художников действи- тельно вид больных орлов. 28 мая Последний день в море. Вчера нам уже повстре- чался корабль — впервые со дня нашего отплытия, почему эта встреча и произвела сенсацию. Судно было датское, примерно тех же размеров, что и наше, на корме развевался датский флаг, и я с удовольст- вием наблюдал салют флагами, которыми мы обме- нялись,— взаимное в рыцарском духе приветствие, всегда имеющее место, когда два корабля проходят друг мимо друга. На мостике засвистела дудка, и один из матросов проворно приспустил наш нидер- ландский флаг, в то время как на встречном корабле
221
пополз книзу данеброг. Затем, как только корабли ми- новали друг друга, снова раздался свист: флаги опять взвились, — морской церемониал был соблюден. Как прекрасен этот салют! Моряки, связанные между со- бой интернациональной дружбой в силу своей профес- сии, всюду одинаковой, столь своеобразной, сохранив- шей при всей механизации нечто отважное, авантюр- ное, при встрече среди необъятной, буйно-своенравной стихии, которой все они одинаково подвластны, оказы- вают друг другу почести, а через их посредство, со- блюдая вежливость в отношении друг друга, пока не затеют войны, делают то же самое и нации, послан- цами и территориальными отростками которых эти корабли являются. Но ни Дания, ни Нидерланды войны не затеют. И та и другая — страны маленькие, благоразумные, избавленные от героической историч- ности, в то время как большие страны, в сущности, только и думают, что о войне, почему в их салютах флагами чувствуется некая зловещая корректность, насыщенная всевозможными ироническими оговор- ками. Небо ясное, сияющее, море покрыто легкой рябью. Корабль идет плавно, ощущаются лишь легкие коле- бания вправо и влево, вызываемые, вероятно, только ходом и управлением. Но разница в температуре, по сравнению с тропическим вечером два дня тому назад, все еще поразительная. Ночью было очень хо- лодно, утром более чем свежо, и даже на солнце сидишь, еще закутавшись в пальто и плед. Я склонен считать конец «Дон Кихота» довольно слабым. Создается впечатление, что смерть является здесь прежде всего средством обезопасить этот образ от дальнейших невежественных попыток использовать его в литературе, а тем самым в нее привносится не- что литературное, деланное, что не трогает нас. Ведь одно дело, когда любимый автором герой умирает по ходу повествования, и совсем другое — когда автор заставляет его умереть, декретирует и провозглашает его смерть, дабы никто другой уже не мог заставить его разгуливать по свету« Тут налицо литературное убийство, умерщвление из ревности, хоть ревность эта
222
и свидетельствует опять-таки о тесной, горделиво от- рицаемой связи автора с вечно примечательным созда- нием его духа — о глубоком чувстве, ничуть не ума- ляемом тем, что оно находит выражение в шуточных, литературного свойства мерах предосторожности про- тив непрошеных попыток воскресить его героя. Свя- щенник требует от писца свидетельства о том, что Алонсо Кихано Добрый, обыкновенно называемый Дон Кихотом Ламанчским, действительно преставился и опочил вечным сном; это свидетельство, подчерки- вает автор, «понадобилось ему для того, чтобы какой- нибудь другой сочинитель, кроме Сида Ахмета бен- Инхали, не вздумал обманным образом воскресить Дон Кихота и не принялся сочинять длиннейшие исто- рии его подвигов». Но сам Сид Ахмет растворяется в воздухе, оказывается тем приемом юмористического вымысла, каким всегда являлись подобные персонажи. Правда, он еще вешает свое перо на медный крючок и поручает ему предостерегающе заявить «дерзно- венным и злочестивым сочинителям», которые взду* мают снять его, чтобы осквернить: Тише, тише, шалунишки, Пусть никто меня не тронет. Ибо только мне — внимайте —* Уготован этот подвиг!1 Кто это говорит? Кто провозглашает: «только мне»? Перо? Нет, то говорит иное «я», внезапно появляю- щееся и вступающее в действие: «Для меня одного родился Дон Кихот, а я родился для него; ему су- ждено было действовать, мне — описывать; мы с ним составляем чрезвычайно дружную пару, на зло и на зависть тому лживому тордесильясскому писаке, ко- торый осмелился (а может статься, осмелится и в дальнейшем) грубым своим и плохо заостренным страусовым пером описать подвиги доблестного моего рыцаря, — ибо этот труд ему не по плечу и не его окоченевшего ума это дело…» Великолепно! Он от- лично знает, какую благородную и тяжкую по своей 1 Перевод М. Лозинского.
223
--------------------------человечности ношу он вынес на своих плечах, созда- вая эту развлекающую весь мир историю, хотя вначале он этого не знал. И странное дело! В самом конце он этого опять не знает. Опять забывает об этом. Он говорит: «Ибо у меня иного желания и не было, кроме того, чтобы внушить людям отвращение к вы- мышленным и нелепым историям, описываемым в ры- царских романах; и вот, благодаря тому что в моей истории рассказано о подлинных деяниях Дон Кихота, романы эти уже пошатнулись и, вне всякого сомне- ния, скоро падут окончательно. Vale» К Это — возврат к первоначальному, непритязатель- ному, сатирически-пародийному замыслу книги, так далеко затем вышедшей за пределы его; и самая глава о смерти является выражением этого возврата, ибо смерти Дон Кихота ведь предшествует обращение его на путь истины. Умирающий — о радость! — вновь обретает «здравый ум»; он спит шесть часов подряд, а когда пробуждается, то оказывается, что господь в своем милосердии исцелил его дух. Его разум «уже свободен от густого мрака невежества, в который его погрузило злополучное и постоянное чтение мерзких рыцарских романов», он постиг всю их вздорность и лживость и «уразумел свое недомыслие», и он уже не хочет быть Дон Кихотом Ламанчским, рыцарем Пе- чального Образа, рыцарем Львов, а хочет быть Алонсо Кихано, разумным человеком, таким, как все люди. Предполагается, что мы должны радоваться этому, но поразительно, как мало это нас радует,— нас это расхолаживает, мы словно сожалеем об этом. Нам жаль Дон Кихота, как было жаль его уже тогда, когда скорбь, в которую он впал после своего пораже- ния, повергла его на смертный одр. Ибо эта скорбь является подлинной причиной его смерти. Лекарь свидетельствует, что его кончина вызвана «тоскою и унынием». Его убивает гнетущее сознание, что его миссия странствующего рыцаря, поборника справед- ливости, закончилась плачевнейшей неудачей, и нам, в чьих ушах еще звучит слабый, больной голос, твер- 1 Прощай (лат.).
224
дящий: «Дульсинея Тобосская самая прекрасная жен- щина в мире,.а я самый несчастный рыцарь на свете, но мое бессилие не должно поколебать эту. истину. Вонзай же копье свое, рыцарь!» — нам передается его подавленность, хотя мы и знаем, что эта миссия неминуемо должна была так кончиться, ибо она являла собой не что иное, как сплин, любимый конек. Но этот великодушный сплин в течение рассказа ведь стал так дорог нам, что мы склонны и готовы принимать . его за подлинный дух героя, воспри- нимать его так, как если бы он был подлин- ным его духом, — ив этом вина, прекрасная вина писателя. Случай до крайности затруднительный. Дело раз- ладилось. Если бы Сервантес остался верен своему первоначальному замыслу — путем рассказа о неле- пых начинаниях и поражениях некоего сумасброда возбудить отвращение к рыцарским романам, — все было бы просто и ясно. Но созданная им книга не- взначай переросла этот замысел, и тем самым автор лишился возможности дать удовлетворительный ко- нец. О том, чтобы изобразить Дон Кихота гибнущим в одном из его безрассудных поединков, не могло быть и речи, — это было бы уж слишком некрасиво по отношению к нему. Дать ему жить дальше, после того как он вновь обрел здравый ум, тоже не годи- лось, — это значило бы низвести Дон Кихота с той высоты, на которой он стоял, продолжить жизнь его оболочки, но не души, не говоря уже о том, что из соображений охраны литературной собственности его нельзя было оставить в живых. Я отлично понимаю и то, что изобразить его умирающим в его нелепом, заблуждении, правда, пощаженным копьем рыцаря Белой Луны, но погруженным в глубочайшее, вызван- ное поражением отчаяние, было бы не в духе хри- стианства и непедагогично. От этого отчаяния его в смертный час должно было избавить познание той истины, что все это было повреждением ума; но, с другой стороны, смерть в сознании, что Дульсинея отнюдь не достойная поклонения принцесса, а не- опрятная деревенская девка, и что все, что он делал,
225
чему верил, за что страдал, было сплошной нелепи- цей, — не исполнена ли такая смерть отчаяния? Конечно, необходимо было, прежде чем Дон Кихот преставился, спасти его душу, вернув ему рассудок. Но если художник хотел, чтобы это спасение пришлось нам по сердцу, ему не следовало заставить нас так сильно полюбить его безрассудство« Это показывает, что гениальность может доставить много затруднений, что она способна расстроить планы автора. Впрочем, он не слишком разукраши- вает смерть Дон Кихота. Она изображена как спо- койная кончина порядочного человека, умирающего с достоинством, по-христиански, после того как он предварительно исповедался, причастился и при со- действии писца привел в порядок свои земные дела, «Ничто на земле не вечно, все с самого начала и до последнего мгновения клонится к закату, в особен- ности жизнь человеческая, а как небо не наделило жизнь Дон Кихота особым даром замедлять свое те- чение, то она достигла конца и завершения своего». С этими уснащенными юмором доводами читатель должен примириться, как примирились друзья, кото- рые лишаются Дон Кихота,— экономка, племянница, бывший его конюший Санчо. Они, правда, от всей ду- ши оплакивают его, что лишний раз убеждает чита- теля, каким добрым господином он был для них. При сообщении о том, что его положение безнадежно, «из очей у них, и без того уже влажных, так и хлынули слезы, а из груди беспрестанно вырывались глубокие вздохи». Этот несколько вычурный подбор слов при- дает описанию искреннего горя слегка комическую окраску; а кроме того, далее — по-житейски, по-чело- вечески— говорится, что в течение тех трех дней, что длилась агония Дон Кихота, весь дом был в тревоге, но это не мешало племяннице кушать, а ключнице при- кладываться к стаканчику; да и Санчо Пансо себя не забывал, ибо «мысль о наследстве всегда умаляет и рассеивает ту невольную скорбь, которую вызывает в душе у наследников умирающий». Замечание на- смешливо-правдивое, «реалистическое»* несентимен-
226
тальность которого в свое время, вероятно, казалась непристойной. Юмор — вот тот завоеватель, который всегда мужественнее, дерзновеннее всех других про- никал в область подлинно человеческого. Шесть часов вечера; мы уложили вещи, что при отсутствии козел — сундуки стоят на полу — было нелегкой работой. На корабле воцаряется настроение, предшествующее прибытию. Матросы делают приго- товления, возятся с канатами. Наши попутчики-аме- риканцы, видимо, радуются возвращению домой, на родину — тому, что для нас означает противополож- ность возвращения. Наступил вечер. Направо от нашего корабля, за- медлившего ход, длинной вереницей сверкают огни Лонг-Айленда, пляж и роскошные дачи которого нам расхваливают. Мы рано ложимся, завтра ведь пред- стоит рано встать« Всегда быть готовым вовремя—• в этом все. 29 Мая Погода по-прежнему ясная, несколько облачная и прохладная. С той поры как мы распрощались с на- шими узкими постелями, в которых провели не одну ночь — с половины шестого, — корабль, ночью стояв- ший на месте, так что впервые сон наш не сопрово- ждался глухим стуком машины, снова возобновил свое неспешное продвижение. Мы позавтракали, за- кончили укладку, роздали последние чаевые. Вышли, вполне готовые к прибытию, на палубу — присутство- вать при входе в гавань. Уже в туманной дали мая- чит, высоко вздымая венок, хорошо знакомая фи- гура— статуя Свободы, реминисценция классицизма, наивный символ, ставший таким чуждым нашей со- временности… Я настроен мечтательно ■— оттого, что рано встал, оттого, что этот час насыщен какой-то странной жизнью. К тому же ночью, в ненарушаемой стуком машин тишине, от которой я уже отвык, я видел сны, и сейчас стараюсь припомнить сон, возникший из того, что я читал в дороге. Мне снился Дон Кихот, он сам, я говорил с ним« Подобно тому как действи?
227
тельность, когда мы с ней сталкиваемся, отлична от того представления, которое у нас было о ней, так и он выглядел несколько иначе, чем на картинках: у него были густые, свисающие усы, высокий отлогий лоб, под нависшими бровями — серые, почти незрячие глаза. Он именовал себя не рыцарем Львов, а Зара- тустрой. Теперь, когда он стоял передо мной, он был так кроток, так учтив, что я с невыразимой нежно- стью вспомнил слова, которые прочел о нем накануне: «Ибо Дон Кихот всегда, будучи просто-напросто Алонсо Кихано Добрым, равно как и Дон Кихотом Ламанчским, отличался кротостью нрава и прият- ностью в обхождении, за что его и любили не только домашние, но и все, кто его знал». Скорбь, любовь, сострадание и безграничное по- чтение овладели мною, когда мне явился тот, в ком эти черты воплотились, и теперь еще, в час прибытия, эти чувства смутно волнуют меня. Слишком европейские, вспять обращенные чувства и мысли! Впереди из утреннего тумана медленно вы- ступают небывало высокие здания Манхаттена — фан- тастический колониальный пейзаж, вздыбленный го- род-гигант.
1934
НОБЕЛЕВСКОМУ КОМИТЕТУ ПО
ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИИ МИРА. ОСЛО
В швейцарской печати можно прочесть, что наибо- лее вероятными кандидатами на Нобелевскую пре- мию мира этого года являются президент Чехословац- кой республики Масарик и немецкий писатель Карл Осецкий. Трудно судить, насколько этот слух — плод жела- ний и домыслов, а насколько он соответствует дей- ствительным намерениям комитета. Будьте снисходи- тельны к моему, может быть, неуместному рвению, если я позволю себе заметить Вам по этому поводу следующее. Выбор уважаемого президента Чехословацкой рес- публики несомненно вызвал бы самое сердечное одо- брение всех друзей мира. Сам по себе это был бы самый удачный выбор из возможных. Трудно выра- зить словами, но я все же хочу, чтобы Вы предста- вили себе, какая волна радости и удовлетворения прошла бы по всему интеллектуальному миру, если бы комитет принял, может быть, менее безупреч- ное и бесспорное, но зато морально более важное ре- шение и присудил премию мученику идеи мира Карлу Осецкому, три года томящемуся в концентрационном лагере. Первый выбор был бы, конечно, и правилен и хорош, это был бы безупречный поступок, он не вы- звал бы ничьей неприязни и никого не удивил бы. Но второй выбор был бы великим, свободным и сильным
229
моральным деянием ослепительной яркости, освобо- дительным деянием во всех значениях этого слова, и оно вселило бы утешение, стойкость и новую веру в силу добра не только в сердце того человека, на которого пал бы этот выбор, айв миллионы измучен- ных сердец, готовых во мраке и одичании нашего вре- мени усомниться в силе добра, — это было бы благо- деяние в самом полном и самом высоком смысле слова. Иметь власть, чтобы совершить это благодея- ние — счастье, которым никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя пренебрегать, и никогда че-. ловечество не забудет тех людей, которые совер- шили бы его вопреки все возрастающей моральной апатии, отупению и усталому примиренчеству. Вот что я хотел сказать. Я не знаю, конечно, ка- кие прагматические сомнения и раздумья могут побу- дить комитет предпочесть более нейтральное и мо- рально менее акцентированное решение. Присужде- ние премии мира, как известно, не должно иметь по- литической окраски и никоим образом не должно быть оскорбительным для правительства всеми при- знанного и суверенного европейского государства. Но, награждая этой премией, комитет неизбежно и при всех обстоятельствах осуществляет политический акт, само ее учреждение было таким актом, а вручению ее всегда будет присущ открытый, публичный харак- тер: характер демонстрации в пользу политической идеи, объединяющей политику и мораль, идеи мира между народами, демонстрации в пользу ее победо- носных или страдающих борцов. Не всегда было воз- можно, и не всегда будет возможно давать премии главам государств и членам правительств, таким, как Бриан и Штреземан. Сама природа идеи мира, а мо- жет быть, и сама природа правительств такова, что идеи мира обычно находятся в оппозиции, и в этих случаях те, кому надлежит присуждать премию, должны волей-неволей выступать за оппозицию, про- тив правительств. Однако правительство, о котором здесь идет речь, исповедует, как всем известно, ясно выраженные па- цифистские взгляды. Всем памятны речи, в которых 230
--------------------------фюрер германского государства, к общей радости и облегчению, заверил всех, что он и его помощники стремятся к миру и что германское вооружение как материальное, так и моральное имеет сугубо мирный характер. В германском официозе «Фелькишер бео- бахтер» можно прочесть статьи, которые подобны огнеметам, извергающим пламя против мировой воен- ной промышленности и происков, которые могут когда-нибудь привести к тому, что молодежи Европы еще раз придется истекать кровью на полях сраже- ний. Каковы бы ни были человеческие, духовные, по- литические разногласия между германским рейхсканц- лером и писателем, выдвинутым на премию мира, в решающем и главном — в общем отвращении к войне—оба они придерживаются одних взглядов. Тот факт, что, несмотря на это, Осецкий вместе со многими пацифистами содержится в бессрочном и страшном заключении, принадлежит к тем противо- речиям и логическим несуразностям национал-социа- лизма, с которыми мы сталкиваемся в жизни и кото- рые не только не смущают, но даже преисполняют гордости его приверженцев. И что же, оскорблением для германского правительства было бы, если бы борец за мир Осецкий — он, кстати, не коммунист и не еврей — получил премию мира? Нет, оскорбле- нием для германского правительства будет, если мы усомнимся в правдивости его речей и, считаясь лишь с тем, что нам представляется его истинными взгля- дами, отвернемся от такой обоснованной кандидатуры, как кандидатура Осецкого. Это мое мнение, и мне ка- жется, что иного мнения здесь быть не может. Лишить бедного Осецкого премии из-за того, что германское правительство могло бы выразить недовольство по поводу его награждения — вот что было бы оскор- бительным недоверием к клятвенным заверениям этого правительства, вот что было бы нарушением диплома- тического этикета. Награждение Осецкого премией за борьбу всей его жизни я назвал освободительным деянием. Как хотелось бы, чтобы оно было освободительным в пер- вую очередь для самого Осецкого, Ведь в самом деле 231
--------------------------могло бы случиться, что оказанная ему честь по- могла бы освободить несчастного и вернула его миру. К сожалению, этой надежде, по-видимому, не су- ждено сбыться по той простой, хотя и немного страш- ной причине, что человека нежной и сложной душев- ной организации нельзя показывать миру после того, как он три года провел в концентрационном лагере. Сведения о состоянии этого Флорестана не прони- кают во внешний мир, но, по всей вероятности, Осец- кий теперь физически и духовно сломленный человек, и его, будь он даже лауреатом премии мира, все равно, во избежание неприятных впечатлений, не вы- пустят из заключения до его уже недалекой кончины. Но разве печальное предположение, что этот луч света не спасет самого Осецкого, должно помешать Нобелевскому комитету принять свое решение? Ко- нечно нет. Ибо дело ведь не в одном человеке, он — одна из тысяч жертв, он жертва той исторической ди- намики, излюбленным девизом которой являются слова о щепках, которые летят, когда рубят лес; этой динамике, в бесконечной ее жестокости, летящие щепки гораздо важнее самой рубки леса, и она тре- бует все новых жертв, чтобы утвердиться в своем ве- ликолепии. Нет, не отдельный человек, как бы ни скорбело о нем сердце, важен для духа и мысли. Здесь речь идет об устройстве мира, о положении че- ловека вообще, судьба которого в мрачной своей без- надежности так страшно напоминает судьбу узника Флорестана и тех, кто вместе с ним наполняет тюрьмы Писарро. Какой радостью и избавлением было бы, если бы неожиданно с какой-нибудь высокой башни прозвучал сигнал, возвещающий о прибытии добра и справедливости, облеченных королевским авторитетом. Присуждение премии мира мученику Германии было бы для миллионов современников, томящихся во тьме и страхе, таким сигналом. Дайте же, — именем их всех я от всего сердца прошу Вас об этом, — дайте миру этот сигнал!
1935
«Вертер», или, как полностью называется эта книжка, «Страдания юного Вертера», роман в пись- мах, принес Гете-писателю самый большой, самый широкий и самый шумный успех в его жизни. Франк- фуртскому адвокату сравнялось двадцать четыре года, когда он написал эту повестушку, небольшую по объему, да и по охвату мира и жизни юношески ограниченную, но предельно насыщенную взрывчатой силой. Это было второе более или менее крупное произведение Гете. Ему предшествовала шекспириан- ская драма из рыцарского прошлого Германии «Гец фон Берлихинген», уже привлекшая внимание лите- ратурной общественности к молодому сочинителю своей страстностью, теплотой и тем, что она прибли- зила к нам историю, вдохнула в нее жизнь. Однако «Вертер» показал Гете совсем с другой стороны, ибо по своей сущности и воздействию на читателя книга резко отличалась от предыдущей. Ее успех в какой-то мере носил даже скандальный характер. В этой ма- ленькой книжке была такая потрясающая, парали- зующая сила чувства, что блюстители нравственности всполошились, а моралисты с ужасом и возмущением усмотрели в ней искусительный дифирамб самоубий- ству. Но именно в силу этих качеств она подняла переходящую всякие границы бурю восторга, так что мир буквально бредил блаженством смерти: роман вы- звал опьянение, лихорадку, экстаз, охвативший всю
233
обитаемую землю, он был той искрой, что, попав в по- роховую бочку, мгновенно развязывает опасные силы. Нелегкое дело — проанализировать состояние умов, лежавшее в основе европейской цивилизации той эпохи. С исторической точки зрения это было пред- грозовое состояние, предчувствие очистившей воздух бури французской революции; с точки же зрения куль- турно-исторической это была эпоха, на которую Руссо наложил печать своего мечтательно-мятежного духа* Пресыщение цивилизацией, эмансипация чувства, бу- доражащая умы тяга назад, к природе, к естествен- ному человеку, попытки разорвать путы окостеневшей культуры, возмущение условностями и узостью ме- щанской морали, — все это вкупе породило внутрен- ний протест против того, что ограничивало свободное развитие личности, а фанатическая, безудержная жажда жизни вылилась в тяготение к смерти. В оби- ход вошла меланхолия, пресыщение однообразным ритмом жизни. Умонастроение, известное под назва- нием «мировой скорби», усугубилось в Германии от воздействия той кладбищенской поэзии, которая бытовала тогда в английской литературе. Сам Шекспир повинен в этом. Юные умы были одержимы «Гамле- том» и его монологами. Молодежь увлекалась наво- дящей ужас мрачной оссиановской героикой седой старины. Казалось, будто читатели всех стран втайне, неосознанно, только и ждали, чтобы появилась книжка какого-то еще безвестного молодого немецкого бюргера и произвела переворот, открыв выход скры- тым чаяниям целого мира, — не книжка, а выстрел прямо в цель, магическое слово. Рассказывают, будто молодой англичанин, много лет спустя приехавший в Веймар, встретил на улице Гете и упал в обмо- рок — силы изменили ему, когда он воочию увидел творца «Вертера». Впоследствии Гете вспоминает в одной из венецианских эпиграмм о всемирном успехе «Вертера»: Немец мне подражал, француз читал мою книгу. В Англии ласксю встречен был неприкаянный гость. Но много ли проку мне в том, что даже далекий китаец Вертера с Лоттой рисует робкой рукой на стекле?
234
Вертер и Лотта сразу же встали в один ряд с классическими влюбленными из книг и преданий: с Лаурой и Петраркой, Ромео и Джульеттой, Абеляром и Элоизой, с Паоло и Франческой. Каждый юноша мечтал так любить, каждая девушка — быть так любимой. Целое поколение молодежи узнавало в Вертере свой собственный душевный строй. Юные мечтатели демонстративно носили костюм, в который писатель одел избранника смерти — синий фрак при желтых панталонах и жилете. В своем подражании меланхолические адепты доходили до крайности — были случаи самоубийств, которые открыто и прямо приписывались влиянию Вертера, а следовательно, по словам моралистов, лежали на совести того, кто сочинил этот подрывающий основы роман. Обезумев- шие юнцы забывали об одном — хотя творец «Вер- тера» с величайшим мастерством изобразил, как на- зревает в юной груди решение покончить с собой, сам он и не подумал убить себя, а творчески изжил само- убийственные настроения, избавился от них, описав их. В своих воспоминаниях Гете говорит об этой гри- масе жизни — о контрасте между целительной ролью, которую роман о Вертере сыграл для него самого, и тем воздействием, какое он оказал на внешний мир. Гете сам прошел через все то, что угнетало и парали- зовало его поколение. Мысль о самоубийстве отнюдь не была чужда ему, временами он бывал даже бли- зок к ее осуществлению. Так в «Поэзии и правде» Гете рассказывает, что в предвертеровский период он каждый вечер, прежде чем погасить свет, пробовал вонзить в грудь на один-два дюйма острие имевше- гося у него кинжала. Но это ему никак не удавалось, тогда он посмеялся над собой и решил не умирать. Однако он сознавал, что жить дальше он может, только выполнив свою писательскую задачу, то есть рассказав в книге обо всем им продуманном и про- чувствованном. Таким признанием, или, говоря сло- вами самого Гете, «генеральной исповедью», и был «Вертер». Закончив работу, Гете почувствовал, что она принесла ему избавление и возродила к новой жизни. Но в то время как самого себя он исцелил и
235
образумил, претворив действительность в вымысел, другие были сбиты с толку и решили, что надо пре- творить вымысел в действительность, пережить пери- петии романа и не долго думая застрелиться. И вот то, что пошло на пользу ему, было объявлено в выс- шей степени вредоносным. До самой смерти Гете гордился этим своим юно- шеским произведением и наряду с «Фаустом» ставил его себе в наибольшую заслугу. «Кто в двадцать че- тыре года написал «Вертера»,—говорил он в ста- рости, — того никак не назовешь тупицей». Одно из значительнейших событий его жизни — встреча с На- полеоном в Эрфурте — тоже связано с «Вертером». Император прочитал эту книжечку не менее семи раз, мало того, он брал ее с собой в египетскую кампанию и во время знаменательной аудиенции учинил автору придирчивый допрос. Великий жизнедовершитель ни разу не отрекся от спорного юношеского образа, чья тень всегда по-братски сопутствовала ему, и в семьдесят пять лет, вновь претерпевая из-за юной Ульрики сладостные и жестокие муки любви, он в стихотворении «Вертеру» с оттенком иронии при- знается, что взялся за прежнее… Положенное в основу «Вертера» событие личной жизни Гете, идиллически горестная любовь к Лотте Буфф, прелестной дочери амтмана в Вецларе- на-Лане, получило такую же широкую известность, как и самый роман, — и на это есть все основания, ибо значительнейшая часть книги полиостью совпа- дает с действительностью, правдиво, без изменений повторяя ее. В 1772 году, двадцати трех лет от роду, Гете приехал в этот живописно расположенный при- рейнский городок, чтобы, по настоянию отца, в каче- стве свежеиспеченного доктора права практиковать при всеимперском суде. Однако же сам он намере- вался заняться по преимуществу изящной словесно- стью, творить и жить, и осуществил свое намерение, а в имперском суде даже не показывался. Улички в Вецларе были узкие и грязные, но природа кру- гом — чудесная; был май месяц, все стояло в цвету, и тут, возле источников, ручейков или же на приреч-
236
ных холмах с красивыми видами, праздный мечтатель скоро облюбовал себе уютные уголки, чтобы читать милых его сердцу Гомера и Пиндара, спорить с друзьями, рисовать, размышлять. На устроенном молодежью сельском балу судьба свела его с девят- надцатилетней Лоттой, которая вместе с овдовевшим отцом и многочисленными братьями и сестрами жила в так называемом «Немецком доме». Лотта, мило- видная, белокурая, голубоглазая девушка, веселая и домовитая, не очень образованная, но наделенная здоровым и тонким чутьем, была одновременно ре- бячлива и не по летам серьезна, так как ей пришлось заменить умершую мать целой ораве братьев и се- стер и вести хозяйство в отцовском доме. В первый раз Гете увидел ее, когда заехал за ней в загородный дом амтмана, и она, уже одетая на бал, в белом платье с розовыми бантами, стояла, окруженная ма- лышами, и оделяла их хлебом на ужин, — эта сцена доподлинно увековечена в «Вертере» и не раз воспро- изводилась художниками. Он провел с Лоттой весь ве- чер, на следующий день нанес ей визит и успел влю- биться по уши, прежде чем узнал, что она помол- влена. Ибо вскоре оказалось, что у Лотты есть жених, секретарь ганноверского посольства Кестнер, честней- шая посредственность; он искренне любит Лотту, и она отвечает ему доверчивой любовью. Отметим, что страсти тут мет, а есть спокойная, не лишенная неж- ности взаимная склонность с расчетом на совместную будущность, разумное устройство жизни и на созда- ние семьи. Надо только подождать, чтобы обстоя- тельства нареченного позволили ему жениться. И в эти отношения в качестве третьего вступает Гете, приятель, к которому молодая чета питает вос- хищение и сердечное расположение, — поэт, гений, искренний друг и вместе с тем вероломный, в жи- тейском смысле ненадежный, ветреный расточитель чувств; только что он разлюбил и бросил Фредерику Брион, убоявшись брачных уз. Это тот молодой де- мон, который говорит о себе в «Фаусте»: Не выродок ли я, беглец бездомный? Не знающий покоя, всем чужой? 237
--------------------------Весьма приятный выродок — красивый, талантлив вый, полный ума и жизни, пылкий, чувствительный, озорной и задумчивый, словом, чудак, но чудак обая- тельный; жениху и невесте, Кестнеру и Лотте, он очень нравился, младшим детям амтмана он искренне полюбился. И вот они втроем проводят удивительное, блаженное и опасное лето, — впрочем, гораздо больше вдвоем, ибо Кестнер, человек добросовестный и занятой, бывает с ними нечасто, вернее, даже редко, и, пока он корпит над бумагами у своего по- сланника, Гете, которому делать нечего, проводит время у его невесты, Лотты. Он помогает ей по хозяйству, в огороде и в саду, вместе с ней собирает овощи, лущит горох. Перед поглощенным делами женихом у него то преимуще- ство, что он всегда свободен, ничем не озабочен, не говоря уж о том, что как личность гениальный юноша имеет все преимущества перед усердным служа- кой Кестнером, которого и сравнивать-то с ним не- лепо. Лотта без сомнения влюбилась в него, но, бу- дучи здравомыслящей, положительной девушкой, держала свое чувство в узде, так же как и его переменчивую и отнюдь не молчаливую страсть она умела держать в узде и в границах разума. Правда, не всегда. Однажды, в малиннике, он осмелился по- целовать Лотту; она сильно разгневалась и не за- медлила— не знаю, то ли покаяться, то ли пожало- ваться своему нареченному. Так или иначе, решено было держать гостя построже, холоднее обращаться с ним, тем более, что уже пошли пересуды об этой щекотливой ситуации. Кестнер был расстроен, но сердиться не мог. Лотта отчитала грешника, раз и на- всегда заявила ему, чтобы он ничего, кроме дружбы, от нее не ожидал. Почему он был так пришиблен? Неужели он этого не знал? Неужели рассчитывал от- бить невесту у добрейшего Ганса-Христиана и самому посвататься к ней, как уже поговаривали многие? Ко- нечно нет, хотя бы из соображений порядочности и приличий, и не только из этих соображений, а еще и потому, что в его увлечении полностью отсутствовала 238
--------------------------кестнеровская положительность и целеустремлен- ность, что это была любовь-однодневка, без пла- нов на будущее, по существу ^ становление новой книги. Нареченные скорбели о сумасбродстве и бессмыс- ленных страданиях милого юноши и довольно свое- образно старались утешить его, подарив ему силуэт Лотты и один из розовых бантов с того платья, кото- рое было на ней, когда он впервые увидел ее. За- метьте,— эти подарки Лотта делала не одна, а со- вместно с женихом, с Кестнером, и это было все равно что подаяние, которое принц принимает от очень скромных и славных людей. В начале осени Гете тайком уехал. Внезапно исчез. Четыре месяца длилась идиллия втроем. Впечатления, которыми она обогатила писателя и в которых безраздельная, му- чительно самозабвенная искренность чувства все время несомненно переплеталась с процессом твор- чества, — эти впечатления пополнились встречей с другой женщиной, во Франкфурте, куда он напра- вился,— как ни странно, в его жизни нашлось для нее место сразу же после разлуки с Лоттой. Это была Максимилиана Ла Рош из Эренбрейт- штейна, необычайно красивая черноглазая молодая женщина, только что вышедшая замуж за вдового франкфуртского негоцианта Петера Брентано и то- мившаяся в его мрачном доме, где пахло оливковым маслом и сырами. Гете подолгу просиживал у нее, дурачился с ее пятерыми пасынками, так же как с братьями и сестрами Лотты (он обожал детей, и дети всегда сразу же льнули к нему), вторил на виолончели фортепианной игре Макси, и надо пола- гать, этим дело не ограничилось. Недаром разъярен- ный негоциант Брентано ворвался однажды в комнату, началась бурная сцена, пришлось пережить, по сло- вам самого Гете, «ужасные минуты», и дружба обо- рвалась. Но черными глазами вертеровская Лотта (у настоящей глаза были голубые) обязана госпоже Брентано. Знакомство с нею немало способствовало попол- нению фабулы романа. Еще большую роль сыграл 239
--------------------------случай самоубийства в кругу знакомых писателя; Секретарь брауншвейгского посольства Иерузалем/ человек одаренный, меланхоличный и . болезненно чувствительный, пустил себе пулю в лоб от неразде- ленной любви к чужой жене, а также от обиды за унижения, которые ему приходилось терпеть в свете. Этот случай наделал много шуму. Гете он тоже искренне, по-человечески огорчил, и тем не менее ока- зался для него как нельзя кстати, — смутно вырисо- вывающаяся вецларская драма приобрела реальное содержание; начался внутренний процесс отожде- ствления с Иерузалемом, осуществившим то, о чем давно и много думал сам писатель, — образ был вполне подходящий, чтобы наделить его всей мировой скорбью и творческой тоской, всем величием и убоже- ством, всей слабостью, неудовлетворенностью, всеми страстными порывами эпохи и собственного сердца; теперь в этом увлекательном замысле нерешенной оставалась только форма. Первоначально она мыслилась как драматическая, но из этого ничего не выходило. Ее вытеснила другая, соединявшая в себе элементы драмы, лирики и по- вествования: форма эпистолярного романа, тради- ция которого была создана Ричардсоном и Руссо. Молодой писатель уединился от общества и в ме- сяц запечатлел на бумаге «Страдания Вертера»,— такая быстрота была бы еще поразительнее, если бы не множество писем и дневниковых записей, сделанных им в вецларскую пору и почти без изменений, даже с теми же датами перенесенных в роман. Это было чудо искусства,—такого сочетания не- посредственности и не по летам зрелого мастерства не встретишь, пожалуй, больше нигде. В книге гово- рится о юности и гениальности, и сама она — порожде- ние юного гения. Я пишу для людей, которые читали эту удивительную книжку и, без сомнения, знакомы с основательнейшим научным комментарием к ней. Мне остается разве что подчеркнуть или напомнить прекрасные и тонкие детали произведения, которые я, перечитывая его, отметил для себя. 24U
--------------------------Несколько слов о герое и авторе писем, о юном Вертере. Это сам Гете, без того творческого дара, ка- ким оделила его природа. Чтобы изобразить чело- века, обреченного смерти, слишком хорошего или слишком слабого для жизни, писателю достаточно по- казать самого себя, исключив творческий дар, кото- рый служит ему опорой и поддержкой, манит про- должать жизненный путь и — повторим определение, данное нами Гете, — делает его жизнедовершителем. Гете не покончил с собой, потому что ему надо было написать «Вертера»… и многое другое. У Вертера же нет иного назначения на земле, кроме страда- ний от жизни, печальной способности сознавать свои недостатки и гамлетовского омерзения к познанной действительности, которое душит его; поэтому гибель Вертера неизбежна. И «роман» его—нелепая и не- дозволенная любовь к девушке, принадлежащей другому — только маска, которой прикрывается его влечение к смерти, более или менее случайная форма предрешенного конца. Лотта очень тонко и верно определяет положение, как ни льстит ей страсть этого незаурядного и даже в слабости своей необы- чайно привлекательного юноши, как ни велико иску- шение, ставящее под угрозу ее благоразумие и до- бродетель. «Разве вы не чувствуете, что сами себя обманываете и умышленно ведете к гибели? — спра- шивает она его. — На что вам я, Вертер, именно я, собственность другого? На что вам это? Ох, боюсь, не потому ли так сильно ваше желание, что я для вас недоступна». Горькая насмешка, которой он отвечает на ее слова, показывает, как больно они его задели. И эта обида очень верно подмечена. Ибо психолог- пессимист, который упивается безнадежно мрачным созерцанием глупого человеческого сердца, бывает крайне недоволен, когда психология обращается на него самого. Я вовсе не хочу сказать, что Вертер щадит себя. Он—самоистязатель, мастер беспощадной интроспек- ции, самонаблюдения, самоанализа — до предела утонченный продукт христианско-пиетистской духов- ной культуры и созерцательного изучения душевных 16 Т. Манн, т. 10 24i
--------------------------глубин. Лессингу, человеку иного духовного склада, не понравился этот образ; он усмотрел в нем повод к отрицанию чуть ли не всей современной христиан- ской культуры, если она способна порождать подобных индивидов. Разве римский или греческий юноша .так и по этой причине — по причине несчастной любви—лишил бы себя жизни?—спрашивает он. Это еще куда ни шло. Но никак нельзя согласиться с тем, что утонченная изнеженность, приводящая в своих крайних проявлениях к вырождению, пере- черкивает всю христианскую культуру. Нет, хри- стианство явилось таким огромным шагом вперед на пути к совершенствованию человеческой совести, что ради него стоило так страдать и умирать, как об этом, на основе глубоко личных переживаний, с проникновенной последовательностью рассказывает Гете в своем юношеском произведении. Этот маленький роман — образец строгой логич- ности, образец умно, изящно и точно, без единого пробела составленной мозаики мельчайших душевных движений, психологических оттенков и характерных черточек, которые в целом дают картину любви и смерти. Мало того, по воле писателя, смертная сла- бость героя воспринимается как избыточная сила.: Вертер и в самом деле похож на тех благородных ко- ней, о которых упоминается в книге и которые по инстинкту прокусывают себе вену, чтобы было легче дышать, когда их чересчур разгорячат и загонят« «Мне тоже часто хочется вскрыть себе вену и обрести вечную свободу», — говорит он. Вечную свободу. Вер- тер, как и Фауст, рвется из ограниченного и относи- тельного в бесконечное и абсолютное. Прочитайте, что пишет Вертер о пространственной дали и буду- щем, о неуемной тяге за положенный ему предел в пространство и будущее — и он встанет перед вами во весь рост. Есть еще одна, третья, область экспан- сии — область чувства, — но и здесь он с отчаянием и презрением к себе убеждается в ограниченности, в несовершенстве человеческой природы. «Чего стоит человек, этот хваленый полубог! Именно там, где силы всего нужнее ему, они ему изменяют,. И если он 242
--------------------------окрылен восторгом или погружен в скорбь, что-то останавливает его и возвращает к трезвому, холод- ному сознанию именно в тот миг, когда он мечтал раствориться в бесконечности». Жизнь, личность, ин- дивидуальность — для него узилище, он сам употре- бляет это слово при виде разбушевавшейся природы, с которой жаждет слиться. «Я без раздумья отдал бы свое бытие, — восклицает он, — за то, чтобы вместе с ветром разгонять тучи, обуздывать водные потоки! О, неужто узнику когда-нибудь выпадет в удел это блаженство?» Этот эмоциональный пантеизм мы най- дем впоследствии в волюнтаристической философии Шопенгауэра. Высшей и самой действенной формой душевной экспансии является любовь, — Вертер ищет ее, с са- мого начала он готов к ней, а инстинкт смерти при- водит его к безнадежной, гибельной любви. В его натуре было что-то, внушающее доверие всем, в осо- бенности же простым людям и детям, и потому с ним разоткровенничался один крестьянский парень, стра- стно влюбленный в свою хозяйку-вдову; ей несладко жилось в браке, и она не хочет вторично выходить замуж. Самозабвенная любовь юноши глубоко пора- зила Вертера. С первой же минуты зависть закралась в его пустующее сердце. Он говорит в письме к другу; «В жизни своей не видел я, да и вообще не вообра- жал себе неотступного желания, пламенного, стра- стного влечения в такой нетронутой чистоте. Не сердись, если я признаюсь тебе, что воспоминание о такой искренности и непосредственности чувств потря- сает меня до глубины души, и образ этой верной и нежной любви повсюду преследует меня, и сам я словно воспламенен ею, томлюсь и горю», Он уже во власти любви, хотя ему еще не на кого обратить эту любовь. В следующем письме он рассказывает о своей первой встрече с Лоттой. И тут начинается настоящий любовный роман, психологическое богатство которого вмещает все от- тенки от идиллического, юмористического, пленитель- ного до темных бездн духовного соблазна, но надо; всем, даже в счастливейшие мгновения, с самого на* 16* 243
--------------------------чала лежит тень смерти. Помните то место, где Вертер говорит о своих отношениях с женихом, с Альбертом, и высказывает догадку, что если Альберт к нему доб- рожелателен, то скорее под влиянием Лотты, чем по собственному почину? На это женщины мастерицы: ведь им же выгоднее, чтобы два вздыхателя ладили между собой; только это редко случается. Вот что я имею в виду, когда говорю о юмористических штри- хах. В ту пору Вертер еще способен мыслить свог бодно и, как ни опутан он страстью, способен на- смешливо разоблачать дипломатические уловки «жен- щин как таковых». Но тому же Альберту, которого он не может считать достойным Лотты, он впослед- ствии будет желать смерти, сперва в виде предполо- жения: «что, если бы Альберт умер?», а в конце кон- цов эта мысль приведет его к «безднам», от которых он отступит с содроганием, и хотя он не назовет их, однако имя им — убийство. Не только ненависть, но и любовь приводит его к безднам. Участь крестьянского парня, страдающего от несчастной любви, зловещей тенью следует по пя- там за его участью и вселяет в его чистую, рыцарски благородную душу соблазн насилия. Работника про- гнали со двора за то, что в порыве безнадежной стра- сти он попытался силой овладеть любимой женщи- ной,— безумство, в котором отчасти повинна и она; сознательно или бессознательно она поддерживала его чувство, наполовину уступая и разрешая ему кое- какие вольности. А Лотта? Разве и она не вела себя точно так же? В книге есть вопиющая по своей опас- ной идилличности сценка, из которой явствует, как с помощью прикрытого маской невинности кокетства эта добродетельная девушка разжигала страсть Вер- тера: я говорю о сцене с канарейкой, когда Лотта у него на глазах подставляет птичке губы для поце- луя и тут же посылает ее поцеловать Вертера, а по- том с улыбкой кормит ее крошками изо рта. Вертер отворачивается. Ей не следовало это делать,— думает он, и так же, разумеется, думаем и мы, — ведь она достаточно умна, чтобы понимать, на какой опасной грани находится Вертер, и достаточно добра, чтобы 244
--------------------------бояться за него. Допустим, она его любит, — тогда она тем более должна щадить его. Но именно любовь, которую она, оставаясь верна слову, данному Аль- берту, питает к нему, к Вертеру, именно любовь и наталкивает ее на те «вольности», какими вдова-кре- стьянка довела своего работника до исступления. Что Лотта любит Вертера, можно догадаться по тем разо- блачающим психологическим штрихам, на которых построено все повествование, до смешного предатель- ское по тонкости анализа бессознательных побужде- ний. Лотта чувствует, как тяжело будет ей расстаться с Вертером. Ей хотелось бы считать его братом или женить на одной из своих подруг и тем самым нала- дить безупречные отношения между ним и добрей- шим Альбертом. Но, перебирая мысленно всех по- друг, она в каждой видит какой-нибудь недостаток,— ни одной не находит достойной своего друга. Моло- дой автор добавляет: за этими размышлениями Лотта «до глубины души» почувствовала, «если не осознала вполне», что ее затаенное желание — сохранить Вер- тера для себя. В «Избирательном сродстве» он уже так прямо не высказал бы этого, — хотя подобные места в «Вертере» по своей психологической проникно- венности близки к этому роману. Я не поддамся искушению выделить из великого множества тонких оттенков все, что стоит особо отметить. Поражает своей смелостью эпизод с безум- цем, который ищет цветов зимой и вспоминает о сча- стливых, привольных временах, когда ему жилось ве- село и легко, как рыбе в воде, подразумевая те вре- мена, когда он был буйным и сидел в сумасшедшем доме. Здесь явно выражена зависть к блаженному со- стоянию безумия,— пожалуй, самый резкий психоло- гический ход во всей книге. Большое место в романе занимает мысль о само- убийстве, которая у самого писателя стала чуть ли не навязчивой идеей в вертеровский период. Вертер теоретически оправдывает этот шаг с самого начала, задолго до того, как примет решение осуществить его. Он не хочет признать самоубийство слабостью и 245
--------------------------доказывает, что именно в этом человеческая гордость и свободная воля торжествуют над обессиливающим воздействием страданий. «Разве недуг, истощая все силы, не отнимает и мужества избавиться от них?»—* спрашивает он. Честолюбивое стремление быть выше этой дилеммы, доказать самому себе, что никакие страдания не отнимут у него мужества избавиться от них, становится у Вертера одним из сильнейших им- пульсов к самоубийству, и здесь мы особенно ясно видим, как, абстрагируя в творческих целях те мысли, которые грозили смертью ему самому, молодой пи- сатель свободно пользуется ими в качестве вспомога- тельных пояснительных психологических средств и таким образом сам спасается от опасного нава- ждения. Нельзя упускать из виду и социальный план, —> Гете вводит его в книгу, чтобы всесторонне осветить причины отвращения Вертера к жизни; его чувстви- тельный герой становится жертвой классовых пред- рассудков, когда берет место при посольстве, чтобы бежать от близости Лотты. Столкновение с чванливой знатью, в среде которой у него, впрочем, есть добро- желательница, фрейлейн фон Б. — девица, коей под влиянием идей, навеянных Руссо, «высокое положе- ние только в тягость, ибо оно не дает ей душевного удовлетворения», это унизительное, вызывающее у героя бурный протест столкновение с ненавистным классом настолько характерно для исторической по- зиции и революционной направленности «Вертера», что даже в самом беглом разборе его нельзя обойти молчанием. Недаром эта линия не понравилась На- полеону. «Зачем вам это понадобилось?» — спросил он Гете во время эрфуртской аудиенции, и Гете как будто не очень рьяно защищал тот социальный про- тест, который привнес в чисто любовную человече- скую трагедию. Зато его бурной юности были сродни такие настроения. Вспомним прозаическую сцену в «Фаусте», где злополучный соблазнитель Гретхен негодует на жестокость общества, жертвой которого пала несчастная девушка. Для представления в Вей- маре министр Гете вычеркнул эту бунтарскую сцену; 246
--------------------------возможно, что, превратившись в консервативного олимпийца, он стеснялся того эпизода в романе, где подспудное, ограниченное духовным и личным пла- ном революционное начало любовной истории вдруг прорывается наружу в социальном плане. Однако и без этого заострения «Страдания Вертера» безу- словно надо отнести к тем книгам, которые предрекли и подготовили французскую революцию. Гете, конечно, понимал это и не переставал этим гордиться. В старости он ужасаясь и вместе с тем любовно вспоминает о «Вертере». «После того как он вышел, я перечитывал его всего раз, — говорит он в 1824 году,—и остерегаюсь когда-нибудь еще про- честь его. Ведь там что ни слово, то зажигательная ракета! Мне становится не по себе, и я боюсь вновь впасть в то патологическое состояние, которое поро- дило эту книгу». Перечитывал он Вертера за восемь лет до того, в 1816 году. В тот же год, по странному совпадению, у шестидесятисемилетнего Гете произошла примеча- тельная — во всяком случае, примечательная с нашей точки зрения — встреча, уже не с книгой, а с живым человеком. Пожилая дама, всего на четыре года мо- ложе его, приехала погостить в Веймар к одной из своих замужних сестер и решила повидаться с Гете. Это была Шарлотта Кестнер, урожденная Буфф, Лотта из Вецлара, вертеровская Лотта. Они не встре- чались сорок четыре года. Она и ее муж в свое время немало настрадались от того, что в «Вертере» так откровенно были преданы гласности их семейные обстоятельства. Но при существующем положении вещей старушка склонна была скорее гордиться тем, что послужила прообразом героини юношеского ро- мана, написанного человеком, который стал такой знаменитостью. Ее появление в Веймаре произвело сенсацию, отнюдь не приятную маститому старцу. Его превосходительство пригласил госпожу надворную советницу к обеду и держал себя чопорно и цере- монно, что явствует из ее письма к сыну, где она со- общает о состоявшемся свидании. Это письмо — тра- гикомический историко-литературный и человеческий 247
--------------------------документ. «Я познакомилась со стариком, —пишет она, — в котором, не знай я, что он Гете, нашла бы весьма мало приятного; впрочем, даже и зная это, я не изменила своего мнения». По-моему, на основе этого анекдота стоило бы на- писать назидательный рассказ, а то и роман, в кото- ром можно было бы поговорить о подлинном чувстве и писательском вымысле, о гордыне и старческом ма- разме, а главное — дать углубленную характеристику Гете и гения вообще. Быть может, найдется писатель, который возьмет на себя такую задачу.
1938
Предисловие к американскому изданию Сегодня в десять часов утра прилив достигает полной силы. Неся пузырящуюся пену и увлекая за собой медуз, — студенистых тварей, рожденных мо- рем, которое с равнодушием бессердечной мачехи оставит их на песке, обрекая на смерть под иссушаю- щими лучами солнца, — вода набегает на сузив- шуюся полоску берега, почти к самой моей кабинке, так что иногда мне приходится, спасаясь от выкатив- шейся вперед волны, приподнимать укутанные пле- дом ноги, и мне весело оттого, что эта могучая сила, возбуждающая во мне почтительное волнение, сыг- рала со мной шутку, которая не вызывает досады в моей душе, преисполненной какой-то первозданной нежностью, немым восхищением перед стихией и чувством моей приобщенности к ней. Пока никто еще не купается. Все будут дожи- даться полудня, когда согреется воздух, чтобы под неусыпным надзором блюстителей безопасности в пробковых доспехах — спасательной команды, сдер- живающей звуками своих рожков безрассудную от- вагу неумелых пловцов, побрести по мелководью вслед за отливом, оглашая пляж слабыми, еле слышными на ветру вскриками, которые вырываются у купальщиков, когда они заигрывающим, боязливо- дерзким движением соприкасаются со всемогущей стихией. Место, избранное мною для работы, — ни одно другое не нравится мне так, как это, — распо-
249
ложено в стороне от людного пляжа. Но даже если бы здесь было более шумно и оживленно, то и тогда гул прибоя перекрыл бы все другие звуки, а стенки кабины — этой с юных лет обвитой мной келейки, где сидится как-то по-особенному уютно, — все равно защитили бы меня от любых помех. Как я люблю эти часы на берегу моря, дающие мне ни с чем не сравнимое удовлетворение и чувство столь полной гармонии во всем, часы, которые повторяются в моей жизни с такой закономерной регулярностью! Осенен- ное небосводом, на котором, приоткрывая голубые пропасти, медленно меняют свои очертания огромные материки облаков, море катит темно-зеленые, почти черные у светлой черты горизонта волны, семь или восемь кипящих белой пеной, раскинувшихся на не- обозримо широком пространстве валов прибоя. Ве- ликолепная картина открывается взору там, вдалеке, где песчаная отмель встает первой и самой высокой преградой на пути наступающих валов, заставляя их низвергаться водопадом. Эта бутылочно-зеленая, с металлическим отливом стена, то вздыбленная почти отвесно, то вогнутая внутрь, как бы полая, то на- висающая своим гребнем над отмелью, то на- конец обрушивающаяся вниз, чтобы рассыпаться пе- ной, ее вечно повторяющееся падение, глухой грохот которого звучит как главный бас в оркестре по срав- нению с более звонким клокотаньем и плеском тех волн, что разбиваются ближе к берегу, — никогда глаз не наглядится досыта на это зрелище, ухо ни- когда не устанет внимать этой музыке. Вряд ли найдется более подходящее место, чтобы написать то, что я задумал: размышления о великой книге, название которой я поставил в начале этих строк. И ход моих мыслей, и сама окружающая об- становка, — все воскрешает передо мной старую, я сказал бы, с детства привычную ассоциацию пред- ставлений,—духовное родство двух начал, близость восприятия двух стихий, одна из которых есть образ и подобие другой: моря и эпоса. Эпическая стихия с ее величавыми просторами, с ее привкусом свеже- сти и жизненной силы,.с вольным и размеренным
250
дыханием ее ритма, с ее однообразием, которое ни- когда не наскучит, — как она сродни морю, как море сродни ей! Я имею здесь в виду гомеровскую стихию, древнее, как мир, искусство повествования, тесно слитое с природой, во всем его наивном величии, во всей его телесности и предметности, непреходящее здоровое начало, непреходящий реализм. В этом — сила Толстого, сила, которой не обладал в такой мере ни один эпический художник нового времени, сила, которая отличает его гений, — если не по мас- штабу, то во всяком случае по самой сути, — от болезненного величия Достоевского с его надрывом, с его гротескно-апокалиптическими картинами. Он сам сказал о своих ранних произведениях «Детство» и «Отрочество»: «Без ложной скромности — это как Илиада». Эти слова — чистейшая правда, и если они еще больше подходят к титаническому творению поры его зрелости, к «Войне и миру», то лишь по чисто внешним причинам. Эти слова можно отнести ко всему, что он написал. Чисто эпическая мощь его творений не знает себе равных, и, общаясь с ними, всякий художник, — если он только чуток и воспри- имчив (а иначе он не художник) — всегда будет чер- пать в них — даже там, где Толстой вовсе не стремился быть поэтом, где он отрицал и отвергал ис- кусство, прибегая к нему лишь по привычке, как к средству моральной проповеди — все новые и новые силы, свежесть, чистую радость созидания и бодрость духа. Его искусство обладало редким свойством — оно было непосредственно, как природа; сама его могучая творческая личность есть не что иное, как одно из естественных проявлений природных сил, и перечитывать его вновь, вновь изумляясь проница- тельности этого взгляда, острого, как у зверя, этой мощи безыскусственного резца, этому чуждому ка- кого-либо мистического тумана, совершенному в своей ясности и правдивости великому искусству его эпики, — значит уберечься от всех искушений изощ- ренности и нездоровой игры в искусстве, значит вер- нуться к изначальному, к здоровью, обрести 3ÄopoBbet изначальное в самом себе!
251
Тургенев сказал однажды: «Все мы вышли из гоголевской “Шинели”», — остроумное замечание, наглядно, хотя и в мрачно-фантастической форме отражающее необыкновенное внутреннее единство и целостность русской литературы, тесную сплоченность ее рядов, непрерывность ее традиций. Ведь, в сущности, все ее великие мастера и корифеи пришли в мир почти одновременно, как бы ведя друг друга за руку; их жизненные пути совпадают на протяжении многих лет. Николай Гоголь читал великому Пушкину свои «Мертвые души», и творец «Евгения Онегина» смеялся до упаду, — впрочем, потом ему вдруг стало грустно. Лермонтов тоже был их современником. Тургенев — об этом часто забывают, так как его слава, подобно славе Достоевского, Лескова и Толстого, относится уже ко второй половине девятнадцатого века — родился всего лишь на четыре года позже Лермонтова и на десять лет раньше Толстого, к которому он обратился на смертном одре с трогательным, исполненным гуманистической веры в искусство письмом, заклиная его «вернуться к литературе». Чтобы пояснить, что я имел в виду, говоря о непрерывной преемственности, приведу любопытный исторический анекдот о Толстом, устанавливающий весьма знаменательную связь между самым совершенным из его произведений, «Анной Карениной», и Пушкиным. Однажды вечером — это было весной 1873 года — Лев Николаевич зашел в комнату старшего сына, который как раз читал своей старой тетушке что-то из пушкинских «Повестей Белкина». Отец взял книгу в руки и прочел: «Гости съезжались на дачу». «Вот как надо начинать!» — сказал он, пошел в своей кабинет и написал: «Все смешалось в доме Облонских». Это была первая фраза «Анны Карени- ной». Нынешнее начало, афоризм о семьях счаст- ливых и несчастливых, было добавлено впослед- ствии. Этот анекдот просто восхитителен. Уже не раз доводилось Толстому начинать и победоносно завер- .25?
--------------------------шать начатое. Он был прославленным творцом «Войны и мира», этой величественной панорамы, этого русского национального эпоса в форме совре- менного романа. А теперь он вынашивал замысел произведения, которому суждено было достигнуть еще большего совершенства формы и затмить по мастерству исполнения даже этот монумент, воздвиг- нутый молодым богатырем в расцвете сил, когда ему было всего лишь тридцать пять лет; теперь он собирался создать произведение, которое смело можно назвать величайшим социальным романом мировой литературы. Но он беспокойно бродит по дому, словно ища помощи со стороны, и не знает, с чего начать. Его сомнения разрешил Пуш- кин, разрешила традиция; мастер, представляющий классический период русской литературы, — совсем другой мир, уже столь далекий от мира, в ко- тором жил сам Толстой, — пришел к нему на вы- ручку, помог преодолеть его робость и найти не дававшийся ему зачин, напомнив, как решительно брались за дело его предшественники, вводившие читателя прямо in médias res 1. Единение поколений осуществилось, скромный исторический факт стал частью преемственной связи, объединяющей ту уди- вительную семью великих умов, что зовется русской литературой. Мережковский указывает, что только одного из всей этой славной семьи мы воспринимаем как явле- ние, уже принадлежащее истории: это Пушкин. По мнению Мережковского, он представляет собой некий мир в себе, радостный и ясный, детски-простодуш- ный, излучающий чувственность поэтический мир. Но уже с Гоголя сразу же начинается то, что Мереж- ковский называет «критикой» или переходом от не- осознанного творчества к творческому сознанию и в чем он видит конец поэзии в пушкинском смысле слова, но в то же время и начало чего-то нового, грядущего. Замечание верное и весьма глубокое. В нем очень много схожего с высказываниями Гейне В суть дела (лат.). 253
--------------------------о «гетевском веке», веке служения
красоте, эпохе искусства и объективно-иронической созерцатель- ности, эпохе,
которая окончилась со смертью вели- кого олимпийца, так как он сам был ее
главным представителем и властелином. Теперь наступают иные времена, — пора,
когда художнику приходится делать выбор между противоборствующими убежде-
ниями, пора социальной обусловленности творче- ства, более того — его зависимости
от политики, ко- роче говоря — эпоха морали, той морали, которая с презрением
клеймит всякое чисто эстетическое мировоззрение как непростительное легкомыслие
во взглядах. Как в высказываниях Гейне, так и в замечаниях Мережковского тонко
уловлены изменения, обуслов- ленные временем, но, с другой стороны, и тот и
дру- гой ощущает, что речь идет о некой вневременной, извечно существующей
противоположности. Шиллер свел ее в своем бессмертном трактате к формуле
«наивной» и «сентиментальной» поэзии. То, что Мережковский называет «критикой»
или творче- ским сознанием и что по сравнению с «бессозна- тельным творчеством»
Пушкина представляется ему как нечто более современное, как зародыш буду- щего,
— это как раз и есть то, что Шиллер вклады- вает в понятие «сентиментальной
поэзии», которую он противопоставляет «поэзии наивной», опять-таки внося в свои
рассуждения фактор времени и разви- тия и объявляя (как известно, pro d
254
режковским перелом в историческом развитии эсте- тической мысли, переход от пушкинской простоты к обремененному ответственностью самосознанию художника-критика, художника-моралиста носил у Толстого — как это ни странно, именно у него —• столь радикальный характер и принял столь траги- ческие формы, что, пройдя полосу жесточайших кри- зисов и душевных мук, но кстати сказать, так и не сумев умертвить в себе властно заявлявшего свои права великого художника, он дошел наконец до неприятия искусства вообще, отвергал его как празд- ную, служащую разжиганию похоти безнравствен- ную роскошь и признавал оправданной и дозволен- ной лишь несущую людям спасение моральную про- поведь, — правда, облаченную все же в тогу искус- ства. Возвращаясь к тому, что было сказано «во-пер- вых», следует отметить, что до нас дошли недву- смысленные заявления самого Толстого, из которых явствует, что «чисто художественный» талант он ставил выше, чем талант с социальной окраской. В своей речи, написанной им для московского «Общества любителей российской словесности», членом которого он являлся, и произнесенной в 1859 году (когда ему пошел четвертый десяток), Толстой так резко подчеркнул преимущества чисто художниче- ского начала в литературе перед всеми обусловлен- ными временем тенденциями, что председатель об- щества Хомяков вынужден был указать ему в своем ответном слове, что служитель чистого искусства сплошь и рядом становится — сам того не зная и не желая этого — обвинителем действительности, выра- жающим общественное мнение. Тогдашняя критика явно склонна была видеть в авторе «Анны Карени- ной» поборника права художника на свободу и объ- ективность, причем поборника активного, подкреп- ляющего свои взгляды творческой практикой, сторонника изображения человека в чисто психологи- ческом плане, без каких бы то ни было тенденций и философских взглядов, и считала этот натуралисти- ческий подход характерным, принципиально новым 255
--------------------------явлением в литературе, явлением, для которого совре- менный читатель, привыкший находить в произве- дениях других авторов «политические и социальные идеи», пока еще не созрел. С одной стороньи, это и в самом деле верно. Как художник и сын своего вре- мени, то есть девятнадцатого века, Толстой был на- туралистом, и в этом отношении, в смысле своей «принадлежности к определенному направлению», действительно представлял новое в литературе. Однако как мыслитель он перешагнул или, во вся- ком случае, стремился — в муках и в борьбе—-пере- шагнуть через это новое и найти для себя нечто другое, что лежало уже по ту сторону его века, века натурализма: он шел к концепции искусства, по ко- торой оно оказывалось гораздо ближе к разуму, к познанию, к «критике», чем к природе; и ранние критики и рецензенты, находившиеся под сильным впечатлением от первых выпусков «Анны Карени- ной», только что опубликованных в журнале «Рус- ский вестник», и с самыми добрыми намерениями хлопотавшие о том, чтобы роман не отпугнул чита- теля своим натурализмом, даже и не подозревали, что уже тогда, в 1875 году, взгляды автора неот- вратимо развивались в направлении к неприятию искусства, к его полному отрицанию и что это уже стало серьезной помехой в работе писателя над своим последним шедевром и угрожает его успешному за- вершению. Встав на этот путь, он пойдет по нему все дальше и дальше, не останавливаясь в своей исступленной последовательности ни перед чем: не только перед глумлением над культурными ценностями, — у него хватит духу и на это, — но и перед самыми неле- пыми и смехотворными утверждениями. Скоро он уже будет публично «раскаиваться» в том, что на- писал «Детство» и «Отрочество», эти юношески-све- жие произведения, созданные им в самом расцвете сил, — ну как же, ведь это, изволите ли видеть, та- кая плохая, такая неискренняя, так сильно отдаю- щая литературностью, словом, такая греховная книга; скоро, он начнет хулить свои книги оптом и в роз-
256
ницу, договорится до того, что все двенадцать томов его сочинений наполнены «художественным вздором», которому «в наше время люди придают совершенно незаслуженное значение». Вообще, на его взгляд, люди придавали незаслуженное значение искусству, например драмам Шекспира. А он зашел уже так далеко, — об этом следует говорить с благоговением и без улыбки, или по крайней мере с чуть заметной, очень деликатной улыбкой, — что ставил миссис Бичер-Стоу, автора «Хижины дяди Тома», намного выше Шекспира. В этом нужно как следует разобраться. Толстой возненавидел Шекспира гораздо раньше, чем при- нято считать, — его ненависть к нему — это не что иное, как бунт против вездесущей и всеутверждаю- щей природы, зависть терзающегося нравственными муками страстотерпца к творцу, который не знает ничего, кроме своего творчества, счастлив тем, что живет в этом мире, и взирает на его несовершенства с легкой иронией; не что иное, как бегство от при- роды к духу (в морально-критическом смысле этого слова), — от наивной непосредственности и мораль- ного индифферентизма к нравственной оценке дей- ствительности и к проповеди совершенствования. Тол- стой ненавидел в Шекспире самого себя, ибо и сам он был наделен от природы такой же богатырской жизненной силой, первоначально столь же земной, чисто художнической по своей направленности и по- этому безнравственной, и все его позднейшие мучи- тельно трудные искания добра, истины и справедли- вости, поиски смысла жизни, учения, указующего путь к спасению души, тоже были лишь аскетиче- ской формой проявления этой богатырской силы, так что в его титанических усилиях есть величавая не- уклюжесть, которая порой невольно вызывает благо- говейную улыбку. Но именно эта величественная беспомощность, проистекающая из парадоксального несоответствия между преизбытком сил и аскетиче- ским самоограничением, как раз и придает всему, что он создал, — если взглянуть на дело глазом ху- дожника, — высокий нравственный накал, она-то и
257
делает ощутимой мощь этого Атланта, взвалившего на себя моральную ношу, его могучую, до преде- ла напряженную мускулатуру, которая напоминает мир пластических образов страстотерпца Микеланд- жело. Я сказал, что его ненависть к Шекспиру имеет гораздо более давнюю историю, чем принято считать. Но и все то, что впоследствии так огорчало его дру- зей и поклонников, как, например, Тургенева, — от- рицание искусства и культуры, возведение в абсо- лют нравственных понятий, благолепно-нелепая роль пророка и проповедника смирения и покаяния, кото- рую он взял на себя под старость, — все это имеет свою давнюю историю, и поэтому совершенно не- верно представлять себе этот процесс в его духовной жизни как кризис, внезапно наступивший в относи- тельно поздний период и приведший к «обращению» писателя, неверно, в частности, приурочивать начало этого процесса к старческим годам Толстого. Эта ошибка напоминает распространенное заблуждение относительно Рихарда Вагнера: принято считать, что, создавая своего «Парсифаля», он будто бы «ни с того ни с сего вдруг стал благочестивым», тогда как на самом деле этот перелом является закономер- ным, неотвратимым, как рок, результатом пройденного Вагнером долгого, поразительного по своей внутренней последовательности пути развития, направление ко- торого было ясно и недвусмысленно предопределено еще в «Летучем Голландце» и «Тангейзере». По- этому-то французский критик Вогюэ высказал очень верную мысль, когда, услыхав весть о том, что вели- кий русский писатель впал в последнее время «в ка- кой-то мистический бред, опутавший его по рукам и ногам», заявил в ответ, что он это давно предвидел; что ход мысли Толстого можно проследить начиная с «Детства» и «Отрочества», где она уже содержится в зародыше, а психология Левина в «Анне Карени- ной» ясно указывает направление, в котором эта мысль будет развиваться дальше. В самом деле, ведь Левин, — а его-то и следует считать подлинным героем этого огромного романа,
258
ставшего славной вехой на тернистом пути писателя, несокрушимым памятником стихийной, воистину бо- гатырской силы, которую, под влиянием какого-то свойственного ей фермента, непрерывно питает и в то же время подтачивает болезненно чуткая совесть и суеверная боязнь «впасть во грех», — ведь этот Ле- вин и есть сам Толстой, почти точь-в-точь Толстой, вся разница только в том, что Левин далек от искус- ства. Толстой перенес на этот персонаж не только важнейшие факты своей внешней биографии: свой опыт управления имением, историю своей любви и помолвки (он передает ее очень точно), рождение первого ребенка, воспринятое им как радостно?, но вместе с тем и страшное своей таинственностью, окру- женное ореолом святости событие; мало того, его ге- рой живет той же внутренней жизнью, какой жил тогда сам Толстой: у Левина такая же больная со- весть, он так же склонен размышлять о смысле жизни и назначении человека, с тем же упрямством туго- дума ищет добра и справедливости, и все это приво- дит к тому, что интересы светского общества, в кото- ром он бывает, наезжая в город, становятся для него бесконечно чуждыми; его тоже одолевают тяжкие сомнения в ценности культуры, или, вернее, того, что это общество называет культурой, — сомнения, кото- рые постоянно придают ему черты отшельника и ни- гилиста. Повторяю: будь Левин ко всему прочему еще и великим художником, он ничем не отли« чался бы от Толстого. Но, для того чтобы до конца оценить «Анну Каренину» —не только как произве- дение искусства, но и как человеческий документ — читателю следовало бы вообразить себе, что Констан- тин Левин сам написал этот роман; и я думаю, что мне не стоит уподобляться музейному экскурсоводу, который с указкой в руке призывает посетителей обратить внимание на несравненные достоинства сложного по своей композиции полотна, и что я ско- рее достигну своей цели, если расскажу о той в высшей степени трудной и противоречивой обста- новке, в которой рождалось это произведение.
259
Слово «рождалось» очень удачно передает поло- жение вещей;
ибо дело легко могло обернуться и так, что роман вовсе не увидел бы свет.
Книга, которая так напоминает счастливую находку, читается с та- ким
захватывающим интересом, производит впечат- ление столь полной и окончательной
завершенности как в целом, так и в мельчайших деталях, словно ее отлили из
одного куска металла, — такая книга всегда наталкивает на мысль, что автор
работал над ней с любовью, отдаваясь делу всей душой, что, на- ходясь в сладком
плену вдохновения, он написал ее, если можно так выразиться, «за один присест».
Это — заблуждение, хотя «
260
род, государство, церковь, и в особенности — искус- ство, ибо плотское и чувственное начало он видел прежде всего именно в искусстве. Итак, эти пятнадцать лет были для него хорошим, счастливым временем, хотя, оглядываясь на них с позднейших, более высоких моральных позиций, он расценивал их как «счастливые» лишь в низшем, примитивно-чувственном смысле слова. «Война и мир» сделала его «великим писателем русской земли», и, стремясь оправдать это звание, он собирался напи- сать новы'й национально-исторический эпос: его воображением овладел замысел романа о Петре Ве- ликом и его эпохе, и в течение долгих месяцев он добросовестно изучал в московских библиотеках и архивах все, что могло ему пригодиться для будущей книги. Графиня Толстая сообщает в своих письмах: «Левочка все читает». Может быть, он прочел слиш- ком много? Или слишком много почерпнул из этого чтения, так что у него пропала охота к дальнейшим занятиям? Примечательный факт! Оказалось, что образ царя-реформатора, насильственно насаждав- шего в своей империи цивилизацию, в сущности не вызывает у него симпатии. Толстому не хотелось вы- ходить из роли, которая уже была за ним закреп- лена, — роли русского национального эпика, он хотел еще раз свершить то, что он свершил, написав «Войну и мир». Но на этот раз у него ничего не получалось, совершенно неожиданно для самого себя он почувство- вал, что эта работа ему не по душе. Он бесконечно долго бился над подготовкой материала, пока наконец не бросил окончательно свою затею, пожертвовав при этом вложенным в нее временем и трудом, и поста- вил перед собой совершенно иную задачу: изобразить борение страстей в душе Анны Карениной, создать современный роман из жизни петербургского и мо- сковского высшего света. С легкой руки Пушкина первые главы вылились легко и свободно. Но уже очень скоро начались перебои (с наслаждением поглощая страницы, неискушенный читатель даже и не подозревает об этом); неде-
261
лями и месяцами работа почти не двигалась с места, а то и вовсе приостанавливалась. Что же ее тормо- зило? Домашние неприятности? Болезни детей? Или же сам писатель чувствовал себя не вполне здо- ровым? Нет, все это, конечно, пустяки, если ты взялся писать «Анну Каренину», — во всяком случае, такая задача должна была оказаться сильнее всех этих не- урядиц. Неуверенность в том, что твои начинания —■ дело важное и неотложное само по себе и для тебя лично, — вот что действительно мешает работать; подлинная помеха—это засевший в голове вопрос: а не лучше ли заняться чем-нибудь другим, например, греческим языком, чтобы как следует вникнуть в Но- вый завет? Или же школой для крестьянских детей, которую ты сам основал, так что у нее куда больше прав на твое время и внимание? А что, если вся эта беллетристика — просто вздор? И не велит ли тебе твой долг (кстати, ты давно уже втайне ощущаешь настоятельную потребность в этом) • углубиться в книги по богословию и философии, чтобы до- искаться наконец до смысла жизни? Тайна смерти, с которой он соприкоснулся, став свидетелем кон- чины своего старшего брата, глубоко потрясла Тол* стого — человека насквозь земного, любившего жизнь с какой-то неистовой, сверхъестественной страстью, и требовала от него осмысления, но не чисто художе- ственными средствами, а в форме исповеди по образцу святого Августина и Руссо. Мысль о такой книге не- отступно преследовала его и все больше отбивала у него охоту тратить время на роман. Он и в самом деле прервал бы работу над «Анной Карениной» и никогда не довел бы ее до конца, если бы издававшийся Катковым «Русский вестник» не торопился на- чать публикацию романа, что налагало на автора из- вестные обязанности перед издателем журнала и его читателями. Роман печатался в журнале частями; в январском номере 1875 года было помещено начало, в течение трех последующих месяцев давались продолжения« Затем печатание было прервано1 так как у автора не
262
было больше готового материала. В первые месяцы следующего года к напечатанному прибавилось еще несколько кусков, потом наступил семимесячный перерыв, и лишь в декабре последовал новый отры- вок. Книга, которой мы так восхищаемся, которая невольно наталкивает на мысль, что она была создана в длительном порыве вдохновения, — для Толстого это был тяжкий крест. «Берусь теперь за скучную, пошлую «Анну Каренину», — пишет Толстой из Самары, где он пил кумыс. (Sic! Дословная ци- тата!) «…Да и надо кончить надоевший мне роман», —« говорится в другом письме от марта 1876 года. Разу- меется, порой выдавались и другие, более счастливые дни и недели, когда он вновь испытывал желание пи- сать и работал с увлечением и подъемом. Но именно в такие дни дело подвигалось, пожалуй, еще медлен- нее, чем обычно, ибо вечно недовольный собою мастер лепил и оттачивал каждую фразу, без конца пере- делывал и улучшал ее и, создавая свои образы, доби- вался такого совершенства их языкового воплощения, что оно проглядывает даже сквозь самый посредствен- ный перевод. Этот удивительный святой относился к искусству тем серьезнеег чем меньше он в него верил. Печатание романа то и дело прерывалось и было с грехом пополам доведено до восьмой книги, — на ней оно окончательно приостановилось: ведь теперь, в последней части, автор национального эпоса, певец земли русской ударился в политику, заговорил о сла- вянофильстве, о восторженной поддержке болгарских, сербских и боснийских братьев в их освободительной борьбе против турок, о шумихе, поднятой вокруг добровольцев, о патриотических благоглупостях рус- ского общества и высказал обо всем этом так много еретических мыслей, что Катков не посмел их напе- чатать. От потребовал, чтобы отдельные места были выпущены или сокращены, на что обиженный автор не согласился. Толстой выпустил заключительную часть отдельным изданием, изложив в кратком предисловии свои разногласия с Катковым.
263
Я без колебаний назвал «Анну Каренину» вели- чайшим
социальным романом во всей мировой лите- ратуре, но этот роман из жизни светского
общества направлен против него, — об этом читателя предупре- ждает уже
библейский эпиграф: «Мне отмщение, и аз воздам». Моральным побуждением,
заставившим Тол- стого взяться за перо, было, несомненно, желание обличить
общество, которое с холодной жестокостью изгоняет из своей среды гордую и
благородную по натуре женщину, не сумевшую совладать со своей страстью, то есть
берет на себя миссию наказать ее за этот проступок, вместо того чтобы
предоставить воз- мездие воле провидения; между тем общество могло бы сделать
это со спокойной совестью, ибо, карая человека за грехи, провидение прибегает в
конеч- ном счете все к тем же самым средствам: оно дей- ствует через общество и
его незыблемый мораль- ный кодекс. Отсюда видно, что, восстав против за- конов
морали,
--------------------------в сердце, но не зная снисхождения—
так много стра- дать. Толстой очень любит Анну, это чувствуется. Ее именем
озаглавлено все произведение; оно не мог- ло бы быть названо именем
какого-нибудь другого персонажа. Но его главный герой—отнюдь не воз- любленный
Анны граф Вронский, этот энергичный, порядочный, рыцарственный и пошлый
гвардейский офицер. Нельзя признать главным героем романа и
--------------------------тельно нелогичны« и беспомощный в своем мышле- нии, Левин, в сущности, уверен в том, что быть поря- дочным, искренним, серьезным и правдивым можно только в одиночестве, наедине со своими мыслями, тогда как в обществе человек неизбежно становится лжецом, пустомелей и глупцом. Понаблюдайте за ним в московских салонах или в общественных ме- стах, когда ему приходится поддерживать светский разговор, выполнять свои гражданские обязанности, высказывать «взгляды», — все формы человеческого общежития кажутся ему такой нелепостью, что он то и дело краснеет от смущения, чувствуя, что и сам он тоже становится пустомелей, попугаем и глупцом. Вы увидите, что этот руссоист считает пустой и греховной блажью по сути дела всю городскую культуру, а кстати и все, что так или иначе связано с ней, то есть умственные запросы цивилизованных людей и их стремление общаться друг с другом, и что, по его мне- нию, уважающий себя человек может находить удо- влетворение только в сельской жизни, но не в той сельской жизни, которой снисходительно умиляется расчувствовавшийся горожанин (например, ученый брат Левина, как будто даже кичащийся тем, что ему нравится такое малоинтеллектуальное занятие, как рыбная ловля), а в сельской жизни в подлинном смысле этого слова, — жизни суровой, обязывающей к физическому труду и ставящей человека в здоро- вые, серьезные и естественные отношения с природой, «красотами» которой сентиментально восхищается гость из цивилизованного мира. В нравственных устоях Левина, в его совестли- вости есть нечто телесное, плотское, идущее от креп- кого и здорового организма. «Нужно физическое дви- женье, — говорит он себе, — а то мой характер ре- шительно портится». И он тут же решается косить с крестьянами, что доставляет ему величайшее мо- ральное и вместе с тем физическое наслаждение (ве- ликолепная, чисто толстовская глава!). Презрение Ле- вина к «интеллекту» или, точнее говоря, неверие в него, по меньшей мере странное для культурного человека (это он и сам сознает) и обрекающее его на
266
постоянные внутренние противоречия, заходит столь далеко, что, поставленный перед необходимостью как-то сформулировать свои взгляды, он говорит па- радоксами и высказывает мнения, которые неловко произнести вслух в обществе цивилизованных лю- дей, — вспомним, например, до чего он договари- вается, рассуждая о народном просвещении или, что еще хуже, об образовании вообще. К народу он отно- сится совершенно так же, как и к природе. «…Тот на- род, который ты любишь, как ты уверяешь…» — «Я никогда не уверял»,— подумал Константин Ле- вин».— «…Но мне-то зачем заботиться об учреждении… школ, куда я своих детей не буду посылать, куда и крестьяне не хотят посылать детей, и я еще не твердо верю, что нужно их посылать?» — «Потом, грамотный мужик, работник тебе же нужнее и дороже». — «Нет, у кого хочешь спроси, — решительно отвечал Кон- стантин Левин, — грамотный, как работник, гораздо хуже». — «Признаешь ли ты, что образование есть благо для народа?» — «Признаю»,— сказал Левин не- чаянно и тотчас же подумал, что он сказал не то, что думает». Плохо дело! Как быть с человеком, став- шим на столь опасный путь? Он признает, что обра- зование есть благо, но признает только потому, что его истинное мнение на этот счет в девятнадцатом веке уже не выскажешь вслух, а мысль, которую сты- дишься высказывать, недопустима и сама по себе. Но мыслит он, разумеется, в свойственных этому веку формах, то есть формах до известной степени научных. Он «не берет человечества как чего-то вне зоологических законов, а, напротив, видит зависи- мость его от среды и в этой зависимости отыскивает законы развития». Во всяком случае, так его понимает один его знакомый профессор, и вовсе не так уж трудно догадаться, кого Левин считает своим учите- лем, — ну конечно же это Ипполит Тэн, и от всего этого так и веет духом славного, добропорядочного, великого девятнадцатого века. Но есть в Левине и нечто такое, в чем он отстал от своей преклонявшейся перед наукой эпохи, а может быть, наоборот, опере- дил ее, — нечто до отчаянности смелое, такое, в чем 2&7
--------------------------страшно признаться на людях, о чем не станешь раз- говаривать ни с кем. Вот он лежит на спине и смот- рит на высокое, безоблачное небо. «Разве я не знаю, что это — бесконечное пространство, и что оно не круглый свод? Но как бы я ни щурился и ни напря- гал свое зрение, я не могу видеть его не круглым и не ограниченным, и несмотря на свое знание о бес- конечном пространстве, я, несомненно, прав \ когда я вижу твердый голубой свод, я более прав ', чем когда я напрягаюсь видеть дальше его… Неужели это вера?» Назовем ли мы это верой или новым реалистиче- ским подходом к жизни, — это, во всяком случае, не то преклонение перед наукой, которое так характерно для девятнадцатого века. В известной мере это на- поминает Гете. В пользу такой аналогии говорит и скептически-реалистическое, сдержанное отношение Левина-Толстого к патриотизму, к братьям-славянам и добровольцам. Он не разделяет охвативший всех энтузиазм, он чувствует себя одиноким среди востор- женной толпы, точно так же, как Гете во время осво- бодительных войн, — хотя и в том и в другом случае в национальное движение влилась новая, демократи- ческая струя и общественному мнению страны впер- вые удалось оказать решающее влияние на действия правительства. Все это — тоже веяния девятнадцатого века, и Левин, или «Левочка», как называла своего мужа несчастная графиня Толстая, решительно не в ладу с этими безотрадными на его взгляд истинами своего времени. Он ушел от них на один шаг вперед, и. я чувствую себя обязанным указать на то, как это опасно, ибо, если такой шаг не продиктован искрен- ним желанием обрести истину и горячей симпатией к людям, он очень легко может привести к мракобе- сию и варварству. В наши дни вовсе не надо быть героем-одиночкой, для того чтобы, выбросив за борт всевластный в девятнадцатом веке авторитет науки, положиться вместо знания на «миф», на «веру», то есть, иными словами, поддаться нечистоплотной и гу- Курсив Т. Манна. 268
--------------------------бительной для культуры, рассчитанной на подонков демагогии. В наши дни все это стало массовым явле- нием, но это не шаг вперед, а сто шагов назад. О под- линном прогрессе, об искреннем желании сделать что-то для человечества можно говорить только тогда, когда за первым шагом сразу же следует второй, при- водящий от нового реализма «твердого голубого свода» к идеализму тех, кто ищет истины, свободы и знания, а этот идеализм нельзя назвать ни старым, ни новым, ибо он вечен, как род человеческий. В наше время господствуют непроходимо глупые представле- ния о том, что такое отсталость. Это было отступление, но отступление совершенно необходимое. Итак, Левин не в ладу с идеями своей эпохи, он не может с ними ужиться. Столкнувшись лицом "к лицу с тайной рождения и смерти, — явле- нием, казалось бы, чисто плотским и посюсторонним, но в то же время трансцендентным, непознаваемым, он чувствует себя потрясенным в своих самых сокро- венных нравственных устоях, покоящихся, как я уже говорил, на его здоровой натуре, и все то, что он узнает из современных учений об организме и его разрушении, о неистребимости материи, о законе со- хранения энергии, о развитии и так далее, — все это представляется ему не только полным незнанием в вопросе о смысле жизни, но и таким подходом к делу, при котором заведомо невозможно узнать то, что ему нужно. Мысль о том, что в бесконечном вре- мени, в бесконечности материи, в бесконечном про- странстве выделяется пузырек-организм, и пузырек этот подержится и лопнет, и что этот пузырек и есть он, Левин, кажется ему жестокой насмешкой какой-то злой силы. Левин сознает, что отрицать существова- ние этой силы нельзя и что, следовательно, от нее надо избавиться не путем ее отрицания, а другим спо- собом, — иначе он вынужден будет застрелиться. Учение, которое столь мало отвечает глубоко че- ловечным запросам Левина, учение, в котором он видит пагубную ложь и форму мышления, непригодную как орудие познания подлинной истины, есть не что иное, как механистический материализм девятнадцатого 269
--------------------------столетия, возникший из самого честного стрем«* ления быть верным истине, но слишком уж унылый и безотрадный в своих конечных выводах. Для того чтобы полнее отразить жизнь и ее сокровенный смысл, ему не мешало бы, не поступаясь своей любовью к истине, стать чуть-чуть оптимистичней и одухотво- ренней. Но всего забавнее то, что найти выход из ту- пика, в который попал зафилософствовавшийся и со- всем было отчаявшийся Левин, ему помогает про- стой мужик. Этот мужик надоумил Левина или, вер- нее, напомнил ему кое о чем, что он знал и раньше: что все мы живем для нужды своей, для того чтобы набивать себе брюхо, ибо это наше естественное, врожденное, искони предначертанное нам свойство, но что подлинная правда жизни все-таки не в этом, а в том, что человек должен жить «по правде», «для души», «по-божью», «для добра» и, как это ни уди- вительно, стремление жить «по правде» и «для души» является таким же естественным, врожденным, искони предначертанным свойством человека, такой же не- обходимостью, как и необходимость набивать себе брюхо. Это и в самом деле удивительно; ведь твер- дое и разделяемое всеми убеждение в том, что жить' только ради своего брюха дурно, что жить надо для бога, для правды, для добра, не имеет ничего общего с разумом, более того, — оно даже противно разуму? ведь разум учит нас скорее совсем обратному: забо«- титься о своем личном благе и во имя этого блага выжимать все возможное из наших ближних« Позна- ние добра — констатирует Левин — лежит за преде-? лами разума; добро -^ вне цепи причин и следствий., Добро — это чудо, ибо оно не может быть объяснено разумом, и все же всякий понимает, что это такое. Значит, есть все-таки на свете нечто такое, что мо« жет дать человеку больше, чем безрадостные выводы науки девятнадцатого века, считающей, что жизнь лишена какого бы то ни было смысла; значит, у жизни все же есть духовное начало, есть смысл s неподвластное рассудку, но воспринимаемое людьми как должное стремление человека к добру. Левин не устает восторгаться этим до смешного простым, от-
270
крытием и чувствует себя счастливым. На радостях он забывает додумать свою мысль до конца, — иначе он сказал бы себе, что и грубо-материалистическая, безрадостная в своих выводах наука девятнадцатого века тоже зародилась из стремления человека к добру и что, признавая жизнь бессмысленной, она делает это из идеальных побуждений, из любви к горькой и суровой истине. Она тоже жила «по-божыо», хотя и отрицала бога. Ведь бывает и так, только Левин по- забыл об этом. Об искусстве ему и забывать не при- ходится,— он, как видно, знать его не знает или же видит в нем только салонную болтовню о Паулине Лукка, о Вагнере и о картинах. Это и отличает Ле- вина от Толстого. Толстой знал искусство; он перебо- лел им, он так много выстрадал из-за искусства и во имя искусства; он свершил в области искусства такое, о чем мы, простые смертные, и мечтать не смеем, и, быть может, артистичность его натуры, перевешивав- шая в нем все остальное, как раз лучше всего объ- ясняет, почему он не видел, что желание познать добро никак не может быть доводом в пользу отрицания искусства, ибо этот довод доказывает обратное* Искусство — самый прекрасный, самый строгий, са- мый радостный и благой символ извечного, непод- властного рассудку стремления человека к добру, к истине и совершенству; и дыхание мерно катящего свои валы океана эпического искусства не вливало бы в нашу грудь столь радостного ощущения полноты жизни, если бы в этом дыхании не было терпкого и живительного привкуса одухотворенности и устрем- ленности в область божественного.
1939
Лекция, прочитанная студентам Принстонского университета Искусство романа — такова тема моей сегодняш- ней беседы с вами. Могу вообразить себе человека, который вообще бы отрицал за, романом право счи- таться видом искусства. Такой эстетик скажет: «Правда, роман причисляют . к эпической поэзии^ одному из основных родов поэзии, включающему, по- мимо собственно эпической героической песни, на- родного эпоса, корнями уходящего в саги, и инди- видуального художественного эпоса, также эпопею, идиллию, легенду, балладу и романс, сказку и, на- конец, роман и новеллу. Но, во-первых (я все еще говорю от лица моего сурового эстетика), эпическая форма искусства вообще второстепенна: она усту- пает драме, которая, объединяя в себе все остальные поэтические виды и жанры, неоспоримо является вершиной словесного искусства, королевой в царстве поэзии. Во-вторых, прозаический роман — всего лишь неполноценный, несовершенный с точки зрения формы продукт распада стихотворного эпоса, а ро- манист— всего лишь побочный брат поэта, незакон- норожденный сын поэзии». Так скажет присяжный эстетик. Мы с должным почтением выслушаем его, но не согласимся ни с первым его положением, ни со вторым. Пытаться установить какую бы то ни было иерархию в области
272
родов и видов искусства — что может быть более ■праздным и педантичным? Насколько неразумно было бы возвышать одно из искусств над другими, -заявляя, например, что музыка, или живопись, или -поэзия совершеннее и благороднее какого-либо дру- гого (доводы в пользу такого утверждения могли бы звучать правдоподобно, но их с равным успехом можно опровергнуть не менее убедительными дово- дами в пользу возвышения и возвеличения любого -другого искусства), настолько же нелепо устанавли- вать иерархию форм и родов внутри одной из сфер творческой деятельности человека, поэзии. Принци- пиальное превосходство драмы, скажем, над эпичег ской поэзией настолько легко опровергнуть, что нельзя не испытать искушения построить эту иерархию в обратном порядке и тем самым впасть в противо- положную ошибку. Быть может, эпическая стихия, -которая, впрочем, способна охватить лирический и драматический элемент в той же степени, в какой драма включает в себя эпос и лирику, — быть может, стихия повествования, это вечно-гомеровское начало, этот вещий дух минувшего, который бесконечен, как мир, и которому ведом весь мир, наиболее полно и достойно воплощает стихию поэзии, а рассказчик» этот заклинатель прошедшего — ее наиболее полнот -мочный представитель. Индийцы называли свои по^ вествовательные веды еще и «Гимнами итихаса», по начальным словам: «Ити ха аса» — «Так было». •Возможно, это «Так было» — более высокая поэтиче- ская позиция, чем «Вот как оно есть» драмы. Однако -подобные вопросы, объективно неразрешимые, отно- сятся к вопросам темперамента и вкуса; ведь когда имеешь дело с каким-либо родом искусства, всегда важен не род, а само искусство. Безусловно, более состоятелен второй аргумент, направленный против прозаического романа: будто бы он возник как следствие распада эпоса в собственном смысле слова, стихотворного эпоса. Верно, что, с исторической точки зрения, роман, как правило, представляет более позднюю, менее простодушную, более, так сказать, «современную» стадию эпической
273
жизни народов и что эпос по сравнению с рома* ном — всегда нечто вроде доброй старой классиче- ской эпохи. Эпос рождается из ритуального гимна и позднее становится реалистическим, демократиче- ским искусством. Бывало и так, что это его простонав родно-развлекательное начало сосуществовало с тор-* жественным, например, в Египте, где уже в период Шестой династии возникла проза, подобная знаменитым «Приключениям Синухета», вслед за которыми появляются роман о потерпевшем корабле- крушение, повесть о крестьянине-златоусте, повесть о двух братьях, послужившая, по-видимому, источ- ником библейского рассказа об Иосифе, а затем и «Сокровище Рампсенита» — из этих вещей можно куда больше узнать о жизни древнего Египта, чем из всех религиозных гимнов вместе взятых. В Индии сначала возникает «Махабхарата», почитаемая почти как священная книга и содержащая сто тысяч дву- стиший, а затем — индийский роман, кажущийся ее выродившимся потомком: полный необузданной фан- тастики и словесного озорства, он рос на родной почве, как буйная трава. В стране Гомера благо- приятные условия для прозаического романа сложи- лись только в эллинистическую и александрийскую эпохи: тогда возник роман «Чудеса по ту сторону Фулы» — всего лишь позднейшее ответвление «Одис- сеи»; тогда же Парфений своей книгой «О любовны« приключениях» положил начало прозаическому лю- бовному роману. Тогда появилась безудержная, без- граничная в своей приключенческой фантастике «История Левкиппы и Клитофонта», написанная Ахил- лом Татием из Александрии. Тогда же были созданы и «Басни о животных» Эзопа, вошедшие в сокровищницу культуры всех народов, оказавшие воз- действие на средневековую анималистическую поэ- зию и снова обретшие эпическую цельность в гетев- ском «Рейнеке-Лисе». В Риме сначала возникли героические песни Вергилия, и лишь позднее — ро- ман о современности Петрония, и еще позднее — Апулеев «Золотой Осел», который принадлежит к числу самых блестящих романов в мировой лите-
274
ратуре и в состав которого вошла пленительная но- велла об
Амуре и Психее. Нет сомнения, что персид- ский роман, полный болтливой мудрости
и пестроты, появился лишь после эпических произведений клас- сиков, подобных Низами
и Фирдоуси, как следствие распада эпической формы; но наряду с ним создаются и
«Сказки попугая», цикл из двухсот пятидесяти эро- тических рассказов,
предшествующий «Декамерону» и новеллистике Банделло. В
роман трансформи- руется и героическая песнь франков: сначала возни- кает
«Песнь о Роланде», затем прозаический роман «Ланселот»,
от которого до нас дошло лишь его название да имя автора — Арнаут Даниель. Сама
книга погибла, но ее славная, хотя и призрачная жизнь в мировой литературе все
же продолжается. Видимо, именно ее читали у Данте Паоло и Фран- ческа вплоть до
того самого места, где значится: «Они в тот вечер больше не читали». Здесь
перед нами любопытный пример того, как прозаический роман вошел сюжетным звеном
в состав высокого эпоса и прославляется в нем.
Остановимся же немного на Данте. Он не рас- сказчик, он певец. Никто не назвал
бы «Божествен- ную комедию» романом. Но что же такое роман, как следует
определить это понятие? Откуда происхо- дит это название, этот термин, который
и по-англий- ски наряду с общепринятым «novel» и «fiction» иногда гласит: «r
--------------------------Однако пойдем далее. Артуровские
романы— про- заический извод англо-романской героической поэмы, эпических песен
о святом Граале. В четырнадцатом веке эти романы французского артуровского
цикла, ро- маны Круглого стола проникают в Испанию, и к этому типу произведений
относится «Амадис Галльский», прототип тех рыцарских романов, которые свели
сума сервантесовского Дон Кихота. Из чисто сатирического замысла, первоначально
направленного лишь против идеалистически-героической рыцарской романтики, ро-
ждается народная книга, книга мирового значения, роман, который мы без
колебаний ставим в один ряд с высшими проявлениями поэтического гения, с Ше-
кспиром и Гете. Перед нами одно из тех созданий человеческого духа, перед лицом
которых полностью снимаются теоретико-эстетические различия между эпосом и
романом и в которых вечно-эпическое начало раскрывается нам во всей своей самобытности
и един- стве; при этом совершенно несущественно, поется это произведение или
говорится, в стихах оно или в прозе. Если «Divina C
--------------------------реди — нескончаемое время, он — дух терпения, вер- ности, выжидания, медлительности, которая согрета любовью и потому дает радость, он — дух чарующей скуки. Он едва ли способен начать иначе, чем с перво- причины всех вещей, а конец и вообще неведом ему, ибо о нем сказал поэт: «Твое величье в том, что кон- чить ты не можешь». Но величие его — благостно, умиротворенно, светло, мудро,— «объективно». Оно со- храняет дистанцию по отношению ко всем вещам, оно обладает этой дистанцией по самой своей природе, оно царит над ними и с улыбкой взирает на них с вы- соты, хотя в то же время вовлекает в них, вплетает в них слушающего или читающего. Искусство эпоса — «аполлонииское» искусство, если воспользоваться термином эстетики; ибо Аполлон далекоразящий — бог дали, бог дистанции, объективности, бог иронии. Объективность — это ирония, и дух эпического искус- ства — дух иронии. Здесь вы в недоумении спросите себя: как, объек- тивность и ирония? Что между ними общего? Разве ирония не прямая противоположность объективности? Разве она не проявление в высшей степени субъек- тивного взгляда на вещи, не выражение романтиче- ского произвола, решительно противостоящего вся- кому классическому покою и объективности? Это верно. Слово «ирония» может иметь и такое значение. Но здесь я вкладываю в него более широкое и высо- кое содержание, чем то, которое ему сообщает роман- тический субъективизм. Благодаря присущей ему не- возмутимости содержание это почти беспредельно, ибо оно является содержанием и смыслом самого искусства, — вееприятием и, уже в силу этого, все- отрицанием; ясный, как солнце, радостный взгляд, объемлющий целое, и есть взгляд искусства, иначе говоря, взгляд с высоты свободы, покоя и объектив- ности, не омраченный никаким морализаторством. Это взгляд на мир великого Гете, — он был в такой сте- пени художником, что произнес об иронии удивитель- ное, незабываемое суждение: «Ирония—та щепотка •соли, без которой всякое блюдо вообще несъедобно». Не случайно он всю свою жизнь был восторженным 277
--------------------------поклонником Шекспира; ибо в драматическом кос- мосе Шекспира действительно царит всеобщая ирония искусства, которая обесценивала его творчество в гла- зах моралиста, каковым тщился быть Толстой, Именно такую иронию я и имею в виду, когда говорю об ироническом объективизме эпоса. При этом не сле- дует думать, что ей сопутствует холодность и равно- душие, насмешка и издевка. Эпическая ирония —? это скорее ирония сердца, ирония, исполненная любви; это величие, питающее нежность к малому. Персидский поэт Фирдоуси написал в 1000 году после рождества Христова эпическую поэму «Шах- намэ», «Книгу царей», в которой он использовал персидские сказания о царях. Двадцать два года работал он над нею в Тусе. Пятидесяти восьми лет он явился в Газну к султану, который предложил ему уплатить по тысяче золотых за каждую тысячу дву- стиший великой поэмы. Но Фирдоуси сказал: «Я лишь тогда получу плату, когда окончу работу». Проходили десятилетия, а он все никак не мог окончить свой труд, и на его взгляд, с точки зрения тех требований, которые он к себе предъявлял, его творение без- условно так и осталось незаконченным. Он все сидел и ткал узелки грандиозного ковра своей поэмы, впле- тая в нее все новые персонажи, чудесные приключе- ния, героические подвиги, чудеса, многоцветные орна- менты и узоры. Трудясь над поэмой, он состарился, ему исполнилось восемьдесят. Наконец он объявил, что творение его завершено. По объему оно в восемь раз превосходило «Илиаду», в нем было шестьдесят тысяч двустиший. Султан обманул его, уплатив за каждую тысячу двустиший по ты'сяче монет, но не золотых, а серебряных. Старец сидел в бане, когда ему принесли гонорар. Он отдал эти деньги банщикам и посланцу, доставившему их от султана. Это — эпизод из мира эпоса, эпизод величествен- ный. Таких не бывало в мире драмы или лирики, ибо по сравнению с эпосом—это миры малые и скоро- спелые. Эпическое творение, «une mer à boire» *, чудо Бездонное море {франц.). 278
--------------------------человеческого труда, в которое
вкладываются несмет- ные сокровища жизненного опыта, долготерпения, истового
трудолюбия, неколебимой верности, изо дня в день возрождающей вдохновение, —
эпическое тво- рение с его титаническим миниатюризмом, который, кажется,
одержим деталью, словно она и есть его единственная цель, и в то же время ни на
миг не упускает из виду целое, — вот что я имею в виду, беседуя с вами на тему
«искусство романа»; и я не могу не думать при этом о Фирдоуси и его волшебной
«Книге царей», о том, что он отдал слугам свой гоно- рар, потому что строки его
были оценены не на вес золота, а на вес серебра. Мои пристрастия не позво* ляют
мне делать различие как по существу, так и по достоинству между эпосом и
романом, между «Divina C
279
Возможно и, пожалуй, необходимо рассматривать роман и. эпос именно в таком соотношении. Первый .из этих родов искусства отражает современный мир, второй—мир архаический. Стихотворный эпос несет на себе печать архаичности — в той же степени, в ка- кой архаичен и самый стих, который, собственно говоря, связан с магическим мироощущением. Ведь в древности эпосы не читались и не рассказывались; они, без сомнения, пелись под аккомпанемент струн- ного инструмента; название «певец», которое оста- лось за поэтом в торжественно-архаизированном стиле языка, в течение долгого времени, до середины средних веков, до эпохи миннезингеров, буквалистически точно отражало положение вещей, и прежде всего именно эпос был вещим песнопением, — ведь отец Гомер был слепым певцом; это, впрочем, не мешает тому, что уже «песни» «Илиады» и «Одиссеи», какими мы их знаем, равно как «Эдда» и «Песнь о нибелун- гах», представляют собою поздние литературные обра- ботки первоначальных рапсодий. Было бы слишком смело утверждать, что развитие в сторону прозаического романа всегда и безусловно означает усовершенствование, утончение повествова- тельного искусства. Сначала роман и в самом деле был продуктом распада целостного эпоса, цепью при- ключений, прихотливо сочетаемых авторским произ- волом. Однако форма эта несла в себе возможности, реализация которых на долгом пути развития от чудо- вищных позднегреческих и индийских сюжетных по- строений до «Воспитания чувств» и «Избирательного сродства» дает нам право видеть в эпосе лишь архаи- ческий прообраз романа. Принципом, в соответствии с которым роман стал развиваться по этому человечески столь значитель- ному пути, явился принцип углубления во внутрен- нюю жизнь. Немецкий философ Артур Шопенгауэр, который стоял на более дружеской ноге с искусством, чем обычно принято у мыслителей, выразил это в наи- более определенной форме: «Роман как форма искус- ства тем выше и благороднее, чем больше он прони- кает во внутреннюю жизнь и чем меньше предста-
280
вляет внешнюю; я это соотношение, являющееся важ- нейшей характеристикой романа, важно для всех его ступеней, начиная с «Тристрама Шенди» и кончая самым грубым авантюрным романом о рыцарях или разбойниках. Правда, в «Тристраме Шенди», по суще- ству, нет никакого действия; но ведь как мало дей- ствия и в «Новой Элоизе», и в «Вильгельме Мей- стере»! Даже в «Дон Кихоте» действия относительно мало, — оно весьма незначительно и в большинстве случаев сводится к шутке; а ведь названные четыре романа — вершина этого рода литературы. Рассмо- трите, далее, чудесные романы Жан-Поля, и вы убе- дитесь в том, какая многосложная внутренняя жизнь вырастает на основе весьма скупо отобранных фак- тов внешней жизни. Даже в романах Вальтер Скотта наблюдается значительный перевес внутрен- ней жизни над внешней, а последняя только для того и воспроизводится автором, чтобы дать толчок для развития первой, между тем как в дурных романах воспроизведение внешней стороны жизни становится самоцелью. Искусство состоит в том, чтобы при наи- более скупом отборе фактов внешней жизни дать наиболее интенсивный толчок развитию жизни вну- тренней; ибо интерес для нас представляет именно внутренняя ее сторона. Задача романиста не в том, чтобы рассказывать о крупном событии, а в том, чтобы сделать интересными мелкие». Это — классическое высказывание, и мне в особен- ности нравится заключительный афоризм, где гово- рится о том, что роман должен быть занимателен. Тайна повествования — а ведь в данном случае можно говорить о тайне — состоит в том, чтобы сделать инте- ресными вещи, которые, собственно говоря, скучны. Пытаться проникнуть в эту тайну и стремиться ра- скрыть ее —совершенно бесполезно. Но ведь не слу- чайно Шопенгауэр кончает свое рассуждение об углублении во внутреннюю жизнь остроумным заме- чанием о необходимости сделать интересным малое. Принцип углубления во внутреннюю жизнь несо- мненно, связан с этой тайной, когда.мы затаив дыха- ние вслушиваемся в то, что само по себе незна- 281
--------------------------«штельно, и совершенно теряем интерес к грубому авантюрному сюжету, который будоражит наши чув- ства. Когда прозаический- роман выделился из эпоса, по- вествование вступило на путь углубления во внутрен- нюю жизнь и в тонкости душевных переживаний че- ловека; путь этот был долог, и в начале его о подоб- ной тенденции нельзя было даже и догадываться. Приведу пример, который мне как немцу особенно близок: разве немецкий роман воспитания, развития и формирования героя, разве гетевский «Вильгельм Мейстер» представляет собою что-либо иное, нежели углубленный во внутреннюю жизнь, сублимированный приключенческий роман? О том, насколько углубление во внутреннюю жизнь означает одновременно чудес- ное возвышение малого и простого, низведение поэзии в область бюргерского, с особой и в высшей степени поучительной ясностью свидетельствует критика, ко- торую романтик Новалис, этот серафик в поэзии, обрушил на «Вильгельма Мейстера» и которая столь же злобна, сколь и справедлива. Величайший роман немецкой литературы пришелся Новалису не по душе, он назвал его «Кандидом, направленным против поэзии». Книга эта, по его словам, «в высшей степени непоэтична», при всей поэтичности изложения; это — сатира на поэзию, религию и так далее; велико- лепное блюдо, божественная картина — говорит он — получилась из соломы и стружек. С изнанки все это—фарс. «Подлинной и незыблемой остается лишь экономическая сущность вещей. Романтическое те- ряется в ней так же, как и поэзия природы и все сверхъестественное. Речь идет лишь о будничном быте людей, природа и мистицизм забыты. Это — опоэти- зированная бюргерская семейная хроника… Из первой книги «Мейстера» видно, как приятно может звучать обыденность, повседневность, если она преподносится с пленительными модуляциями, если она, скромно облекшись в округлое, плавное слово, мерным шагом проходит перед нами…» «Гете —поэт сугубо практи- ческий,— говорит Новалис в другом месте, — его произведения подобны английским товарам: они 282
--------------------------в высшей степени просты, изящны, удобны и долго- вечны. В немецкой литературе он сделал то, что Веджвуд г— в английском искусстве; как у англичан, у него есть прирожденный практический и приобре- тенный знанием благородный вкус… В его натуре ско- рее довести до конца что-либо незначительное, до блеска отделать какой-нибудь пустячок, нежели на- чать что-либо грандиозное, заранее зная, что оно не будет завершено вполне». Чтобы ценить эту критику так, как ценю ее я, нужно уметь в отрицательном видеть положительное, нужно верить в плодотворность озлобленности для по- знания. Эстетический англицизм, приписываемый здесь Гете, напоминает о влиянии, которое и в самом деле оказал на него английский буржуазный роман, роман Ричардсона, Фильдинга, Гольдсмита, Однако Новалисова критика «Вильгельма Мейстера» раскры- вает перед нами и буржуазный характер романа вообще, от века присущий этому виду искусства де- мократизм, благодаря которому он в формальном и историко-культурном отношении противоположен феодальному эпосу и стал господствующей художе- ственной формой нашей эпохи, вместилищем души современного человека. Не случаен удивительный рас- цвет европейского романа в XIX веке — в Англии, Франции, России, Скандинавии; этот расцвет обуслов- лен его столь согласным духу времени демократиз- мом, тем, что в силу самой своей природы он призван к выражению современной жизни; его поглощенность социальными и психологическими проблемами при- вела к тому, что он стал художественной формой, наиболее полно выражающей эпоху, а любой рома- нист, даже посредственный — современным типом литератора — художника par exellence 1e Романист как сугубо современное воплощение ху- дожника вообще — такой взгляд можно обнаружить во многих работах Ницше, посвященных критике культуры. Современный романист со свойственной ему жадной любознательностью, направленной на обще- Здесь — в самом глубоком смысле слова (франц.)* 283
--------------------------ственные и психологические явления, с его нервной впечатлительностью, с характерным для него смеше- нием чувственности и чувствительности, созидатель- ности и критических устремлений, писатель, обладаю- щий сложной духовной организацией, приспособлен- ной для восприятия и передачи тончайших ощущений и их конечных результатов, — такой романист играет исключительную роль в духовной картине эпохи, нарисованной Ницше, и это не удивительно. Ведь в нем самом органически сочетались художник и ученый, и он более чем кто-либо из своих предшественников сблизил искусство и науку, переплел их друг с другом. Говоря о романе как о преобладающей форме искусства в наше время, следует указать на ту роль, которая в современном поэтическом творчестве, в произведениях литературного искусства нашей эпохи выпадает на долю критического элемента вообще. В этой связи мне снова вспоминается вы- сказывание русского философа Дмитрия Мережков- ского относительно Пушкина и Гоголя — о смене чистой поэзии критикой, о переходе от бессознатель- ного творчества к творческой сознательности. Речь идет здесь о той же антиномии, которую Шиллер в своей знаменитой статье сформулировал как проти- воположность между «наивным» и «сентименталь- ным». Мережковский называет у Гоголя критикой и творческой сознательностью то, что представляется ему более современным, устремленным в будущее по сравнению с пушкинским бессознательным творче- ством,— и это в точности соответствует тому, что Шиллер понимает под «сентиментальным» в противо- положность «наивному», причем Шиллер также объ- являет сентиментальное, творческую роль сознания' и критику новейшей ступенью развития, отвечающей современной эпохе. Это разграничение безусловно относится к нашей теме, к характеристике романа. Роман как произведе- ние современного искусства представляет собой этап «критики», сменившей этап «поэзии». Он относится к эпосу как «творческая сознательность» к «бессозна-
284
тельному творчеству». И следует добавить, что роман, будучи демократическим выражением творческой со- знательности, отнюдь не должен уступать эпосу в мо- нументальности. Великий социальный роман Диккенса, Теккерея, Толстого, Достоевского, Золя, Пруста — это и есть монументальное искусство девятнадцатого века. Мь* назвали имена англичан, русских, французов, — по- чему же в этом списке нет немцев? Вклад Германии в европейское повествовательное искусство предста- вляет собою вклад весьма тонкого свойства; это, глав- ным образом, роман воспитания и формирования ге- роя, как гетевский «Вильгельм Мейстер», и позднее — «Зеленый Генрих» Готфрида Келлера. Кроме того, у нас есть такая жемчужина мирового повествова- тельного искусства, как роман «Избирательное срод- ство», созданный тем же Гете, — замечательнейшая психологическая и натурфилософская поэма в прозе. В более позднюю эпоху социальные романы писали духовные выразители нашей не доведенной до конца буржуазной революции, представители «Молодой Германии» — Иммерман, Гуцков; они не привлекли к себе всеобщего интереса за пределами Германии, не явились в достаточной степени выразителями обще- европейского духа. Проза какого-нибудь Шпильга- гена кажется сегодня безнадежно устарелой и вялой, из чего можно заключить, что она никогда не была подлинным вкладом в сокровищницу европейского романа. Следует назвать Теодора Фонтане, среди многоразличных поздних произведений которого по крайней мере одно, «Эффи Брист» — шедевр обще- европейского значения; впрочем, Европа, да и весь остальной мир не обратили на него особого внимания: за пределами Германии Фонтане почти неизвестен, и его мало кто читает даже на юге Германии и в Швей- царии. С самими швейцарцами, писавшими на немец- ком языке, дело обстоит не намного лучше: такова судьба и выдающегося в своем роде крестьянского писателя-моралиста Готхельфа, и пленительного Гот- фрида Келлера, мастера поистине золотого языка, создателя чудесных современных сказок, и Конрада
285
Фердинанда Мейера, автора исторических новелл удивительного благородства. В чем причина того, что ни один из названных пи- сателей не обрел общеевропейского звучания? Доста- точно произнести любое из приведенных выше западно- европейских и русских имен, чтобы почувствовать, на- сколько немцы по влиянию и по представительности уступают своим собратьям. Общеевропейское влия- ние, представительство от лица Европы, покоряющая мир сила, звучащая в именах великих романистов — все это есть и в Германии, но не в литературной кри- тике общества, а в музыке. Этим величественным ис- полинам Германия может противопоставить — или по- ставить в один ряд с ними — имя Рихарда Вагнера, творившего в области музыкальной драмы, хотя и связанной с эпосом. Свой вклад в монументальное искусство девятнадцатого века Германия внесла не на литературном, а на музыкальном поприще, и это в высшей степени характерно. Можно было бы пока- зать удивительнейшее эпохальное и психологическое родство монументального творчества Вагнера с вели- ким искусством европейского романа девятнадцатого века, «Кольцо Нибелунга» имеет много общего с сим- волическим натурализмом цикла романов Золя «Ру- гон-Маккары», вплоть, до «лейтмотива». Но суще- ственным и специфически национальным является различие между социальной устремленностью фран- цузской литературы и мифологическим, исконно по- этическим духом немецкой. Не будет преувеличением сказать, что роман европейского типа вообще чужд немецкому национальному характеру — и это объ- ясняется не только отношением немецкого духа к де- мократизму, от века свойственному роману как худо- жественной форме, но и его отношением к демократии вообще — в самом широком и духовном смысле этого слова. Когда я говорю о том, что роман не привился в Германии, а немецкий роман — в мир>€, я, разу- меется, имею в виду девятнадцатый век и прежде всего вторую его половину; ибо роман немецких ро- мантиков, достигший высокой степени совершенства
286
благодаря Жан-Полю, Новалису, Тику, Шлегелю, Ар- ниму и Брентано, обрел хотя бы в лице Э.-Т.-А. Гофмана, в его фантасмагорической повествователь- ной прозе, всеевропейское значение и оказал особенно сильное влияние во Франции. В наши дни подобное влияние на европейскую литературу начинает ока- зывать весьма своеобразное и интересное искусство повествования рано умершего богемского немца Франца Кафки — его религиозно-юмористическая по- эзия сновидений и ужаса относится к наиболее впе- чатляющим и примечательным явлениям мировой ли- тературы в области прозы. На рубеже двадцатого века и в первой его трети можно и вообще отме- тить нечто вроде вторжения немецкого романа, с его формальными и духовными особенностями, в сферу общеевропейских интересов. Но об этом — в другой раз.
1939
Тот факт, что я осознал себя сторонником демо- кратии, является следствием убеждений, которые да- лись м«е нелегко и первоначально были чужды мне, выросшему и воспитанному в духовных традициях немецкого бюргерства; да, я пришел к убеждению, что политическое, социальное составляет неотъемле- мую часть человеческого, принадлежит к единой проблеме гуманизма, в которую наш интеллект дол- жен включать его, и что в проблеме этой может об- наружиться опасный, гибельный для культуры про- бел, если мы будем игнорировать неотторжимый от нее политический, социальный элемент. Не покажется ли странным, если я скажу, что по- просту приравниваю демократию к политике, опреде- ляя ее как политический аспект духовного, как готов- ность духа к политике? Но я уже сказал это двадцать лет назад в стоившей мне мучительных усилий объ- емистой книге, озаглавленной «Размышления аполи- тичного», где я привел это определение с полемически- отрицательным знаком и где я во имя культуры и даже свободы всеми силами сопротивлялся тому, что называл «демократией», имея в виду политизацию духовной жизни. Повторяю, даже во имя свободы, ибо в соответствии со складом моего мышления по- нятие «свобода» означало для меня в то время сво- боду нравственную, а о соотношении последней с гражданской свободой я почти ничего не знал, да
288
и знать не хотел. Ту книгу я написал в годы войны, страстно отдаваясь самопознанию и пересмотру всех основ моего мировоззрения, всех унаследованных мною традиций, — традиций аполитичной немецко- бюргерской духовной культуры. Эта культура впитала в себя музыку, метафизику, психологию, пессимисти- ческую этику, идеалистическую теорию индивидуали- стической педагогики, — но с пренебрежением отвер- гала всякий политический элемент. Однако самопознание, если только предаваться ему с достаточной основательностью, представляет собой в большинстве случаев первый шаг к внутрен- нему перерождению; я понял, что человек, познавая себя, никогда не остается вполне таким же, каким он был прежде. Уже та книга, с характерным для нее стремлением говорить обо всем сразу, была выраже- нием кризиса, плодом новой обстановки, созданной катастрофическими внешними событиями: проблема человека, проблема гуманизма во всей своей слож- ности и с небывалой доселе безотлагательностью вставала перед духовным взором нашего поколения. Становилось ясно, что духовную жизнь нельзя на- чисто отделить от политики; что мысль, будто можно создавать культурные ценности, сохраняя аполитич- ность, представляет собой заблуждение немецкой бюргерской идеологии; что культура стоит перед ли- цом грозной опасности, если ей недостает политиче- ского инстинкта и воли; словом, на бумагу рвалось осознание демократической позиции, — оно требовало своего оформления вопреки противодействию впитан- ной мною традиции аполитичности. И я признателен своему доброму гению за то, что не сдержал этого порыва. Где был бы я сейчас, на чьей стороне стоял бы, если благодаря своему консерватизму остался бы приверженцем германской культуры, которая со всей ее духовностью, со всей ее музыкой не смогла уберечься от того, чтобы не опуститься до подлейшего низкопоклонства перед насилием, до варварства, угро- жающего основам западной цивилизации! До какой степени злосчастный характер германг ской истории и ее путь к национал-социалистской 19 Т. Манн, т. 10 289
--------------------------катастрофе культуры связан с аполитичностью бюр* герского духа в Германии, с его антидемократическим отношением к политической и социальной сфере, на которую он взирал с высот спиритуализма и идеали- стической «педагогики» — все это я снова предельно отчетливо осознал, когда недавно вновь перечитал творения одного из великих немецких мыслителей, отличного писателя, оказавшего огромное влияние на меня в молодые годы; я имею в виду Артура Шопен- гауэра. Этот выдающийся ум, предшественник Ницше в области антиинтеллектуализма, революционный реакционер, свергший с престола разум и превратив- ший его в бессловесное орудие «воли», темного ин- стинкта, этот философ был ожесточенным противни- ком Гегеля, который обожествлял политику и создал учение о государстве-улье как о высочайшей цели всех человеческих устремлений; все это Шопенгауэр объявил величайшим филистерством. Сам он видел в государстве неизбежное зло и обещал некритиче- ское, снисходительное невмешательство тем, кто взял на себя неблагодарную задачу управлять людьми — этим племенем зловредных дикарей, охранять среди них законность, покой и порядок; а тем, кому выпало на долю владение какой-либо собственностью, он обе- щал защиту против тех бесчисленных обездоленных, кто владеет лишь собственной физической силой. Те- перь мы видим, каковы страшные последствия анти- гуманистической доктрины, согласно которой назначе- ние человека — раствориться в государстве, и нам по- нятен протест против абсолютизации государства, ко- торая, говоря словами Шопенгауэра, ведет к тому, что «мы совершенно теряем из виду высокую цель нашего бытия». Но разве и концепция государства как органа для охраны собственности не граничит с «филистер- ством», только с другой стороны, нежели гегелевское обожествление государства? И разве иронический от- каз философствующего мелкого капиталиста от вся- кого вмешательства в политику, отказ духа от всяких политических страстей, — разве это шло на благо человеку, помогало ему жить? Своим девизом Шопен- 290
--------------------------гауэр провозгласил: «Я каждый день благодарю бога за то, что мне не надо печься о Священной Римской империи!» Государству подобный афоризм в духе чистейшего филистерства и шкурничества не слишком должен был прийтись по вкусу, и мы теряемся в до- гадках, как мог воитель духа Шопенгауэр избрать себе такой девиз. Дело в том, что отказ культуры от политики-^ заблуждение, самообман; уйти таким образом от политики нельзя, можно лишь оказаться не в том стане, питая, сверх того, страстную ненависть к про- тивнику. Аполитичность есть не что иное, как по- просту антидемократизм, а что именно это означает, каким самоубийственным образом дух, став на та- кую позицию, бросает вызов всему духовному, обна- руживается с необычайной ясностью на крутых пово- ротах истории. Позиция Шопенгауэра в 1848 году была зловеще обывательской и трагикомической. Его симпатии ни в малейшей степени не принадлежали тем, кто в то время надеялся — впрочем, в достаточ- ной мере утопично — придать немецкой общественной жизни направление, которое вплоть до наших дней определило бы иное, более счастливое для человече- ства развитие общеевропейской истории и отвечало бы интересам всех людей с духовными запросами, дру- гими словами — направление демократическое-. Народ он называл не иначе, как «всевластная сволочь», и офицеру, который из окна его квартиры вел наблюде- ние за баррикадами, демонстративно предоставил свой театральный бинокль, чтобы тому было удобнее вести огонь по мятежникам. Это ли называется стоять выше политики? Ведь это просто ненависть реакцио- нера, и духовные причины этого чувства нам вполне очевидны. Мы зашли бы слишком далеко, если бы стали анализировать, в какой степени антиреволю- ционность Шопенгауэра логически и идейно коренится в его миросозерцании: она зависит от всего склада его натуры; она — некая основа его существа, связан- ная с его этическим пессимизмом, с тем культом «креста, смерти и могилы», которая психологически- закономерно враждебна риторике, пафосу свободы, 19* 291
--------------------------культу человечества. Этот мыслитель — антиреволю- ционер в политике вследствие своего пессимизма, отрицающего жизнь, вследствие своего преклонения перед страданием и своей ненависти к «непристойной оптимистичности» демагогии почитателей прогресса, В общем, от него тянет душком слишком хорошо зна- комого нам, слишком напоминающего нашу дорогую отчизну немецкого духовного бюргерства, — мы гово- рим «немецкого» потому, что оно пронизано духовно- стью, а его интроспективность, его консервативный радикализм, его абсолютная отрешенность от всякого демократического прагматизма, его «чистая гениаль- ность», его вызывающая несвобода, его глубокая аполитичность представляют собой специфически не- мецкую потенцию, закономерность и — опасность. Политическое безволие немецкого понятия куль- туры, игнорирование им демократии страшно ото- мстило за себя: немецкий дух пал жертвой тотальной государственности, которая лишила его не только гражданской, но и нравственной свободы. Если демо- кратия означает, что политическое и социальное сле- дует рассматривать как часть всеобщей проблемы гу- манизма и что следует охранять нравственную свобо- ду, защищая свободу гражданскую, то противополож- ностью, в которую, по законам диалектики, переходит антидемократическое высокомерие духа, является та теория и та глубоко бесчеловечная практика, кото- рая абсолютизирует один из элементов проблемы гу- манизма — политику, видит в политике всеобъемлю- щую тотальность, не желает ничего знать, кроме идеи государства и власти, приносит в жертву этой идее человека и все человеческое и уничтожает всякую свободу. Этот процесс с неумолимой закономерностью ведет к трагическим последствиям. Политический вакуум в духовной жизни Германии, высокомерное отношение бюргера-интеллигента к демократии, его презрение к свободе, в которой он видит не что иное, как риторическое фразерство западной культуры,— все это сделало его рабом государства и власти, про- стой функцией тотальной политики, унизило его до такой степени, что невольно спрашиваешь себя, смо- 292
--------------------------жет ли он когда-нибудь снова поднять глаза перед лицом всемирного духа. Если он вообще выйдет живым из этого ужаса; если немецкий дух, который (в соответствии со сло- вом Гете: «Цвет просвещенья— разве он не духом бюргерства рожден?») все представляет себе не иначе, как бюргерским, — если он переживет тотальный по- зор, именуемый национал-социализмом, то, надо на- деяться, это катастрофическое следствие его слепоты к политическому аспекту проблемы гуманизма ока- жется для него суровой, но поучительной и спаситель- ной школой. Я часто говорил: в Германии не станет лучше до тех пор, пока у немцев при слове «свобода» не будут навертываться на глаза слезы. Теперь уже, кажется, этого недолго ждать. После шести лет геста- повского государства немецкий бюргер как будто начал понимать, что такое, в конце концов, свобода, право, человеческое достоинство и неприкосновен- ность совести; он начал понимать и то, что эти поня- тия— нечто большее, чем пустопорожние фразы гу- манитарного бунтарства. Но есть вещи, которые легче утратить, нежели обрести вновь, и ответ на вопрос, суждено ли еще когда-нибудь бюргерскому духу в Германии использовать свой трагический опыт, за- висит от длительности нынешнего катастрофического кризиса, от того, является ли он преходящим эпизо- дом, или исторической эпохой. Как бы то ни было, но пока что роковые события развиваются своим чере- дом, и немецкий дух, желавший эмансипироваться от политики, гибнет под гнетом политического террора; парадоксальность его гибели довершается чудовищ- ным итогом: бюргера-антиреволюционера, всегда при- знававшего революцию только в сферах религии и духа, ненавидевшего и презиравшего ее в сфере поли- тики, насильственно принудили стать санкюлотом — участником самой необузданной «революции», какую когда-либо видел мир, — «революции», которую мень- ше всего можно назвать духовной, меньше всего гума- нистической, которая направлена против всего, что история Запада учила понимать под культурой и гу- манизмом, «революции» абсолютного и планомерного 293
--------------------------разрушения и уничтожения всех нравственных основ—во имя пустопорожней политической идеи власти. Теперь уже всем должно быть ясно, что иных це- лей нет и не было у «революции», которая называет себя германской, что ей неведомы никакие духовные, моральные, человеческие стимулы, кроме безумной и бессмысленной жажды власти и порабощения; что все «идеи», «миросозерцания», теории, убеждения служат ей исключительно завесой, предлогом, ору- дием обмана для достижения завоевательной цели, лишенной всякого нравственного содержания; это те- перь должно быть ясно даже тем, кто и в Германии, и за ее пределами хотели видеть в «национал-социа- лизме» оплот какого бы то ни было порядка, хотя бы даже капиталистического. Если чувство собственного достоинства Запада по-прежнему будет трусливо пя- титься перед ним, то в этой «революции» погибнет много больше, чем только капиталистический строй; было бы смешно думать, что она остановится перед ним, — вна, которая ради сохранения и расширения своей власти готова с беспредельным цинизмом заим- ствовать любой лозунг, и в первую очередь (как о том в настоящее время свидетельствуют бесчисленные признаки) заимствовать те самые лозунги, от кото- рых она сулилась спасти буржуазный мир: лозунги большевизма. Буржуазия Европы, более того, буржуазия всего мира поверила, что национал-социализм спасет ее от большевизма, попалась на удочку этого движения, «лишенного всяких предрассудков», идеологически абсолютно бесчестного и заявляющего о своей якобы лояльности из чисто тактических соображений; бур- жуазия до сих пор продолжает болтаться на крючке, в момент, когда практически, быть может, уже слиш- ком поздно осознать свою ошибку. И это непрости- тельная ошибка! Ибо здоровый инстинкт должен был бы подсказать ей, что это устремленное в никуда «движение», которое, правда, начинало свой путь под прикрытием различных грубо манящих личин — на- ционалистической и мелкобуржуазной культурно-кон-
294
сервативной, — как раз и является тем самым, что буржуазная фантазия вкладывает в мифическое по- нятие «большевизм». Все, что она вкладывает в это апокалипсическое понятие: насилие, анархия, кровь, огонь и господство черни, преследование веры, грязная жестокость, извращение всех понятий, опозорение права и разума, бесстыдное, дьявольски-издевательское из- вращение истины, подстрекательство подонков обще- ства, разложение, ликвидация государственного по- рядка, причем все это вынесенное за моря и границы вплоть до последнего уголка земного шара при помощи денег, подкупа, одуряющего пустословия, бесчисленной армии шпионов и агитаторов, пока везде и всюду не будет сломлено сопротивление, уничтожен порядок и весь мир не превратится в огромную могилу свободы, над которой развевается знамя тупоумного рабства, — да, подобным «большевизмом» является только на- ционал-социализм. И если войны, более разрушитель- ные и варварские, чем Тридцатилетняя война, разятся над Европой, разорвут ее в клочья и от- бросят на несколько столетий назад,— он, враг чело- вечества, будет зачинщиком этих войн. Враг человечества.., Презрение к политике, анти- демократизм немецкого духа, мнившего себя носите- лем культуры, привели к тому, что уделом его стала эта страшная бранная кличка, это проклятие. Он ни сном ни чохом не помышлял ни о чем подобном, да и теперь, оказавшись лицом к лицу с фактами, спраши- вает, уж не привиделось ли ему все это во сне. Увы, это реальность. Он отказывался признать политику составной частью проблемы гуманизма, и теперь эта его позиция привела к диктатуре политического тер- рора, к бесконтрольной власти грубой силы над ра- бами, к тотальному государству; плодом его эстетско- бюргерского стремления уйти в область культуры оказалось такое утверждение варварства в морали, средствах и целях, какого еще не видел мир; и своим высокомерным чистоплюйством по отношению ко вся- кой освободительной революции он обязан тем, что стал орудием чудовищного переворота, орудием анархической, тотальной «революции», которая угро- 295
--------------------------жает основам и принципам всей западной циви- лизации и морали и с которой не может сравниться никакое нашествие гуннов в далеком прошлом. Вольно же ему было кривиться в усмешке анти- демократизма, не подозревая о том, что демократия идентична этим основам и принципам, что она пред- ставляет собой не что иное, как политический аспект западноевропейского христианства, а сама политика есть не что иное, как та нравственность духа, без которой он обречен на погибель. Мы хотим констати- ровать следующее: в то время как во внешней жизни народов наступила — или казалось, что наступила — эпоха культурного упадка, вероломства, беззаконья и гибели понятий верности и доверия, дух вступил в эпоху моральную — иначе говоря, в эпоху упроще- ния, когда он, отказавшись от гордыни, пытается разобраться, где добро и где зло. Зло явилось нам в такой бесстыдной гнусности, что у нас открылись глаза на величаво-простую красоту добра, мы почув- ствовали к нему сердечную склонность и уже не счи- таем зазорным для своей утонченности признаться в этом. Мы вновь решаемся произносить такие слова, как свобода, истина, право; мы видели столько под- лости, что избавились от холодного скептицизма, с каким прежде относились к ним. Мы идем с ними навстречу врагу человечества, как древле монах шел с распятием навстречу сатане; и все муки, все страда- ния, которые уготовила нам наша эпоха, перевеши- вает юное счастье человеческого духа, который вновь обрел начертанную ему от века миссию и зрит себя Давидом, сокрушающим Голиафа, святым Георгием- победоносцем, сражающимся со змеем лжи и насилия.
1939
ПАМЯТНОЕ СЛОВО О МАКСЕ
РЕЙНГАРДТЕ
Тпои творенья величавы, Твоей разумной силе слава! Эти слова (Гете, «Фауст», начало второй части) го- ворит Герольд богу богатства Плутусу на пышном мас- караде во дворце императора, и они вспомнились мне потому, что их могли бы от всего сердца произнести мы, — мы, собравшиеся для скорби и восхищения, не- сущие в сердцах своих любовь и благодарность нашему великому соотечественнику, отошедшему в вечность. Макс Рейнгардт назвал себя однажды «посредни- ком между мечтой и действительностью», определив тем самым не только сущность своего творчества, своего особого искусства — искусства театральной режиссуры, чувственного воплощения идеи, но также и сущность искусства вообще. Ибо искусство, лунно- зыбкой, чародейной силою своей, связывает сферы небесную и земную, дух и материю. В этой двуедино- сти интеллектуального и эмоционального — весь юмор, весь задор, все остроумие, вся страстность, вся огромная, непередаваемая прелесть искусства. И театр, эту прародину чувственной духовности и духов- ной чувственности, можно по праву назвать катехи- зисом всякого художества. Театр Рейнгардта был на- столько ярким и полнокровным, настолько празднич- ным и волшебным, настолько «театральным», что для нас, художников, были ли мы тесно связаны с ним в силу своего призвания или нет, он явился поистине чарующим, благодетельным жизненным переживанием.
297
Австрийское барокко, интеллектуализированное еврейством, обогащенное всеми направлениями и до- стижениями культуры и искусства современности — вот, пожалуй, наиболее краткое определение творче- ства Макса Рейнгардта, творчества чрезвычайно эффектного и сенсационного в лучшем смысле этого слова. Не случайно, когда я стал говорить о нашем незабвенном друге, на ум мне пришли слова из сцены маскарада в гетевском «Фаусте». Все здесь дышит страстью великого веймарца к пышным, увлекатель- ным зрелищам, к праздничному великолепию, — и по- добная же склонность составляла отличительную черту Рейнгардта. Он мог бы быть устроителем празд- неств у какого-нибудь великого короля, ибо, в сущ- ности говоря, в нем безусловно было что-то царст- венно-величественное. Однако времена королей про- шли, и он сам стал великим царем, жизнь его была празднеством, декорированным, пышным, усладитель- ным, полным изящества и блеска, и он никогда ие лишался этого царственного ореола, он с непоколеби- мым достоинством сохранял его даже в изгнании, даже тогда, когда потерял свой зальцбургский замок, этот замечательный приют короля-артиста. Его театр был фестивальным празднеством, празд- ничным фестивалем по самой своей натуре, благодаря чему Макс Рейнгардт стал основателем зальцбургских фестивалей. Берлин последних лет кайзеров- ской эпохи и периода республики стал ареной триум- фов Рейнгардта оттого только, что он являл собою огромный, кипучий рынок культурного предпринима- тельства. Подлинной же стихией Рейнгардта была южнонемецкая, народно-католическая среда, где, соб- ственно, и залегают его артистические инстинкты, Зальцбург, где на площади перед собором он инсце- нировал «Каждый человек таков». В 1894 году в Зальцбурге на сцене городского театра Рейнгардт с необыкновенным для своего возраста мастерством, с натуралистическим вхождением в образ играл ста- риков; отсюда молодого актера забирает в свой Не- мецкий театр в Берлине Отто Брам. Мне еще довелось видеть одного из этих знаменитых рейнгардтовских
298
стариков — Луку из пьесы Горького «На дне», поста- новка которой была первым огромным успехом «Ма- лого театра», возникшего на основе кабаре «Шум и дым»—первого самостоятельного детища Рейнгардта и его друзей после их разрыва с Брамом, который претил им своим творческим ригоризмом. Пуританский литературный театр, который не был театром, не мог удержать Рейнгардта- Он шел своим, новаторским, авантюрно-либертинским путем, и у колыбели театра, в котором возродился дух подлинной театральности, стояла пародия. Мы, молодые мюнхенцы, члены лите- ратурно-драматического ферейна, хохотали до слез, когда однажды ночью, в пивной, где не было даже подмостков, рейнгардтовская труппа разыгрывала па- родию на «Дон Карлоса». Мы и не подозревали тогда, что этим артистическим скоморошеством, этим необыкновенно комичным фарсом, в котором актеры, лишенные средств и поддержки, с поистине донкихо- товской страстью пробовали свои силы на великом драматическом произведении, — что этим талантли- вым, безудержным сценическим самоосмеянием от- кроется одна из прекраснейших и достойнейших, яр- чайших и увлекательнейших страниц в истории театра. Едва ли я отдавал себе отчет в том, что был сви- детелем этого чудесного превращения во всех его фазах, и теперь только, когда оно обрывается смертью великого артиста, отзывающейся болью в наших сердцах, я в полной мере ощущаю, что значил для меня, для моего эстетического воспитания, театр Рейн- гардта, насколько он обогатил мою жизнь. Конечно, деятельность его протекала как бы на периферии этой жизни, имевшей иную направленность, иную целе- устремленность, но вместе с тем и сопутствовала ей, созвучная и близкая, озаряла ее своими красочными бликами, и сейчас, по той отчетливости, с какой мне вспоминается каждое мое посещение этого столь же фантастического, сколь серьезного, столь же развле- кательного, сколь возвышенно-чистого театра, мне становится ясно, как глубоко западали они мне в душу. «Саломея» и «Электра», забавно-чудесный, сладостно-смутный, пронизанный лунным сиянием
299
«Сон в летнюю ночь», навсегда утвердивший славу своего постановщика, «Венецианский купец» в мюн- хенском Кюнстлертеатре, захватывающие своей рево- люционной динамичностью постановки шиллеровских «Разбойников» и «Коварства и любви», а также «Гамлет», «Эдип-Царь», да и мало ли еще спектак- лей — все это я пережил, все это испытал, не пропу- стив ничего, и не потому, что сознательно, нарочито старался ничего не пропустить, а потому, что так уж само собой получалось, потому, что вся эта столь блистательно обновленная классика, все эти, один другого ярче, шедевры современного драматического искусства, созданные с огромным стилистическим чутьем, входят составной частью в культуру нашей эпохи, являются ее прекраснейшими, примечательней- шими достижениями. Да, как художник и человек он всецело принадле- жал своему веку, нашему миру, который мы стара- лись отобразить различными средствами. Наши от- правные точки, наши творческие сферы были далеки друг от друга, но вновь и вновь со времен юности на какие-то мгновенья сходились наши пути; я знал его еще совсем молодым; его спокойная, мужественная собранность, рассудительная, пластическая речь, уме- ние слушать собеседника, — одним словом, все то, что составляло личность этого человека, располагало меня к нему точно так же, как и всякого, ктр подпадал под действие ее магнетизма; а наблюдать его за работой, например, на репетициях в Берлине, на которые он, не знаю почему, допускал меня даже в тех случаях^ когда доступ в театр был закрыт для всех любопыт- ных, было самым интересным занятием в моей жизни. Я понял тогда причины благодарно-страстного обожа- ния, которое питали к нему его товарищи по театру, актеры его труппы. Ведь нельзя не любить того, кому ты обязан всем, что есть в тебе хорошего. Рейнгардт- режиссер не навязывал актерам ничего, что было бы чуждо их физическому и духовному складу, не подав- лял индивидуальность, а, наоборот, любовно и про- никновенно брал от каждого нечто ему одному свой- ственное, для него одного характерное, и- выявлял
300
дарование во всей его силе, полнокровности, блеске. Сколь многих, кто без него ничего не узнал бы о себе, о ком никогда не узнал бы мир, он озарил сиянием своей славы, и не потому только, что он нуждался в них, а потому, что как артист, обладавший широкой натурой, он искренне любил все артистическое! Ин- стинкт импрессарио был в нем, быть может, наиболее сильным, в нем жила страсть первооткрывательства новых, неповторимых форм художественной образно- сти, стремление выдвинуть, использовать на сцене открытые им таланты. Можно ли забыть неподражае- мые интонации комика Ватмана в роли барона («На дне») или «разочарованною принца», претендента на руку прекрасной Порции (госпожа Гейме) в «Вене- цианском купце»? Рейнгардт первым расслышал и выявил их как отличительную черту его актерского дарования. Точно так же он открыл для сцены грубо- вато-обаятельное лукавство Гертруды Эйзольд, бла- городную, мужественную сдержанность Кайслера, белокурую женственность Хефлих, юношески поэтич- ную мелодичность Моисеи, которую терпеливо и убе- жденно отстаивал от первых нападок публики и кри- тики, змеино-гибкую прелесть Дюрье, неистовость Вегенера, грустный талант незабываемого Виктора Арнольда, экзотический гений Рудольфа Шильдкраута. Рейнгардт привел Альберта Бассермана, уже просла- вившегося блестящим исполнением современных ролей, к Шиллеру и Шекспиру. Целая плеяда замеча- тельных деятелей театра, имена которых связаны с именем Рейнгардта, встает перед нами, если мы вспомним о недавнем прошлом нашего драматиче- ского искусства. Елена Тим-иг, Эрнст Дейч, Вернер Краус, Романовский, Макс Палленберг были помощ- никами, питомцами Рейнгардта, а впоследствии, когда в Немецком театре, в Берлине, и в его филиале «Кам- мершпиле» он устраивал свои праздничные вечерние представления, — вдохновенными проповедниками его художественного кредо. Что касается его собствен- ной восприимчивости к искусству и обаянию актер- ской игры, то она была поистине неистощимой. Помнк>, как Рейнгардт руководил репетицией спектакля
301
«Шесть человек ищут одного автора», когда семь* восемь раз подряд повторялось одно и то же место. При этом Палленберг должен был произносить фразу с комической интонацией, и надо только представить себе, как он это делал! Всякий раз, когда актер про- износил эту фразу, —* даже в шестой, восьмой раз, —>. режиссер заливался громким восторженным смехом..- Эта первозданная свежесть восприятия, живое любопытство, стремление открыть, пробудить и вы- двинуть талант не умирали в нем никогда, даже после того как он был оторван от родной почвы и пересажен на почву чужую. В Голливуде, в руководимом им театральном училище, он сразу же с юношеским рве- нием стал проявлять этот свой дар, эту страсть и был поражен обилием актерских дарований в Соединен- ных Штатах. Как-то в разговоре он заметил, что объясняется это, по-видимому, тем же, что и в Ав- стрии, а именно: большим смешением рас. Я мог бы сказать еще о многом. Все выси и глу- бины, свойственные созданию рук человеческих, назы- ваемому театром, раскрываются перед нами, когда мы говорим о великом мастере, ушедшем от нас; перед нами, во всей своей многогранности, предстает проблема артистичности, в которой, по существу, схо- дятся начала и концы всякого художничества вообще. Однако я говорил слишком долго. Пусть теперь вы- ступят актеры, его питомцы. Мне же теперь остается только засвидетельствовать, что прекрасное творче- ство Рейнгардта обогатило и украсило мою жизнь, как и жизнь миллионов других людей. Имя Рейн- гардта навсегда останется для меня родным и близ- ким, как и для всех, кто на себе испытал мощь его таланта. С его именем связано искусство чародейно- обольстительное, играющее всеми красками, полное тонкой ворожбы, ритма, мелодичности и мечты. Его имя всегда будет вызывать в нас восторженный тре* пет и прекрасные воспоминания, всегда будет окру- жено ореолом немеркнущей славы.
1944
Уважаемые дамы и господа! Вот я стою перед вами, семидесятилетний старик — никогда не думал дожить до таких лет! — и уже несколько месяцев как американский подданный, обращаюсь к вам, или по крайней мере пытаюсь обращаться к вам по-англий- ски, не только гость, но и член того американского государственного учреждения, которое пригласило вас сюда послушать меня, —итак, я стою здесь перед вами, и мне кажется, будто жизнь соткана из того же материала, из какого сплетаются сны. Все это так удивительно, так неправдоподобно, так нежданно. Прежде всего, я никогда не думал, что доживу до патриаршего возраста, хотя теоретически был отнюдь не претив этого. Я рассуждал так: раз уж нам при- шлось родиться на свет, то хорошо, почетно про- держаться тут возможно дольше, прожить полный человеческий век и как художник сполна проявить свой творческий дар на всех ступенях жизненного пути. Внрочем, я не слишком верил в то, что мне отпущен« достаточно жизненных сил для подобного призвания, и выносливость, которую я тем не менее проявил, кажется мне доказательством не столько моей жизнеспособности, сколько той снисходитель- ности, какую явил по отношению ко мне гений жизни, чем-то данным мне сверх положенного, — милостью. А милость всегда удивительна и нежданна. Осенен- ному ею кажется, что он видит сон.
303
Нереальным представляется мне и то, что я . во- обще жив, и то, где я нахожусь. Возможно, не будь я писателем, выдумщиком небывалого, все казалось бы мне само собой разумеющимся. Чтобы видеть жизнь в фантастическом свете, достаточно капли воображе- ния. Как я попал сюда? Волною какого сна занесло меня из того далекого уголка Германии, где я родился, который, в сущности, и есть мое место на земле, — вол- ною какого сна занесло меня в этот зал, на эти подмо- стки, с которых я как американец обращаюсь к амери- канцам? Не то, чтобы я считал все это неправильным. Напротив, все это произошло с моего соизволения, вер- нее, о соизволении позаботилась судьба. Здесь, в этом гостеприимном городе городов, в этой вселенной, кото- рую населяют все расы и нации и которая именуется Америкой, немечество с меня снято, и при нынешних обстоятельствах это, пожалуй, самое верное решение. Прежде чем я стал американцем, мне разрешили стать чехом; я был в высшей степени благодарен за эту любезность, однако она была лишена всякого смысла. Ибо достаточно мне вообразить, что волею случая я стал французом, или англичанином, или итальян- цем, чтобы с удовлетворением осознать, насколько правильнее то, что я стал американцем. Все другое оз- начало бы введение моего бытия в чуждое мне, слиш- ком узкое, слишком определенное русло. Будучи аме- риканцем, я — гражданин мира, каковым, в силу своей натуры, является всякий немец, при всей свойственной ему нелюдимости, робости перед миром, причины которой следует искать то ли в его кичливом самомне- нии, то ли в прирожденном провинциализме, — свое- образном национально-общественном комплексе непол- ноценности, а, быть может, в том и другом вместе. Германия и немцы — такова тема моей сегодняш- ней беседы с вами, тема довольно рискованная, и не только потому, что самый предмет бесконечно проти- воречив, многообразен, неисчерпаем; нельзя забы- вать и о страстях, которые в настоящее время бушуют вокруг него. Говорить о нем sine ira et studio1 с чисто
304
психологической точки зрения может показаться почти аморальным перед лицом тех невыразимых страданий, которые принес миру этот злополучный народ. Быть может, в наши дни немцу следовало бы избегать таких тем? Но, право же, сегодня я едва ли мог остановиться на другой теме; более того, сегодня трудно представить себе беседу неличного свойства, которая почти неизбежно не сводилась бы к германской проблеме, к загадке характера и судьбы народа, принесшего миру столько неоспоримо пре- красного и великого и в то же время неоднократно становившегося роковым препятствием на пути его развития. Страшная судьба Германии, чудовищная катастрофа, к которой она пришла, завершая новей- ший период своей истории, — вот что привлекает всеобщий интерес, пусть даже интерес этот и далек от всякого сострадания. Человеку, родившемуся нем- цем, в наши дни едва ли пристало взывать к со- страданию, защищать и оправдывать Германию. Но разыгрывать из себя непреклонного судью и, угод- ливо поддерживая безграничную ненависть, которую его народ возбудил против себя, проклинать и поно- сить этот народ, а себя самого выставлять воплоще- нием «хорошей Германии», в противоположность злой, преступной нации, с которой, мол, он не желает иметь ничего общего, — такому человеку, как мне кажется, тоже не к лицу. Если ты родился немцем, значит ты волей-неволей связан с немецкой судьбой и немец- кой виной. В желании отойти на известную дистан- цию, чтобы обеспечить себе возможность критическо- го суждения, еще не следует видеть измену. К той правде, которую человек пытается сказать о своем народе, можно прийти только путем самопознания. Неожиданно для себя самого я уже окунулся в противоречивую стихию немецкой психологии, вы- сказав мысль о том, что в натуре немца сочетаются потребность общения с миром и боязнь перед ним, космополитизм и провинциализм. Едва ли я могу тут ошибиться, ибо уже с юных лет испытал это на себе. Скажем, поездка из Германии по Боденскому озеру в Швейцарию была поездкой из провинции
305
в большой мир, — как ни странно звучит утверждение, что именно крохотная Швейцария, а не громадная, могущественная Германская империя, с ее исполин- скими городами, является «большим миром». И тем не менее это действительно так: Швейцария, ней- тральная, многоязычная, проникнутая французским влиянием и овеваемая ветром Запада, Швейцария, не- смотря на свои ничтожные размеры, была и на самом деле в гораздо большей степени «миром», Европой, чем политический колосс на севере, где слово «интер- национальный» давно уже стало бранным эпитетом и где в затхлой атмосфере провинциального чванства едва было возможно дышать. То была новейшая, националистическая форма немецкой отчужденности от мира, немецкой дале- кости от общемировых вопросов, глубокомысленной отрешенности от всемирного бытия; в прежние вре- мена все это, в сочетании со своеобразным обыва- тельским универсализмом, так сказать, космополи- тизмом в ночном колпаке, характеризовало душев- ный строй немца. Этому душевному строю, этой отчужденной от внешнего мира провинциальной немецкой космополитичиости было всегда свой- ственно нечто призрачно-шутовское и загадочно- жуткое, какой-то потаенный демонизм, и в силу своего происхождения я особенно явственно ощущал это. Мне вспоминается захолустье мира, немецкий город, из которого волна жизни перенесла меня сюда и где протекла моя юность: старинный Любек, — не- когда преддверье Ганзы, расположенный близ Бал- тийского моря, основанный в первой половине две- надцатого века и получивший от Барбароссы пре- рогативы вольного имперского города в тринадцатом веке. Его необыкновенно красивую ратушу, где часто бывал мой отец-сенатор, достроили в том году, когда Мартин Лютер прибил свои тезисы на воротах замковой церкви в Виттенберге, то есть в самом на- чале нового времени. Но подобно тому, как Лютер, религиозный реформатор, по образу мысли и миро- ощущению в значительной степени оставался челове- ком средневековья и всю жизнь сражался с чертом,
306
так и жизнь протестантского Любека, — и даже того Любека, который впоследствии республиканским элементом вошел в состав империи Бисмарка, — была отмечена печатью глубокого готического средневе- ковья; я имею здесь в виду не только панораму го- рода с его башнями и шпилями, воротами и крепост- ными валами; фреску с изображением плясок смерти в соборе св. Марии, навевающую на зрителя юмо- ристически зловещий ужас, извилистые, как будто заколдованные улочки, нередко еще носившие назва- ния старинных ремесленных цехов — колокольщиков, мясников—и, наконец, живописные бюргерские дома. Нет, в самой атмосфере города осталось нечто от духовного склада людей, живших, скажем, в по- следние десятилетия пятнадцатого века, — исте- ричность уходящего средневековья, нечто вроде скрытой душевной эпидемии. Странно говорить такое о современном торговом городе, вполне трезвом и благоразумном, но вам казалось, что здесь того и гляди возникнет крестовый поход детей, какая-нибудь пляска святого Витта, какой-нибудь крестный ход мистически экзальтированной толпы или что-либо в этом роде, — словом, ощущалась средневековая истерическая напряженность, подспудная душевная предрасположенность к фанатизму и безумию, вы- ражением которой были бесчисленные «оригина- лы»— они всегда есть в таком городе — чудаки и безобидные полусумасшедшие, обитавшие в его сте- нах и, подобно древним его строениям, принадлежав- шие к числу городских достопримечательностей: из- вестный тип ковыляющей на костылях старухи с гноящимися глазами, которую народная молва нешуточно — вернее, лишь отчасти в шутку — об- виняет в ведовстве; мелкий рантье с угреватым баг- ровым носом — у него какой-то удивительный tic ner- veux l, смешные привычки, и через равные проме- жутки времени он издает странный возглас, напо- добие сдавленного птичьего крика; дама с нелепой прической, в давно вышедшем из моды платье со 1 Нервный тик (франц.). 2ü* 307
--------------------------шлейфом, — сопровождаемая мопсами и кошками, она шествует по городу, высокомерно озирая все во- круг безумным взглядом. Картину города завершают дети, уличные мальчишки; они несутся следом за этими странными людьми, потешаются над ними, но стоит только тем обернуться, — в суеверном ужасе убегают прочь… Не знаю, почему именно сейчас и здесь мне при- шли на ум эти воспоминания начальной поры моей жизни. Быть может, это происходит потому, что Германия предстала моему духовному и физиче- скому взору первоначально в образе этого дико- винно-почтенного города, и мне важно дать вам почувствовать таинственную связь немецкого нацио- нального характера с демонизмом, — связь, которую я познал в результате собственного внутреннего опыта, но о которой нелегко рассказать. В величай- шем творении нашей литературы, «Фаусте» Гете, выведен героем человек средневековья, стоящий в преддверии гуманизма, — богоподобный человек, который из дерзновенного стремления все познать предается магии, черту. Где высокомерие интеллекта сочетается с душевной косностью и несвободой, там появляется черт. Поэтому черт — черт Лютера, черт «Фауста» — представляется мне в высшей степени не- мецким персонажем, а договор с ним, прозаклады- вание души черту, отказ от спасения души во имя того, чтобы на известный срок владеть всеми сокро- вищами, всею властью мира, — подобный договор, как мне кажется, весьма соблазнителен для немца в силу самой его натуры. Одинокий мыслитель и естествоиспытатель, келейный богослов и философ, который, желая насладиться всем миром и овладеть им, прозакладывает душу черту, — разве сейчас не подходящий момент взглянуть на Германию именно в этом аспекте, — сейчас, когда черт буквально уно- сит ее душу? Легенда и поэма не связывают Фауста с музыкой, и это существенная ошибка. Он должен быть музы- кальным, быть музыкантом. Музыка — область демо- нического; Серен Кьеркегор, выдающийся христиан- 308
--------------------------ский мыслитель, убедительнейшим образом доказал это в своей болезненно-страстной статье о «Дон Жуане» Моцарта. Музыка — это христианское искус- ство с отрицательным знаком. Она точнейше рас- численный порядок — и хаос иррациональной пер- возданности в одно и то же время; в ее арсенале заклинающие, логически непостижимые звуковые образы — и магия чисел, она самое далекое от реаль- ности и, в то же время—самое страстное искусство, абстрактное и мистическое. Если Фауст хочет быть воплощением немецкой души, он должен быть музы- кален. Ибо отношение немца к миру абстрактно, то есть музыкально, это отношение педантичного про- фессора, опаленного дыханием преисподней, нелов- кого и при этом исполненного гордой уверенности в том, что «глубиною» он превосходит мир. В чем же состоит эта глубина, как не в музыкаль- ности немецкой души, в том, что называют ее само- углубленностью, иначе говоря, в раздвоении челове- ческой энергии на абстрактно-спекулятивный и общественно-политический элемент при полнейшем преобладании первого над вторым? Европа всегда это чувствовала и даже понимала, какие чудовищные уродства и беды это влечет за собой. Бальзак писал в 1839 году: «Les Allemands, s'ils ne savent jouer des grands instruments de la liberté, savent jouer naturellement de tous les instruments de musique»1,— удивительно меткое замечание и, надо сказать, не един- ственное подобного рода в произведениях великого романиста. В «Кузене Понсе» он говорит о немецком музыканте Шмукке, этом великолепно написанном им персонаже: «Как все немцы, владея отлично гармо- нией, Шмукке брал на себя инструментовку парти- тур, вокальные партии которых сочинялись Поя- сом». Верно! Немцы прежде всего музыканты в кон- трапунктическом, а не в вокалическом смысле; они в гораздо большей степени мастера гармонии 1 Если немцы и не умеют играть на великих инструментах свободы, зато они от природы умеют играть на всех музыкаль- ных инструментах (франц.).
309
(к которой Бальзак относил и учение о контрапункте), чем мелодии, больше инструменталисты, чем почита- тели человеческого голоса; в музыке их привлекает скорее ученое и духовное, нежели напевное и несущее радость. Западу они дали музыку — не скажу, чтобы самую мелодичную и светлую, зато самую глубокую, самую значительную музыку, какую он знал, и он воздал им за это признательностью и славой. И в то же время Запад всегда чувствовал, а сегодня чув- ствует острее, чем когда-либо, что такую музыкаль- ность души приходится дорого оплачивать за счет другой сферы бытия, — политической, сферы челове- ческого общежития. Мартин Лютер — грандиозная фигура, воплотив- шая в себе немецкий дух — был необыкновенно музы- кален. Откровенно говоря, я его не люблю. Немецкое в чистом виде — сепаратистски-антиримское, анти- европейское—отталкивает и пугает меня, даже когда оно принимает форму евангелической свободы и ду- ховной эмансипации, а специфически лютеровское — холерически-грубая брань, плевки и безудержная ярость, устрашающая дюжесть в сочетании с нежной чувствительностью и простодушнейшим суеверным страхом перед демонами, инкубами и прочей чертов- щиной, — все это вызывает во мне инстинктивную неприязнь. Я бы не хотел быть гостем Лютера и, оказавшись с ним за одним столом, наверное, чув- ствовал бы себя как под гостеприимным кровом лю- доеда; я убежден, что с Львом Десятым, Джованни Медичи, доброжелательным гуманистом, которого Лютер называл «эта чертова свинья, папа», я гораздо скорее нашел бы общий язык. К тому же я не считаю непреложным противопоставление народной силы и цивилизации, антитезу: Лютер — утонченный педант Эразм. Гете преодолел эти противоположности и при- мирил их. Он олицетворяет собой , цивилизованную мощь, народную силу, урбанистический демонизм, дух и плоть в одно и то же время, иначе говоря — искусство.,. С ним Германия сделала громадный шаг вперед в области человеческой культуры, — вернее, должна была сделать; ибо в действительности она
310
всегда больше держалась Лютера, нежели Гете. Да и кто станет отрицать, что Лютер был великим челове- ком, великим на самый что ни на есть немецкий лад, великим и сугубо немецким даже в своей двойствен- ности как сила освободительная и вместе с тем тор- мозящая, как консервативный революционер. Ведь он не только реформировал церковь — он спас хри- стианство. В Европе привыкли упрекать немецкую на- туру в нехристианственности, в язычестве. Это весьма спорно. Германия самым серьезным образом отно- силась к христианству. Немец Лютер воспринимал христианство с наивно крестьянской серьезностью в эпоху, когда его нигде уже не принимали всерьез. Лютеровская революция сохранила христианство,— примерно так же, как New Deal предназначен сохра- нить капиталистический строй (пусть даже капита- лизм этого и не понимает). Нет, Мартину Лютеру нельзя отказать в величии! Своим потрясающим переводом библии он не только заложил основы литературного немецкого языка, впо- следствии обретшего совершенство под пером Гете и Ницше; он разбил оковы схоластики, восстановил в правах свободу совести и тем самым дал мощный толчок развитию свободной научной, критической и философской мысли. Выдвинув положение о том, что человек не нуждается в посредниках для общения с богом, он заложил основы европейской демократии, ибо тезис: «Каждый сам себе священник» — это и есть демократия. Немецкая идеалистическая филосо- фия, утончение психологии вследствие пиетистски- .углубленного изучения сокровенных душевных дви- жений, наконец, самопреодоление христианской мо- рали во имя морали, во имя сурового стремления к правде, что, собственно, и было тем шагом впе- ред ( а быть может, и назад), который сделал Ницше, — все это идет от Лютера. Он был борцом за свободу, хотя и на сугубо немецкий лад, ибо он ровно ничего не смыслил в свободе. Я имею здесь в виду не свободу христианина, а поли- тическую свободу гражданина; мало сказать, он был к ней равнодушен, — все ее побудительные
311
причины и требования были ему глубоко отврати- тельны. Четыреста лет спустя один социал-демократ, первый президент Германской республики, заявит: «Революция мне ненавистна, как грех». Это вполне по-лютеровски, вполне по-немецки. Так, Лютер не- навидел крестьянское восстание, которое, как из- вестно, было поднято под знаменем евангелия, и все же, одержи оно победу, оно могло бы напра- вить всю немецкую историю по более счастливому пути — по пути к свободе; однако Лютер видел в этом восстании лишь дикий бунт, порочивший дело его жизни, духовное освобождение, и потому как только мог оплевывал и осыпал проклятьями крестьян. Он призывал убивать их, как бешеных собак, и, обра- щаясь к князьям, провозглашал, что теперь каждый может завоевать право на вечное блаженство, если будет резать и душить этих скотов. На Лютере, вы- ходце из народа, лежит серьезная доля ответствен- ности за печальный исход первой попытки немцев со- вершить революцию, за победу князей и все послед- ствия этой победы. В то время в Германии жил человек, которому принадлежит вся моя любовь, — Тильман Рименшней- дер, набожный мастер, ваятель и резчик по дереву, прославившийся близостью к природе и пластической выразительностью своих творений; его многофигур- ные рельефы для алтарей и целомудренные статуи были предметом всеобщей охоты и повсюду в Герма- нии украшают церкви и молельни. Рименшнейдер пользовался высоким уважением как человек и гра- жданин и в более ограниченной жизненной сфере, в городе Вюрцбурге, жители которого избрали его в муниципалитет. Он никогда не предполагал вме- шиваться в высокую политику, в государственные дела, — это было совершенно чуждо его прирожден- ной скромности, его стремлению к вольному и миро- любивому творчеству. В нем не было ничего от дема- гога. Но сердце его билось любовью к беднякам и угнетенным, и он не мог не выступить за дело кре- стьян, которое считал правым и богоугодным, против господ, епископов и князей, чье благорасположение
312
он без труда мог бы сохранить; великие коренные противоречия эпохи вынудили его выйти из круга чисто духовного и эстетического бытия художника и стать борцом за свободу и право. Он пожертвовал собственной свободой, безмятежной степенностью своего существования во имя того дела, которое для него было выше искусства и душевного покоя. Глав- ным образом благодаря его влиянию город Вюрцбург решил отказать «бургу», князю-епископу, в военной поддержке против крестьян, да и вообще решил за- нять по отношению к нему революционную позицию. Рименшнейдер заплатил за это страшной ценой. После того как крестьянское восстание было разгром- лено, победоносные исторические силы, против кото- рых он выступил, жесточайше ему отомстили: его заточили в тюрьму, пытали, и, выйдя на свободу, он уже был сломленным человеком, неспособным про- буждать прекрасное в дереве и к.!мне… Такое тоже бывало в Гермшни, всегда бывало. Но это не то специфическое, не то монументально немецкое, что воплощает в себе Лютер, музыкальный богослов. В политике Лютер не пошел дальше того, что счел неправыми обе стороны — и князей и кре- стьян, а такая позиция неминуемо должна была при- вести к тому, что в конечном счете он стал считать неправыми (и тут он проявлял все свое неукротимое бешенство) одних только крестьян. Он мыслил вполне по слову апостола Павла: «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Но ведь это относилось к властям всемирной Римской империи, которая была и предпосылкой, и политической ареной для распро- странения всемирной религии христианства, между тем как в случае с Лютером дело шло о реакционной власти мелких немецких князей. Его антиполитиче- ская набожность, продукт музыкально-немецкой самоуглубленности и отчужденности от внешнего мира, не только на века вперед определила унижен- ную покорность немцев перед князьями и государ- ственной властью вообще, не только способствовала формированию характерного для дуализма немецкой души сочетания смелого, отвлеченного мышления
313
с политической незрелостью, но и прежде всего сама весьма монументальным и внушительным образом представляет собою типично-немецкое явление — раз- рыв между национальным чувством и идеалом поли- тической свободы. Ибо реформация, как и, позднее, восстание против Наполеона, была националиста ^ски-освободительным движением. Остановимся же подробнее на вопросе о свободе: своеобразное искажение этого понятия в сознании столь выдающегося народа, как германский, — иска- жение, имевшее место в прошлом и еще не изжитое в настоящем, дает нам все основания задуматься. Каким образом стало возможно, чтобы даже такое движение, как национал-социализм, ныне кончаю- щий позорной смертью, мог присвоить себе имя «не- мецкого освободительного движения»? Ведь все чувствовали и понимали, что это чудовище не могло иметь ничего общего со свободой. В том, что его так назвали, проявился не только вызывающий цинизм, но и принципиально порочное толкование понятия «свобода», — психологический закон, неоднократно дававший себя знать в истории Германии. Свобода, если рассматривать ее в политическом аспекте, прежде всего понятие нравственного, внутреннепо- литического порядка. Народ, который внутренне не свободен и не отвечает за самого себя, не заслужи- вает внешней свободы; он не имеет права говорить о свободе, а если и произносит это звучное слово, то вкладывает в него ложный смысл. Немецкое понятие свободы всегда было направлено против внешнего мира. Под этим словом разумелось право быть нем- цем, только немцем и более ничем; в нем выражался протест эгоцентриста, который противился всему, что ограничивало, обуздывало народнический эгоизм, укрощало его и заставляло служить общественным интересам, "человечеству. Закоренелый индивидуализм немцев по отношению к внешнему миру, к Европе, к цивилизации прекрасно уживался с удивительной внутренней несвободой, незрелостью, тупым верно- подданничеством. Он был проявлением воинствующего низкопоклонства, и национал-социализм гипертрофи-
314
чески возвел это противоречие между внешним и внутренним стремлением к свободе в идею порабо- щения мира одним народом, который так несвободен у себя дома, как немецкий народ. Почему же немецкое стремление к свободе всегда вырождается во внутреннюю несвободу? Почему оно дошло в конце концов до покушения на свободу всех остальных народов, на собственную свободу? Дело в том, что в Германии никогда не было революции, и она не научилась соединять понятие «нация» с по- нятием «свобода». «Нация» родилась в огне фран- цузской революции, это понятие революционное и освободительное, включающее в себя элемент обще- человеческого, совпадающее во внутреннеполитиче- ском смысле со свободой, во внешнеполитическом — с Европой. Все величие французского политического духа основано на этом счастливом единстве; вся узость и убожество немецкого патриотизма объяс- няются тем, что единству этому никогда не суждено было осуществиться. Можно сказать, что в Германии никогда не могло обрести почву само понятие «на- ция», исторически совпадающее с понятием «сво- бода». Считать немцев нацией — заблуждение, пусть даже и сами они, и другие придерживаются такого мнения. Называть их страстную приверженность к отечеству словом «национализм» — ошибочно, ибо это значит толковать явления немецкой действитель- ности на французский лад и плодить тем самым не- доразумения. Не следует обозначать одним и тем же названием две различные вещи. Немецкая идея сво- боды носит народнически-антиевропейский характер, весьма близкий к варварскому, а в наши дни и1 от- крыто смыкается с варварством. О зловещей сущ- ности этой идеи говорят эстетически-отталкивающие, грубые черты, свойственные ее носителям и побор- никам уже в эпоху освободительных войн, студенче- ским корпорациям и таким фигурам, как отец Ян и Масман. Что и говорить, Гете отнюдь не чуждался народной культуры, — он создал не только «Ифиге- нию» поры своего классицизма, но и такие исконно немецкие произведения, как первая часть «Фауста»* 315
--------------------------«сГец», «Рифмованные изречения». И тем не менее — к негодованию всех патриотов — он без всякого энту- зиазма отнесся к войне против Наполеона; дело было не только в том, что он сохранял лояльность по отношению к своему pair!, великому императору французов, но и в том, что в этом движении он не мог не чувствовать народнически-варварского эле- мента и не испытывать к нему отвращения. Трудно без скорби думать об одиночестве этого великого человека, так радостно принимавшего все широкое и великое: преодоление национальной ограничен- ности, идею всемирного германства, мировой лите- ратуры,— печально видеть его одиночество в Гер- мании того времени, лихорадочно возбужденной патриотически-освободительным подъемом. Решаю- щими, доминирующими понятиями, вокруг которых для него вращалось все остальное, были культура и варварство; судьба же судила ему принадлежать к народу, у которого идея свободы превра- щается в варварство, ибо она направлена лишь про- тив внешнего мира, против Европы, против куль- туры. И тут мы сталкиваемся с какой-то напастью, с какой-то извечной трагедией, каким-то проклятием, лежащим на всей немецкой истории: даже отрица- тельная позиция Гете по отношению к политическому протестантизму, к ублюдочной народнической демо- кратии,— даже эта позиция была истолкована всей нацией и в особенности ее идейным руководителем, немецким бюргерством, как подтверждение и углу- бление лютеровского размежевания понятий духов- ной и политической свободы, помешала тому, чтобы политический элемент вошел составной частью в не- мецкое понятие культуры. Трудно сказать, в какой мере великие люди определяют национальный ха- рактер, оказывают на него формирующее воздействие своим примером, и в какой мере сами они являются его воплощением и олицетворением. Ясно одно: не- мецкий характер отталкивается от политики, не спо- 1 Ровня (франц.). 316
--------------------------собен воспринять ее. Исторически это выражается в том, что все немецкие революции были неудач- ными: восстание 1525 года, движение 1813 года, ре- волюция 1848 года, которая потерпела поражение из-за политической беспомощности немецкого бюр- герства, и, наконец, революция 1918 года. Помимо того, это выражается и в плоском, зловещем лже- толковании, которое немцы с такой легкостью дают идее политики, если тщеславие толкает их на то, чтобы овладеть ею. Политику называют «искусством возможного», и политика и в самом деле является сферой, близкой к искусству, поскольку она, подобно искусству, зани- мает творчески-посредствующее положение между духом и жизнью, идеей и действительностью, жела- тельным и необходимым, мыслью и действием, нрав- ственностью и властью. Она включает в себя немало жесткого, необходимого, аморального, немало от expediency 1 и низменно-материальных интересов, не- мало «слишком человеческого» и вульгарного, и едва ли существовал когда-либо политик, государ- ственный деятель, который, поднявшись высоко, мог бы без всяких колебаний по-прежнему причислять себя к порядочным людям. И все же: в сколь малой мере человек принадлежит одному только миру при- роды, столь же мало политика связана с одним только злом. Не становясь дьявольской, губительной силой, не превращаясь во врага человечества, не извратив свойственный ей творческий импульс до постыдной и преступной бесплодности, политика ни- когда не сможет полностью избавиться от идеаль- ного и духовного начала, никогда не сможет совсем отбросить нравственный и человечный элемент своего существа и свестись к безнравственности и подлости, ко лжи, убийству, обману, насилию. В таком случае она была бы уже не искусством, не творчески по- средствующей и созидающей иронией, а слепым и бесчеловечным бесчинством, самоубийственным в своем всеуничтожающем нигилизме, который Целесообразности, выгодности (англ.).
317
ничего не способен создать и одерживает лишь мимо« летные зловещие победы. Поэтому народы, призванные к политике и ро- жденные для нее, неосознанно стремятся сохранить политическое единство мысли и действия, духа и власти; они занимаются политикой как искусством жизни и власти, немыслимым без использования жиз- ненно-полезного злого, сугубо низменного начала, но никогда не упускающим из виду более возвышенную сферу — идею, общечеловеческую порядочность, нравственность. Таково их «политическое» сознание,; и на этом пути они примиряются с миром и с са- мими собой. Немцу подобное примирение с жизнью, основанное на компромиссе, кажется ханжеством. Он органически неспособен примириться с жизнью, и его некомпетентность в политике проявляется в том, какой искаженный облик она принимает в его пря- молинейно-честном сознании. Не только не злой от природы, но, напротив, склонный к умствованию и идеализму, немец видит в политике только ложь, убийство, обман и насилие, нечто решительно и не- двусмысленно грязное, и когда он из мирского тще- славия отдается ей, он и действует сообразно этой философии. Немец-политик считает необходимым вести себя так, чтобы у человечества дух захва- тило,— вот это он и считает политикой. Она в его глазах воплощение зла, — поэтому, отдаваясь ей, он должен становиться дьяволом. Всему этому мы были свидетелями, Совершены преступления, которые не может оправдать никакая психология, и меньше всего им может послужить оправданием тот факт, что они были излишни. Да, это именно так, они не были необходимы, Германия могла бы обойтись без них. Она могла бы осуще- ствлять свои завоевательные планы, стремиться к установлению своего господства и без этих пре- ступлений. Сама по себе идея монополистической эксплуатации всех прочих народов концерном Геринга не могла быть совсем уж чуждой миру, где существуют тресты и эксплуатация. Худо в этой идее то, что глупым преувеличением она компрометиро-
318
вала господствующую систему. Сверх того, как идея она явилась с изрядным опозданием, ибо в наши дни человечество уже повсюду стремится к экономи- ческой демократии, борется за более высокую сту- пень общественной зрелости. Немцы всегда опазды- вают. Опаздывают, как музыка, которая всегда позднее других искусств выражает определенное психологическое состояние человечества, — в момент, когда это состояние уже уходит. К тому же они, как и любимое их искусство, склонны к абстракции и мистике — вплоть до преступления. Их преступления, как я уже говорил, не были необходимы для осу- ществления их запоздалого предприятия по эксплуа- тации мира; они были номером сверх программы, некоей роскошью, которую немцы позволили себе из теоретических соображений, во имя определенной идеологии — химеры расизма. Если бы это не про- звучало омерзительным приукрашиванием, можно было бы сказать, что они совершали свои преступления из далекого от жизненной практики идеализма. Иногда (в особенности, когда изучаешь немецкую историю) создается впечатление, будто господь-бог создал мир не один, а в сотворчестве с кем-то еще. Благой замысел, согласно которому зло может по- рождать добро, мы приписываем богу. Однако и добро часто приводит к злу — и это, несомненно, сле- дует отнести за счет того, другого. Разумеется, немцы вольны спрашивать, почему именно в их среде добро перерождается в зло, почему именно в их руках хо- рошее становится дурным. Взять хотя бы их искон- ный универсализм и космополитизм, свойственную им внутреннюю чуждость всяким рубежам — их можно рассматривать как духовный атрибут древ- него сверхнационального государства, Священной Римской империи германской нации. Все это в выс- шей степени положительные качества, и однако по законам диалектики они переходят в свою проти- воположность и становятся злом. Немцы позволили совратить себя на то, чтобы их врожденный космо- политизм превратился в стремление к европейской гегемонии, более того — к мировому господству, — и
319
teoT этот космополитизм перешел в свою прямую про- тивоположность, в самый что ни на есть наглый и опасный национализм и империализм. При этом немцы сами заметили, что с национализмом опять опо- здали, что он уже изжил себя. Поэтому они подста- вили на его место нечто более современное: лозунг расизма, который не замедлил увлечь их по пути чудовищных злодейств и вверг всю страну в пучину неслыханных бедствий. Или возьмите другое свойство немцев — оно, быть может, известнее других и определяется очень трудно переводимым словом «Innerlichkeit». С этим понятием связаны нежность, глубина душевной жизни, отсутствие суетности, благоговейное отно- шение к природе, бесхитростная честность мысли и совести, — короче говоря, все черты высокого лиризма; того, чем мир обязан этой немецкой само- углубленности, он даже и сегодня не может забыть: ее плодами были немецкая метафизика, немецкая музыка и, в особенности, чудо немецкой литера- туры — поразительный национально-специфический факт культуры, небывалый и неповторимый. Вели- ким историческим подвигом немецкой самоуглублен- ности была лютеровская реформация, мы назвали ее могучим освободительным деянием, а значит и ей было свойственно некое доброе начало. Но вполне очевидно, что и дьявол приложил к ней руку. Рефор- мация привела к религиозному расколу Запада, то есть к явной беде; она накликала на Германию Тридцатилетнюю войну, которая опустошила страну и в культурном развитии роковым образом отбросила ее назад; надо думать, что спутники войны — раз- врат и чума — изменили состав немецкой крови, ис- портили ее сравнительно с тем, какой она была в средние века. Эразм Роттердамский, написавший «Похвалу глупости», — скептический гуманист, не слишком склонный к самоуглублению, хорошо пони- мал, чем чревата реформация. «Когда увидишь, что в мире рождается страшный хаос, — говорил он,— вспомни: Эразм предрекал его». Но самоуглублен- ный, виттенбергский грубиян не был пацифистом; он
320
как истый немец преклонялся перед трагической судьбой и заявлял, что всю кровь, которая прольется, он готов «взять на себя». Немецкий романтизм, — не есть ли он проявление прекраснейшего свойства немецкой натуры, имя ко- торому немецкая самоуглубленность? Обычно с по- нятием романтизма связывают мир томительной мечты, призрачно-гротескной фантастики и в то же время высокую художественную утонченность, всепро- никающую иронию. Однако, говоря о немецком роман- тизме, я имею в виду нечто совсем иное; это, скорее, некая неосознанная мощь и благоговейность, можно даже сказать, первозданность души, которая ощущает свою близость к стихийным, иррациональным и де- моническим силам жизни, то есть к истинным источ-. никам жизни, и которая чисто рассудочному миропо- ниманию и отношению к жизни противопоставляет свое более глубокое знание, свою более глубокую связь со святыней бытия. Немцы — народ романти- ческого протеста против философского интеллектуа- лизма и рационализма просветителей, народ, у кото- рого музыка взбунтовалась против литературы, мистика против ясности. Романтизм — это менее всего расслабленная мечтательность; это глубина, которая ощущает себя силой и полнотой; это песси- мизм честности: он стоит на стороне сущего, реаль- ного, исторического против критики и идеализации, словом, на стороне мощи против духа, и ни во что не ставит риторические добродетели и идеалистическое приукрашивание мира. Здесь романтизм смыкается с тем реализмом и маккиавелизмом, которые тор- жествовали победу над Европой, воплотившись в Бисмарке— единственном политическом гении, ро- жденном Германией. Те, кто в стремлении немцев к единству и созданию империи, — стремлении, на- правленном Бисмарком по прусскому пути, видели типичное освободительное движение национально- демократического характера, те жестоко заблужда- лись. В 1848 году это стремление едва не стало демо- кратическим, хотя уже в великодержавных дебатах Франкфуртского парламента чувствовался налет
321
средневекового империализма, воспоминаний о Свя- щенной Римской империи. Однако вскоре обнаружи- лось, что обычный для Европы национально-демократи- ческий путь объединения не мог стать германским путем. Империя Бисмарка не имела ничего общего с демократией, а значит и с нацией в демократиче- ском смысле этого слова. Она была бронированным кулаком, она стремилась к европейской гегемонии; не- смотря на всю свою современность и трезвую дело- витость, империя 1871 года апеллировала к воспоми- наниям о средневековой славе, об эпохе саксонских и швабских властителей. И как раз эта ее характерная особенность — соединение полнокровного современ- ного духа с промышленной развитостью и мечтой о былом, своего рода высоко технизированный роман- тизм,— как раз это и было наиболее чревато опас- ностью. Рожденная в войнах, нечестивая Германская империя прусской нации могла быть только милита- ристским государством. Таковым оно жило, занозой сидя в теле человечества, таковым оно теперь поги- бает. Заслуги немецкой романтической контрреволюции перед историей духовной жизни поистине неоценимы. Велика здесь и роль самого Гегеля, — его диалекти- ческая философия перебросила мост через пропасть, которую просвещение и французская революция вы- рыли между разумом и историей. Гегелевское прими- рение разумного с действительным дало мощный тол* чок историческому мышлению и, можно сказать, создало историческую науку как таковую, о существо- вании которой до Гегеля вряд ли приходилось гово- рить. Романтизм — это в значительной степени уход, погружение в прошлое; это тоска по былому и в то же время реалистическое признание права на свое- образие за всем, что когда-либо действительно суще- ствовало со своим местным колоритом и своей атмосферой. Поэтому не удивительно, что он пришелся весьма кстати историографии и, собственно говоря, открыл ее такой, какой мы знаем ее в настоящее время. 322
--------------------------Заслуги романтизма в мире прекрасного велики еще и потому, что он создал науку о прекрасном, эстетическое учение. Позитивизм, рационалистическое просвещение вообще не знает, что такое поэзия; ро* мантизм поведал об этом миру, умиравшему от скуки в объятиях добродетельного классицизма. Про- возгласив права личности и ценность спонтанной страсти, романтизм опоэтизировал этику. Из глубин национального прошлого он поднял несметные сокро- вища сказок и песен и блестяще выступил в защиту фольклора, который в его многоцветном свете при- обретает черты своеобразной экзотики. Тот факт, что романтизм выше разума поднял эмоциональное на- чало, даже в таких крайних его проявлениях, как мистический экстаз и дионисийское безумие, ставит его в особое, психологически необычайно плодотвор- ное отношение к болезни; так, поздний романтик Ницше, в силу болезни приобщившийся к сфере ге- ниальности и смерти, чрезвычайно высоко ценил болезнь как фактор познания. В этом смысле и психо-: анализ, глубокий прорыв со стороны болезни в об- ласть знаний о человеке, также является порожде- нием романтизма. Гете принадлежит лаконичное определение клас- сицизма как здорового искусства, а романтизма — как больного. Это — горькая истина для всякого, кто любит романтизм со всеми его грехами и пороками. Ибо невозможно отрицать, что даже в самых утон- ченных, эфирных и в то же время народных и возвы- шенных проявлениях романтизма живет болезне- творное начало, как червь живет в розе, и что по глубочайшей своей сути он представляет собой иску- шение,— искушение смертью. Таков сбивающий с толку парадокс романтизма: представляя иррацио- нальные силы жизни, восстающие против абстрактного разума, против плоского интеллектуализма, сам он глубочайшим образом родствен смерти именно вслед- ствие того, что так привержен иррациональному и ушедшему в прошлое. Роковым образом сильнее всего романтизм сохранил эту радужную двойственность (с одной стороны, вознесение жизненного над 21* 323
--------------------------абстрактно-нравственным, с другой — родственность смерти) на исконной своей родине, в Германии. Как проявление немецкого духа, немецкого романтиче- ского бунта, он дал европейской мысли глубокий жи- вительный импульс; но сам он, обуянный гордыней жизни и смерти, пренебрег возможностью взять от Европы, от духа европейской веры в человека, евро- пейского демократизма какие-нибудь полезные для себя истины. Представ миру как могучая держава, ведущая реалистическую политику, как цитадель бисмаркизма, как победительница Франции и цивили- зации, как сила, создавшая, казалось бы, незыблемо здоровую и могущественную Германскую империю — романтическая Германия безусловно изумила мир, но и смутила его, внушила ему страх и, с тех пор как ею управляет не государственный гений, ее создав- ший, держит мир в состоянии постоянной тревоги. К тому же эта объединенная могущественная дер- жава принесла разочарование всем, кому были до- роги судьбы культуры. Германия, некогда стоявшая во главе духовного развития мира, уже не создавала великих ценностей. Теперь она была всего только сильной. Но под этой ее силой, под покровом ее высо- коорганизованной деловитости по-прежнему жил ро- мантический червяк болезни и смерти. Историческая беда, горести и унижения проигранной войны, — все это питало его. И опустившись до жалкого уровня черни, до уровня Гитлера, немецкий романтизм вы- родился в истерическое варварство, в безумие ра- сизма и жажду убийства, и теперь обретает свой жут- кий конец в национальной катастрофе, в небывалом физическом и психическом коллапсе. Уважаемые дамы и господа. То, что я так не- стройно и кратко рассказал вам, это история немец- кой «самоуглубленности». Это печальная история, — я намеренно избегаю слова «трагедия», потому что не к лицу горю выставлять себя напоказ. История эта должна раскрыть перед нами истинность высказан- ного положения: нет двух Германий, доброй и злой, есть одна-единственная Германия, лучшие свойства которой под влиянием дьявольской хитрости превра-
324
тились в олицетворение зла. Злая Германия — это и есть добрая, пошедшая по ложному пути, попавшая в беду, погрязшая в преступлениях и теперь стоящая перед катастрофой. Вот почему для человека, родив- шегося немцем, невозможно начисто отречься от злой Германии, отягощенной исторической виной, и заявить: «Я — добрая, благородная, справедливая Германия; смотрите, на мне белоснежное платье. А злую я отдаю вам на растерзание». В том, что я говорил вам о Германии или хотя бы бегло пытался объяснить, — во всем этом нет ничего от ученой хо- лодности, отчужденности, беспристрастности, все это живет во мне, все это я испытал на себе. Другими словами, то, что я здесь — поневоле вкратце — хотел сообщить вам, было образцом немец- кой самокритики, и, право же, ни на каком ином пути я не мог бы сохранить большую верность немец- кой традиции. Склонность к самокритике, доходив- шая нередко до самоотрицания, до самопроклина- ния,—это исконно немецкая черта, и навсегда оста- нется непонятным, как мог народ, в такой степени склонный к самопознанию, прийти к идее мирового господства… Ведь для мирового господства нужна прежде всего наивность, счастливая ограниченность и даже легкомыслие, а отнюдь не напряженная ду- шевная жизнь, характерная для немцев, у которых высокомерная кичливость и самоуничижение пре- красно уживаются друг с другом. Беспощадные истины, которые великие немцы — Гельдерлин, Гете, Ницше — бросали в лицо Германии, нельзя даже и сравнить с тем, что когда-либо говорили своим наро- дам француз, англичанин, американец. Гете, во вся- ком случае в устных беседах, доходил до того, что желал немцам диаспоры. «Немцы, — говорил он, — должны быть разбросаны, рассеяны по всему свету, как евреи, — и добавлял: — чтобы на благо осталь- ным народам раскрылось все то хорошее, что в них заложено». Хорошее, — да, оно живет в немцах, но при уна- следованной ими форме национального государства не могло реализоваться. Рассеяться по свету, чего
325
желал им Гете и к чему их после этой войны, ве- роятно, непреодолимо потянет, — рассеяться по свету для них будет невозможно: законодательство об иммиграции закроет перед ними на железный засов ворота других стран. Но разве, несмотря на всю го- речь отрезвления от несбыточных ожиданий, которое уготовала нам политика силы, не остается у нас на- дежды,, что после нынешней катастрофы неизбежно и неукоснительно будут сделаны первые, пусть еще очень робкие шаги по пути установления такого обще- ственного порядка, в котором растворится и наконец совсем исчезнет национальный индивидуализм девят- надцатого века и который предоставит гораздо боль- ше возможнгастей для развития «всего того хоро- шего», что заложено" в немецкой натуре, чем уже нежизнеспособный прежний порядок? Быть может, искоренение нацизма открыло путь, всемирной со- циальной реформе,, которая как раа Германии дает благоприятнейшие возможности для всестороннего внутреннего развития и удовлетворения своих потреб- ностей. Всемирная экономика, стирание политических границ, известная деполитизация государственной жизни вообще, осознание пробуждающимся человече- ством своего практического единства,, его первые по- пытки создать всемирное государство, — как же весь этот социальный гуманизм, выходящий далеко за пределы буржуазной демократии и являющийся пред- метом ожесточенной борьбы,, как же может он быть чужд шт враждебен немецкой натуре? В том, как она чуралась мира, было всегда столько страстного влечения к нему; в одиночестве, озлоблявшем ее, всегда жила — и кто не знал этого! — мечта любить и быть любимой. В конце концов, немецкая беда — это только образ человеческой трагедии вообще, В милосердии, которое так насущно необходимо сей- час Германий, нуждаемся мы все.
1945
Предисловие к американскому однотомнику избранных
романов и повестей Достоевского
Предложение «Дайэл пресс» написать предисловие к сборнику романов и повестей Достоевского, к шести небольшим вещам, входящим в настоящий том, сразу же показалось мне весьма привлекательным. В издательской умеренности, определившей характер этой книги, есть нечто успокоительное, нечто ободряющее для комментатора, который почувствовал бы испуг, чтобы не сказать — ужас, перед задачей — сделать всю необъятную вселенную Достоевского предметом своего изучения и рассмотрения; быть может, он вообще никогда в жизни не принес бы великому русскому писателю своей критической дани, не получи он нынешней возможности — сделать это, так сказать, в облегченной форме, на ограниченном пространстве, с определенной целью и с тем самоограничением, которое столь благодетельно данной целью предуказано.
Вот что поистине удивительно: за свою писательскую жизнь я посвятил обстоятельные исследования Толстому, а также Гете, — по нескольку статей каждому из них. Но о двух других факторах моего духовного воспитания — о Фридрихе Ницше и Федоре Достоевском, — которым я обязан не меньше, чем Гете и Толстому, которые столь же глубоко потрясли меня в молодости и чье воздействие на меня
327
не переставало расти и углубляться в зрелые годы, я не написал ничего связного. Статью о Ницше то и дело требовали от меня друзья и, казалось бы, написать ее мне совершенно необходимо, но она так и осталась неоплаченным долгом. А «глубокий, преступный и святой, лик Достоевского» (так я однажды выразился) лишь порою возникает в моих сочинениях, чтобы тотчас же вновь исчезнуть. Откуда у меня это стремление избежать, обойти молчанием подобные темы, тогда как величие тех двух мастеров, горящее вечным светом на небосводе литературы, внушило мне если и слабое, то, во всяком случае, отрадное для меня красноречие? Впрочем, оно и понятно. Мне было легко с воодушевлением и ласковой иронией воздавать должное божественным, осененным благодатью детям природы, которые были одарены возвышенным простодушием и несокрушимым здоровьем: автобиографическому аристократизму Гете, создателя своей собственной величавой культуры, и эпической медвежьей силе, титанической первозданной свежести «великого писателя русской земли» Толстого с его исполински нелепыми и всегда неудачными попытками нравственного одухотворения свойственной ему языческой силы плоти. Но я испытываю робость, глубокую мистическую робость, повелевающую мне молчать, перед религиозным величием отверженных, перед гением как болезнью и болезнью как гением, перед теми, кто отягощен проклятием и одержимостью, в чьей душе святой неотторжим от преступника…
Демоническое следует воспевать в стихах, а не рассуждать о нем — так по крайней мере мне кажется[3]. Оно должно выступать из глубин произведения, по возможности облеченное в юмористическую форму[4]; посвящать ему критические этюды представляется мне, мягко выражаясь, нескромным. Я говорю все это, быть может, и даже скорее всего, из желания оправдать свою собственную леность и трусость. Несравненно легче и проще писать о божественно-языческом здоровье, чем о святой болезни. Можно потешаться над осененными благодатью
328
детьми природы, в особенности над их простодушием, но нельзя шутить над детьми духа, над великими грешниками и страстотерпцами, над святыми безумцами. Невозможно подтрунивать над Ницше и Достоевским, как я это делал в романе — по отношению к баловню жизни и эгоисту Гете, и в одной из своих статей — по отношению к грандиозной нелепости толстовского учения. Из чего следует, что мое благоговение перед сынами ада, великими богоискателями и безумцами, в основе своей глубже, и лишь потому сдержаннее, чем перед сынами света. Поэтому-то я и доволен, что меня побудили извне к некоторым высказываниям, которые, впрочем, относятся к разряду весьма ограниченных и умеренных.
«О бледном преступнике»… — когда я перечитываю это название главы из «Заратустры», гениального произведения, созданного, как известно, под влиянием патологического вдохновения, передо мною всякий раз встает страдальческое и страшное лицо Федора Достоевского, знакомое нам по нескольким хорошим портретам[5]. Более того, его образ, я полагаю, витал и перед умственным взором самого одержимого из Сильс-Мария, которого мучили неизлечимые головные боли. Ибо сочинения Достоевского играли в его[6] жизни исключительную роль; он часто ссылается на них — и в письмах, и в книгах (между тем, насколько мне известно, Толстого он не упомянул ни единым словом); он именует Достоевского глубочайшим психологом мировой литературы и, из своеобразного смиренного воодушевления, своим «великим учителем», хотя на деле в его отношении к восточному брату по духу едва ли можно обнаружить черты ученичества. Да, скорее всего они были братьями по духу, несмотря на различие происхождения и традиций, сотоварищами по судьбе, поднявшей их над средним уровнем до трагически-гротескного, — немецкий профессор, чей люциферовский гений (стимулируемый болезнью) созрел на почве классического образования, филологической учености, идеалистической философии и музыкального романтизма, и византийский Христос, на пути которого с самого начала
329
не стояли некоторые гуманистические препятствия» обусловившие развитие первого, и который мог быть воспринят как «великий учитель» просто потому, что не был немцем (ибо самым горячим стремлением Ницше было преодолеть свое немечество), и потому, что освобождал от бюргерской морали и укреплял волю к психологическому разрыву с традицией, к преступлению границ познания[7].
Мне кажется совершенно невозможным говорить о гении Достоевского, не произнося слова «преступление»[8]. Известный русский критик Мережковский неоднократно употребляет его в разных своих работах о создателе «Карамазовых», придавая ему двойной смысл; этим словом он то характеризует самого Достоевского и «преступную пытливость его познания», то объект этого познания, человеческое сердце, чьи сокровеннейшие и преступнейшие движения Достоевский выставляет напоказ. «Читая его, — говорит Мережковский, — пугаешься порой его всезнания, этого проникновения в чужую совесть. Мы находим у него наши собственные сокровенные помыслы, в которых мы никогда бы не признались не только другу, но и самим себе». Однако объективность как бы клинического изучения чужой души и проникновения в нее у Достоевского — лишь некая видимость; на самом же деле его творчество — скорее психологическая лирика в самом широком смысле этого слова, исповедь и леденящее кровь признание, беспощадное раскрытие преступных глубин собственной совести, — таков источник огромной нравственной убедительности, страшной религиозной мощи его науки о душе. Достаточно привлечь для сопоставления Пруста и те психологические nouveautés1, сюрпризы и побрякушки, которыми изобилуют его книги, чтобы понять разницу в направленности, нравственном смысле творчества этих писателей. Психологические находки, новшества и смелые ходы француза не более чем пустяшная игра в сравнении с жуткими откровениями Достоевского, человека, который побывал в аду. Мог ли
330
Пруст написать Раскольникова, «Преступление и наказание», этот величайший уголовный роман всех времен? Знаний бы ему, пожалуй, хватило, но вот сознания, совести… Что касается Гете, который во всех своих произведениях, начиная с «Вертера» и кончая «Избирательным сродством», также показывает себя глубоким психологом, то он откровенно и прямо заявлял, что ему никогда не приходилось слышать о таком преступлении, на которое он не чувствовал бы себя способным. Это — слова человека, воспитанного в духе пиетистски-углубленного изучения своей совести; однако в них преобладает элемент эллинской душевной чистоты. Верно, что эти хладнокровные слова — вызов бюргерской добродетели, но в них больше хладнокровия и гордыни, чем христианского самоуничижения, в них больше дерзости, чем глубины — в религиозном смысле. По существу, Толстой, несмотря на все его христианские порывы, ничем не отличается от Гете. Мне нечего скрывать от людей, говорил Толстой, пусть все они знают, что я делаю. Сравните с этим признание героя «Записок из подполья», когда он говорит о своих тайных пороках. «Я уж и тогда, — заявляет он, — носил в душе моей подполье. Боялся я ужасно, чтоб меня как-нибудь не увидали, не встретили, не узнали». В его жизни, для которой невозможна была полная откровенность, которую он не мог до конца раскрыть миру, царит тайна ада.
Нет сомнений, что подсознание и даже сознание этого художника-титана было постоянно отягощено тяжким чувством вины, преступности, и чувство это отнюдь не было только ипохондрией. Оно было связано с его болезнью, «святой», мистической kat’exochen1, а именно — эпилепсией. С юных лет страдал он этим недугом; после того как в 1849 году, двадцати восьми лет от роду, он был без достаточных оснований обвинен в участии в политическом заговоре и испытал потрясение смертного приговора (он уже стоял на эшафоте и смотрел смерти в глаза, когда
331
в последнюю минуту пришло помилование, заменившее смертную казнь четырьмя годами сибирской каторги) — итак, после этого события его болезнь роковым образом усилилась; по его мнению, она должна была, исчерпав его физические и духовные силы, окончиться смертью или безумием. Припадки случались обычно раз в месяц, но бывали и чаще, иногда даже по два раза в неделю. Он много раз описывал их либо от собственного имени, либо перенося свою болезнь на те персонажи своих романов, психология которых привлекала особенно пристальное его внимание — на страшного Смердякова, на героя «Идиота» — князя Мышкина, на исступленного нигилиста Кириллова из «Бесов». По его описаниям, падучей свойственны два характерные состояния: божественное чувство восторга, внутреннего просветления, гармони, высочайшего блаженства и следующий за ним приступ конвульсий, который начинается страшным невообразимым ни на что не похожим воплем; вслед за приступом наступает состояние ужасающей депрессии, глубокого отупения, полнейшей душевной пустоты. Для природы эпилепсии эта реакция кажется мне еще характернее, чем предшествующее приступу состояние восторженности. Достоевский утверждает, что это бесконечно сильное и сладостное чувство; «не знаю, — говорил он, — длится ли это блаженство секунды или часы или месяцы, но верьте слову, все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него!» А следующее за припадком похмелье, по признанию великого эпилептика, выражалось у него в том, что он «чувствовал себя преступником», ему казалось, будто над ним тяготеет неведомая вина, тяжкое злодейство.
Не знаю, что думают о «святой болезни» невропатологи, но она, мне кажется, уходит корнями в сексуальную сферу и представляет собой проявление сексуальной динамики в виде взрыва, преобразованную, трансформированную форму полового акта, мистическое извращение[9]. Повторяю, в этом смысле даже более убедительным доказательством мне кажется наступающее после припадка состояние раская-
332
ния и опустошенности, чем предшествующие ему мгновения блаженства, ради которых можно отдать всю жизнь[10]. Нет сомнения, что как бы болезнь ни угрожала духовным силам Достоевского, его гений теснейшим образом связан с нею и ею окрашен, что его психологическое ясновидение, его знание душевного мира преступника, того, что апокалипсис называет «сатанинскими глубинами», и прежде всего его способность создать ощущение некоей таинственной вины, которая как бы является фоном существования его порою чудовищных персонажей, — что все это непосредственным образом связано с его недугом. В прошлом Свидригайлова («Преступление и наказание») есть «уголовное дело, с примесью зверского и, так сказать, фантастического душегубства, за которое он весьма и весьма мог бы прогуляться в Сибирь». Более или менее пытливому воображению предоставляется разгадать, о чем идет речь[11], — по всей видимости, о каком-нибудь преступлении на половой почве, быть может, о растлении ребенка; ибо ведь как раз это и есть тайна, или часть тайны, холодного и высокомерно-презрительного Ставрогина из «Бесов», сверхчеловека, на которого молятся, простираясь во прахе, более слабые натуры, и который, быть может, принадлежит к наиболее жутким и влекущим образам мировой литературы. Известен фрагмент из этого романа, опубликованный позднее, — «Исповедь Ставрогина», где последний рассказывает между прочим о растлении маленькой девочки. Очевидно, это гнусное преступление постоянно занимало нравственную мысль писателя. Утверждают, что однажды Достоевский в разговоре со своим знаменитым собратом по перу Тургеневым, которого он ненавидел и презирал за его западнические симпатии, признался в собственном грехе подобного рода; разумеется, это была ложь, которой он хотел испугать и смутить ясного духом, гуманного и глубоко чуждого всяким «сатанинским глубинам» Тургенева[12]. Как-то раз в Петербурге — ему было лет сорок с небольшим, и он был автором книги, над которой плакал сам царь — Достоевский в одном знакомом доме, в
333
присутствии детей, совсем юных девочек, рассказывал сцену из задуманного им еще в молодости романа, где некий помещик, богатый, почтенный и тонко образованный человек, внезапно вспоминает, как двадцать лет назад, после разгульной ночи, да к тому же подзадоренный пьяными товарищами, он изнасиловал десятилетнюю девочку.
— Федор Михайлович! — воскликнула хозяйка дома, всплеснув руками. — Помилосердствуйте, Ведь дети тут!
Да, он, наверно, был поразительным человеком для современников, этот Федор Михайлович.
Ницше страдал не падучей болезнью, хотя автора «Заратустры» и «Антихриста» нетрудно представить себе эпилептиком. Он разделял участь многих художников и, в особенности, музыкантов (ведь его в известной степени можно считать таковым): он погиб от прогрессивного паралича, болезни, сексуальное происхождение которой не подлежит никакому сомнению, — наука давно установила в ней последствие сифилиса. Если изучать духовное развитие Ницше с естественнонаучной, медицинской точки зрения (которая, впрочем, очень ограничивает перспективу), то здесь можно увидеть процесс паралитического растормаживания и перерождения различных функций, иначе говоря — процесс подъема от уровня нормальной одаренности в холодную сферу кошмарного гротеска, смертоносного познания и нравственного одиночества, к тем высотам страшного проникновения в сущность вещей, когда человек преступает дозволенные границы; нежной и доброй натуре Ницше было в высшей степени свойственно сострадание к людям, для такого «преступления» он вовсе не был создан от природы, а разве что подобно Гамлету призван обстоятельствами.
«Преступление» — я повторяю это слово, чтобы охарактеризовать психологическую родственность Достоевского и Ницше. Недаром последнего с такой силой влекло к Достоевскому, которого он называл «великим учителем». Обоим свойственна экстатичность, познание истины, рождающееся из внезапного полу-
334
безумного озарения, и к тому же религиозный, иначе говоря — сатанинский, морализм, который у Ницше назывался антиморализмом. Правда, Фридриху Ницше было неведомо мистическое сознание вины, которое, как мы видели выше, было свойственно великому эпилептику. Однако то, что его собственное мироощущение помогало ему понять психологию преступника, видно по одному из его афоризмов, — в настоящий момент я затрудняюсь его отыскать, но отчетливо помню его смысл. Ницше утверждает, что всякий духовный отход и отчуждение от бюргерски общепризнанного, всякая самостоятельность мысли и отрицание традиций родственно мироощущению преступника и позволяет проникнуть в его духовный мир[13]. С моей точки зрения, можно пойти дальше и сказать, что это относится вообще ко всякой творческой оригинальности, ко всякому художественному творчеству во всеобъемлющем смысле этого слова[14]. Французский художник и скульптор Дега сказал однажды, что художник должен приниматься за свое произведение с тем же чувством, с каким преступник совершает злодеяние.
«Художника рождают исключительные обстоятельства, — говорил сам Ницше, — они глубоко родственны болезненным явлениям и связаны с ними; так что, видимо, невозможно быть художником и не быть больным»[15]. Немецкий мыслитель, вероятно, не знал характера своей болезни, но отлично знал, чем он ей обязан, и всюду — как в письмах, так и в сочинениях — превозносил значение болезни для познания. Паралич — вероятно, сопутствующая ему гиперемия пораженных долей мозга — вызывает в больном волны пьянящего чувства блаженства и силы, субъективное ощущение подъема жизненных сил и реальный, хотя и, говоря медицинским языком, патологический подъем творческих способностей. Прежде чем низвергнуть свою жертву в ночь безумия и убить ее, он дает ей обманчивое — обманчивое с точки зрения здоровья и нормы — ощущение мощи и небывалой легкости прозрения, блаженной вдохновенности, которая наполняет человека благоговейным трепетом
335
перед самим собой, сообщает ему уверенность в том, что такое чудо бывает лишь раз в тысячелетие, и тогда он ощущает себя рупором божества, сосудом благодати, чуть ли не богом. Описания таких приступов блаженства и высочайшей вдохновенности, после которых наступает полоса душевной пустоты и творческого бессилия, мы находим в письмах Гуго Вольфа. Но самое замечательное изображение паралитической озаренности, блестящий образец стилистического совершенства, содержится в книге Ницше «Ессе homo», в третьем разделе главы о Заратустре[16]. «Есть ли у кого-нибудь сейчас, в конце девятнадцатого века, — спрашивает он, — ясное представление о том, что поэты более мощных столетий называли вдохновением? Если нет, я вам разъясню». Мы видим, что он воспринимает свое переживание как некий атавизм, как некую демоническую одержимость, — это, по его мнению, характерно для иных, более «могучих», более близких к богу эпох человечества и не соответствует физическим возможностям нашего слабого рассудочного века. При этом он «правдиво» описывает (но что такое в данном случае «правда» — личное переживание или свидетельство медицины?) гибельное состояние восторженности, которое издевательским образом предшествует паралитическому коллапсу.
Вероятно, его теория «вечного круговорота», которой он придавал столь всеобъемлющее значение, порождена эйфорией, едва ли на нее распространялся постоянный интеллектуальный контроль, да и к тому же она, видимо, не плод его собственного творчества, а некая литературная реминисценция. Мережковский указывал, что идея «сверхчеловека» уже встречается у Достоевского, в речах упомянутого выше эпилептика Кириллова из «Бесов». «Тогда новая жизнь, тогда новый человек, — говорит у Достоевского этот провидец-нигилист, — все новое… Тогда историю будут делить на две части: от гориллы до уничтожения бога, и от уничтожения бога до перемены земли и человека физически», то есть до появления человекобога, сверхчеловека. Однако, как мне кажется, здесь оста-
336
лось неотмеченным то, что у Достоевского встречается и идея вечного круговорота, а именно в «Карамазовых», в разговоре Ивана с чертом. «Да ведь ты думаешь все про нашу теперешнюю землю! Да ведь теперешняя земля, может, сама-то биллион раз повторялась1; ну, отживала, леденела, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала, опять вода, яже бе над твердию, потом опять комета, опять солнце, опять из солнца земля — ведь это развитие, может, уже бесконечно раз повторяется, и все в одном и том же виде, до черточки2[17]. Скучища неприличнейшая…» Достоевский — устами черта — называет «скучищей неприличнейшей» то, что Ницше утверждает дионисийским благословением, восклицая: «Ибо люблю тебя, о вечность». Но мысль у него — та же, и если в случае со сверхчеловеком я предполагаю конгениальность братьев по духу, то «вечный круговорот» я склонен рассматривать как результат чтения, как неосознанное, эйфорически окрашенное воспоминание о Достоевском.
Впрочем, здесь я, возможно, допускаю ошибку в хронологии, — предоставляю историкам литературы изучить этот факт. Для меня существен, во-первых, известный параллелизм мысли обоих великих больных, и, во-вторых, феномен болезни как величия или величия как болезни; ведь болезнь можно рассматривать с двух различных точек зрения — и как упадок жизненных сил, и как их подъем. Перед болезнью как величием, величием как болезнью узкомедицинская точка зрения оказывается мещански ограниченной и несостоятельной, по меньшей мере односторонне-натуралистической; у этого вопроса есть духовный и культурный аспект, который связан с самой жизнью и ее интенсификацией, с ее ростом, а здесь профессиональный биолог и медик мало что понимают. Мы со всей решительностью заявляем: зреет или, быть может, обретает второе рождение гуманистическая концепция, согласно которой понятие жизни и здоровья должно быть отобрано у естественных наук и рас-
337
смотрено с большей свободой, с большим благоговением и, во всяком случае, с большей истинностью, чем это делает биология, претендующая на некую монополию в данной области. Ибо человек — существо не только биологическое.
Болезнь!.. Да ведь дело прежде, всего в том, кто болен, кто безумен, кто поражен эпилепсией или разбит параличом — средний дурак, у которого болезнь лишена духовного и культурного аспекта, или человек масштаба Ницше, Достоевского. Во всех случаях болезнь влечет за собой нечто такое, что важнее и плодотворнее для жизни и ее развития, чем засвидетельствованная врачами нормальность. Известно, что без болезни жизнь вовеки не обходилась, и, я полагаю, нет более глупого изречения, чем: «Больное может породить лишь больное». Жизнь не жеманная барышня, и, пожалуй, можно сказать, что творческая, стимулирующая гениальность болезнь, которая преодолевает препятствия, как отважный всадник, бесстрашно скачущий с утеса на утес, — такая болезнь бесконечно дороже для жизни, чем здоровье, которое лениво тащится по прямой дороге, как усталый пешеход. Жизнь — не разборчивая невеста, и ей глубоко чуждо какое-либо нравственное различие между здоровьем и болезнью. Она овладевает плодом болезни, поглощает его, переваривает, и, едва она усвоит этот плод, как раз он-то и становится здоровьем. Целая орда, целое поколение восприимчивых и несокрушимо здоровых юнцов набрасывается на создание больного гения, того, чья болезнь переросла в гениальность, восхищается им, восхваляет его, уносит с собой, делает достоянием культуры, которая жива не единым домашним хлебом здоровья. И все они будут клясться именем великого безумца, они, которые теперь благодаря его безумию уже избавлены от необходимости быть безумными. Они, цветущие здоровьем, будут питаться его безумием, и в них он будет здоровым. Другими словами: иные взлеты души и познания невозможны без болезни, безумия, духовного «преступления», и великие безумцы суть жертвы человечества, распятые во имя его возвышения, роста его
338
чувств и познаний, короче говоря — во имя высшего его здоровья. Отсюда тот ореол святости, столь явно озаряющий жизнь этих людей и столь глубоко определяющий их собственное самосознание. Однако здесь же источник и свойственной самим жертвам уверенности в своей силе, предчувствия победы, чувства необычайной интенсивности жизни, возрастающего благодаря всякому страданию, чувства торжества, которое можно считать иллюзией лишь с плоско-медицинской точки зрения; это единство болезни и силы противоречит общепринятому представлению о единстве болезни и слабости, и его парадоксальность способствует тому, что мы взираем на жизнь этих людей с религиозным трепетом. Они заставляют нас пересмотреть наши представления о «болезни» и «здоровье», о соотношении болезни и жизни; они учат нас необходимости осторожно подходить к понятию[18] «болезнь», в которой мы всегда готовы видеть биологически отрицательную величину. Именно об этом говорится в одной из посмертно опубликованных записей Ницше для «Воли к власти». «Здоровье и болезненность, — говорит он, — будем осторожны. Масштабом остается расцвет тела, полет духа, его мужественность и веселье, — но, разумеется, и то, какую меру болезненного он может взять на себя и преодолеть (подчеркнуто Ницше). Болезнь, которая погубила бы более деликатных людей, является лишь стимулирующим средством для великого здоровья».
И Ницше ощущал в себе то великое здоровье, для которого болезнь является стимулом. Но если в его случае соотношение болезни и силы складывается так, что высшее ощущение силы, равно как и творческое выражение этой силы, оказывается плодом болезни (такова ведь сущность паралича), то, изучая эпилептика Достоевского, мы почти вынуждены видеть в болезни плод избыточной силы, некий взрыв, крайнюю форму титанического здоровья и убедиться в том, что наивысшая жизненность может иметь черты бледной немочи.
Ничто так не спутывает наши биологические представления как жизнь этого человека: он — клубок
339
нервов, его бьет дрожь и каждый миг охватывают судороги, он так чувствителен, словно с него сняли кожу и самое прикосновение воздуха причиняет ему боль (ссылаюсь на «Записки из подполья»). Тем не менее он дожил до шестидесяти лет (1821—1881) и за четыре десятилетия литературного труда создал поэтический мир невиданной новизны и смелости, населенный бесчисленными персонажами, мир, в котором бушуют грандиозные страсти и который не только велик «преступными» порывами мысли и сердца, раздвигающими границы наших знаний о человеке, но и клокочет вызывающим озорством, фантастическим комизмом и «веселостью духа». Ибо, помимо прочего, этот распятый страстотерпец был и удивительным юмористом.
Если бы Достоевский ничего не написал кроме предлагаемых здесь читателю шести произведений, то и тогда имя его, без сомнения, заняло бы значительное место в истории мировой повествовательной прозы. Но они едва составляют десятую часть того, что он создал, а его друзья, знавшие сокровенную историю его творений, уверяют нас, что Федор Михайлович не написал и десятой части тех романов, которые он носил в себе, так сказать, завершенными и о которых рассказывал подробно и воодушевленно. На разработку этих бесчисленных набросков у него просто не хватило времени. А нас еще хотят уверить, будто болезнь — это угасание жизненных сил.
Эпические памятники, возведенные Достоевским, — «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы» (впрочем, это не эпические произведения, а грандиозные драмы, построенные по законам сцены[19], — драмы, в которых действие, раскрывающее самые темные глубины человеческой души и нередко развертывающееся в течение всего лишь нескольких дней, развивается в сверхреалистических и лихорадочных диалогах) — эти произведения созданы им не только под бичом болезни, но и в безжалостных тисках долгов и унизительной нужды в деньгах, вынуждавших его писать с противоестественной быстротой; однажды, спеша окончить работу к определен-
340
ному сроку, он за двое суток написал три с половиной печатных листа, то есть пятьдесят шесть страниц. Он бежал от своих кредиторов за границу, в Баден и Висбаден, где пытался найти спасение от нищеты в игре — и нередко она довершала его разорение. Потом он писал слезные прошения, в которых сам усваивал жалкий слог какого-нибудь Мармеладова, одного из самых блестящих созданий его художественного воображения. Страсть к азартным играм — его вторая болезнь, связанная, быть может, с первой; он поистине одержим ею. Мы обязаны ей изумительным романом «Игрок», действие которого развертывается на немецком курорте с неправдоподобным и безвкусным названием Рулетенбург, — здесь он с невиданной доселе правдивостью раскрывает психологию страсти, одержимость бесом, имя которому — случай.
Этот шедевр создан в 1867 году, то есть между «Преступлением и наказанием», завершенным в 1866 году, и «Идиотом», написанным в 1868—1869 годах, и при всем своем совершенстве был для автора всего лишь отдыхом[20]. Это самое позднее из публикуемых нами произведений, ибо остальные относятся к периоду 1846—1864 годов. Самая ранняя вещь — «Двойник», патологический гротеск, появившийся в том же году, когда вышел первый роман Достоевского «Бедные люди» (1846). После глубокого впечатления, произведенного историей Макара Девушкина, «Двойник» вызвал в России разочарование — и не вовсе безосновательно, ибо, хотя в этой повести и есть гениальные места, Достоевский все же заблуждался, полагая, что поднялся здесь выше Гоголя, безусловно оказавшего большое влияние на автора «Двойника». Он не превзошел и «Вильяма Вильсона» Эдгара По, ибо последний придал исконно романтическому сюжету бо́льшую нравственную глубину и сумел полнее преобразовать патологию в поэзию.
В наше издание вошли вещи, созданные Достоевским во время творческого «роздыха» или подготовки к большим произведениям, но что это за вещи! К пе-
341
риоду, предшествующему суду и ссылке в Омск, относится опубликованный в 1848 году рассказ «Вечный муж», в котором выведен вызывающий щемящую жалость шут, прирожденный рогоносец, чья озлобленность и душевные страдания являются источником самых фантастических переживаний. Затем наступает перерыв — страшные годы каторги, которые позднее, в Петербурге, нашли воплощение в книге «Записки из Мертвого дома» (1861), потрясшие до слез всю Россию и даже самого царя. Но настоящее возрождение литературной деятельности Достоевского относится к 1859 году, когда он, еще находясь в Сибири, написал повесть «Село Степанчиково и его обитатели», ставшую знаменитой благодаря несравненному образу деспота и лицемера Фомы Опискина, комического персонажа, стоящего в одном ряду с созданиями Шекспира и Мольера. Следует, пожалуй, сказать, что «Дядюшкин сон», непосредственно следующий за этой великолепной повестью, является шагом назад. Он кажется мне слишком растянутой шуткой, внушительные размеры которой не соответствуют незначительности содержания, а заключительная часть — история чахоточного молодого учителя — полна невыносимой сентиментальности, идущей от Диккенса, так сильно влиявшего на раннего Достоевского[21]. Бесспорной удачей «Дядюшкина сна» является образ красавицы Зинаиды Афанасьевны, гордой русской девушки, к которой автор питает явную и весьма заразительную любовь, — тот самый автор, чье христианское участие обычно в большей степени отдано человеческому горю, греху, пороку, безднам сладострастия и преступления, чем благородству тела и души.
Свидетельством этого участия и страшного жизненного опыта, внушающим ужас и благоговение, являются «Записки из подполья», созданные в 1864 году. Эта вещь, занимающая центральное место в нашем сборнике, наиболее близка по содержанию большим, типичным для Достоевского произведениям; общепризнано, что «Записки» знаменуют переломный момент в творчестве писателя, прорыв к познанию самого себя. Давно уже стали достоянием нравственной
342
культуры человечества страдание и издевка, содержащиеся в этом романе, его беспредельная откровенность, беспощадно преступающая все нормы, установленные для романа и вообще для литературы, и нам трудно представить себе, какую мрачную сенсацию, какой бурный протест «идеалистического» эстетства и какое страстное восхищение фанатических ревнителей истины вызвала при своем появлении эта книга. Я говорил о беспощадности, — Достоевский, или говорящий от первого лица герой, вернее негерой, антигерой «Записок» обеспечивает себе право на эту беспощадность, прибегая к условному приему, будто он пишет вообще не для публики, не для печати, вообще не для читателя, но исключительно для себя самого и совершенно тайно. Вот ход его мысли: «Есть в воспоминаниях всякого человека такие вещи, которые он открывает не всем, а разве только друзьям. Есть и такие, которые он и друзьям не откроет, а разве только себе самому, да и то под секретом. Но есть, наконец, и такие, которые даже и себе человек открывать боится, и таких вещей у всякого порядочного человека довольно-таки накопится. То есть даже так: чем более он порядочный человек, тем более у него их и есть. По крайней мере я сам только недавно решился припомнить иные мои прежние приключения, а до сих пор всегда обходил их, даже с каким-то беспокойством…»
Бесконечно компрометирующие героя записи этих его «прежних приключений» и составляют содержание «романа», в котором небывалым доселе образом отталкивающее переплетается с привлекательным. Автор, или тот, кого Достоевский выставляет автором, как бы ставит опыт. Он хочет выяснить, «можно ли хоть с самим собой совершенно быть откровенным и не побояться всей правды?» Он вспоминает Гейне, утверждавшего, что верные автобиографии почти невозможны, и человек сам о себе наверно налжет, как Руссо, который из чистого тщеславия сам на себя налгал. Автор согласен с этим; но различие между Руссо и им самим, говорит он, заключается в том, что Руссо исповедовался перед публи-
343
кой, он же пишет для одного себя и раз навсегда объявляет, что если он и пишет как бы обращаясь к читателю, то единственно только для показа, потому что так ему легче писать. «Тут форма, одна пустая форма».
Но ведь это неправда — Достоевский писал для общества, для печати и для возможно большего круга читателей, хотя бы уже потому, что ему крайне необходимо было получить за свою работу деньги. Искусственная и почти шутливая предпосылка полной уединенности автора, якобы далекого от всяких литературных помыслов, полезна как оправдание всеобъемлющего цинизма душевного самораскрытия. А вымысел внутри вымысла, эта якобы «фиктивная» апелляция к читателю, постоянное обращение к каким-то «господам», с которыми спорит рассказчик,— все это тоже очень полезно, ибо вносит в повествование элемент полемики, диалектики, драматичности, — то, чем Достоевский отлично владеет и что придает занимательность — в высшем смысле этого понятия — самому серьезному, злобному, потайному.
Признаюсь, первая часть «Записок из подполья» мне еще больше по душе, чем вторая, — потрясающая и постыдная история с проституткой Лизой. Верно, что первая часть, — не действие, а рассуждения, и в частности рассуждения, весьма напоминающие болтливый надрыв некоторых религиозных[22] персонажей из больших романов Достоевского. Верно и то, что эти рассуждения в высшей степени сомнительны и могут иметь опаснейшие последствия, сбивая с толку простосердечных людей, ибо они основаны на скептическом отношении ко всякой вере и в неистовом вероотступничестве направлены против цивилизации и демократии, против апостолов человечества и поборников социальной справедливости; ведь последние полагают, будто человек стремится к счастью и выгоде, тогда как он по крайней мере столь же сильно жаждет муки, этого единственного источника познания[23], отнюдь не мечтает о хрустальном дворце, муравейнике социального совершенства, и никогда не откажется от разрушения и хаоса. Все это отдает
344
реакционным злобствованием, все это может отпугнуть людей доброй воли, которые в наши дни видят смысл развития в преодолении пропасти, разверзшейся между духовным идеалом, воплощающим надежды человечества, и действительностью, безнадежно отсталой в общественном и экономическом отношении. Что и говорить, смысл развития именно в этом и состоит, и все же еретические рассуждения Достоевского истинны: это темная сторона жизни, на которую не падают лучи солнца, это истина, которой не смеет пренебрегать никто, кому дорога истина вообще, вся истина, истина о человеке. Мучительные парадоксы, которые «герой» Достоевского бросает в лицо своим противникам-позитивистам, кажутся человеконенавистничеством, и все же они высказаны во имя человечества и из любви к нему: во имя нового гуманизма, углубленного и лишенного риторики, прошедшего через все адские бездны мук и познания.
Как предлагаемое читателю издание Достоевского относится ко всей совокупности его творений и как написанные им произведения относятся к тому, что он мог бы и хотел написать, не будь он ограничен пределами человеческой жизни, — так и то, что я сказал здесь о русском титане, относится к тому, что можно о нем сказать. Достоевский — но в меру, Достоевский — с мудрым ограничением: таков был девиз. Когда я рассказал одному из друзей о моем намерении написать предисловие к этому сборнику, он сказал с улыбкой:
— Берегитесь. Вы напишете о нем книгу.
Я уберегся.
1946
ФИЛОСОФИЯ НИЦШЕ[24] В СВЕТЕ НАШЕГО ОПЫТА
Когда в январе 1889 года из Турина и Базеля пришла весть о сразившем Ницше душевном недуге, многие из тех еще одиноких его почитателей в разных концах Европы, кто уже начинал сознавать роковое величие судьбы этого человека, вероятно, повторяли про себя горестный возглас Офелии:
О, что за гордый разум сокрушен![25]
И дальше, там, где в монологе оплакивается страшное несчастье и звучит скорбь об этом могучем разуме, который ныне растерзан бредом и скрежещет, подобно треснувшим колоколам (blasted by ecstasy)[26], есть слова, настолько точно характеризующие Ницше, что, кажется, они сказаны именно о нем, — мы в особенности имеем в виду то место, где скорбная Офелия, стремясь выразить всю безмерность своего преклонения перед Гамлетом, называет его «примером примерных», «The observed of all observers», что в переводе Шлегеля звучит: «Das Merkziel der Betrachter»[27]. Мы, желая выразить ту же мысль, наверное, сказали бы «неодолимо притягательный»; и действительно, вряд ли найдется во всей мировой литературе, да и во всей долгой истории развития человеческого духа, имя, которое обладало бы большей притягательной силой, чем имя отшель-
346
ника из Сильс-
Ницше, писатель и философ, «учености пример», как назвала бы его Офелия[28], был явлением, не только поразительно полно и сложно сконцентрировавшим в себе и подытожившим все особенности европейского духа и европейской культуры, но и впитавшим в себя прошлое, чтобы затем, более или менее сознательно подражая ему и опираясь на него, возвратить его, повторить и осовременить в своем мифотворчестве; и я совершенно уверен, что этот великий лицедей и мастер перевоплощения, играя свою жизненную трагедию, — я чуть было не добавил: им самим инсценированную, — прекрасно сознавал в себе гамлетовские черты. Что касается меня, представителя младшего поколения, читателя, который с жадным волнением поглощал его книги и для которого он был «примером примерных», то я очень рано ощутил родственную близость этих двух характеров, и помню, что чувство, которое я тогда испытал, поразило меня, как и всякую юную душу, своей странной тревожной новизною и разверзло передо мною глубины, о которых я и не подозревал, — то было смешанное чувство преклонения и жалости. И я уже никогда более не мог от него отрешиться. То было чувство трагического сострадания к душе, пытавшейся одолеть непосильную для нее задачу и, подобно Гамлету, сломленной непомерным бременем знания, которое было открыто ей, но для которого она в действительности не была рождена; то было чувство сострадания к душе восприимчивой, нежной и доброй, испытывавшей горячую потребность в любви и благородной дружбе и совершенно не созданной для одиночества, более того, совершенно неспособной даже понять то бесконечное холодное одиночество, в котором замыкаются души преступников; то было сострадание к внутреннему миру человека, первоначально исполненного глубочайшего пиетета к существующему миропорядку, искренне привязанного к благочестивым
347
традициям старины, а затем настигнутого судьбою и насильно ввергнутого ею в опьяняющее безумие пророческого служения, безумие, которое заставило его отринуть всякий пиетет, попрать свою собственную природу и стать певцом буйной варварской силы, очерствения совести и зла.
Если мы хотим понять, почему таким до неправдоподобия причудливым, зигзагообразным был его жизненный путь, если хотим понять, откуда эти неожиданные повороты, эти постоянные метания, нам надо будет проследить, как формировался духовный облик Ницше и что воздействовало на становление его индивидуальности, хотя сам он, быть может, не осознавал ни этих воздействий, ни того, насколько они были чужды его натуре.
Он родился в одном из провинциальных уголков Средней Германии в 1844 году, за четыре года до того как немцы сделали попытку совершить буржуазную революцию. Его отец и мать происходили из почтенных пасторских семейств. По странной иронии судьбы перу его деда принадлежит трактат: «О вечности и нерушимости христианской веры. Против сеятелей смуты». Отец его служил при прусском дворе; воспитатель прусских принцесс, он был чем-то вроде придворного и получил свое пасторское назначение благодаря милости Фридриха-Вильгельма IV. Атмосфера, окружавшая мальчика в родительском доме, была та же, в какой некогда воспитывались и его родители: та же приверженность ко всему аристократическому, та же строгость нравов, то же высоко развитое чувство чести, та же педантическая любовь к порядку. После ранней смерти отца мальчик живет и учится в чиновничьем Наумбурге, городке богобоязненном и монархическом. Биографы говорят о «примерном благонравии» Фридриха, они изображают его настоящим пай-мальчиком, на редкость благовоспитанным и серьезным, исполненным самого горячего благочестия, которое снискало ему прозвище «маленького пастора». Известен характерный анекдот о том, как однажды застигнутый проливным дождем Фридрих, не теряя достоинства, раз-
348
меренным шагом продолжал свой путь из школы домой, — он не желал отступать от школьных правил, требовавших от учеников пристойного поведения на улице.
Ницше блестяще завершает свой гимназический курс в прославленной монастырской школе города Шульпфорты[29]. Он хочет посвятить себя богословию или музыке, однако в конце концов избирает классическую филологию и отправляется в Лейпциг, где изучает ее под руководством строгого методиста профессора Ричля. Успехи его оказываются столь значительными, что сразу же после военной службы, которую он проходит артиллеристом, ему, почти еще мальчику, поручают профессорскую кафедру и не где-нибудь, а в строгом, благочестивом патрицианском Базеле.
Создается впечатление, что перед нами образец человеческой интеллектуальной нормы, облагороженной высокой одаренностью; натура, которая достойно вступает на избранный путь и собирается пройти его с честью. Но это лишь отправная точка. Какие начнутся скоро яростные метания по бездорожью неизведанного; какой дерзкий, с риском «зарваться» штурм роковых высот! Слово «зарваться», употребляемое ныне для выражения понятий морального и духовного порядка, заимствовано из языка альпинистов, где оно обозначает такую ситуацию, когда уже невозможны ни восхождение, ни спуск, и альпиниста ожидает неминуемая гибель. Казалось бы, только филистер способен применить подобное слово по отношению к человеку, который не только был крупнейшим философом минувшего XIX века, но и бесспорно самым бесстрашным из всех паладинов мысли. И тем не менее Якоб Буркхардт, которого Ницше чтил, как чтят родного отца, и который отнюдь не был филистером, очень рано подметил в своем молодом друге эту странную склонность, я бы даже сказал, это настойчивое стремление мысли пускаться в опасные блуждания по высотам, где так легко сбиться с пути и «зарваться», — что и побудило Буркхардта благоразумно отдалиться от Ницше и с достаточной долей
349
равнодушия — гетевский способ самозащиты! — наблюдать за его окончательным падением…
Какая же сила гнала этого человека в непроходимые дебри неведомого и, обессилевшего, истерзанного, вновь и вновь поднимала его, точно истязующий бич, понуждая пробиваться вперед, пока наконец не убила, распяв на мученическом кресте мысли? Эта сила — его судьба; а его судьбою был его гений. Однако гений Ницше имеет еще и другое название: болезнь, и болезнь не в том расплывчатом и обобщенном понимании, в котором она легко ассоциируется с представлением о гениальности, но в своем сугубо медицинском, клиническом значении, причем настолько специальном, что мы опасаемся быть заподозренными в филистерстве и услышать упреки в злопыхательских попытках дискредитировать творчество писателя, философа и психолога, под чьим воздействием сформировалась духовная жизнь целой эпохи. Но пусть меня поймут правильно. Уже неоднократно высказывалась мысль[30] — и я хочу напомнить о ней, — что болезнь сама по себе есть нечто чисто формальное, и важна не эта внешняя форма, а то, с каким содержанием она связывается, что ее наполняет, важно, кто болен. Если больной — какая-нибудь серая посредственность, то его болезнь никогда не станет для нас фактом духовной и художественной значимости. Другое дело, если это Ницше или Достоевский. Медико-патологический фактор — всего лишь одна сторона истины, ее, если можно так выразиться, натуралистическая сторона; однако тот, кому дорога вся истина и кто желает относиться к ней с уважением, не станет из морального чистоплюйства отмахиваться от фактов, могущих представить истину в новом свете. В свое время доктор Мебиус подвергся ожесточенным нападкам за то, что написал книгу, в которой с профессиональным знанием дела изобразил всю духовную эволюцию Ницше как историю болезни прогрессивного паралитика. У меня эта книга никогда не вызывала возмущения. Доктор Мебиус рассказал в ней неопровержимую правду, свою правду врача.
350
В 1865 году Ницше — ему шел тогда двадцать второй год — рассказывает своему университетскому товарищу Паулю Дейссену, будущему известному санскритологу и исследователю Вед, о забавном приключении, которое ему довелось пережить во время своей недавней поездки в Кельн. Желая познакомиться с городом и его достопримечательностями, Ницше воспользовался услугами гида и весь день посвятил экскурсии, а вечером попросил своего спутника свести его в какой-нибудь ресторан поприличнее. Однако провожатый — в нем чудится мне зловещая фигура посланца судьбы — ведет его в публичный дом[31]. И вот этот юноша, олицетворение мысли и духа, учености, благочестия и скромности, этот мальчик, невинный и чистый, точно юная девушка, вдруг видит, как его со всех сторон обступает с полдюжины странных созданий в легких нарядах из блесток и газа, он видит глаза, устремленные на него с жадным ожиданием. Но он заставляет их расступиться, этот юный музыкант, филолог и почитатель Шопенгауэра: в глубине бесовского вертепа он заметил рояль, «единственную, — по его словам, — живую душу во всем зале»; инстинктивно он идет к нему и ударяет по клавишам. Чары тотчас рассеиваются; оцепенение исчезает; воля к нему возвращается, и он спешит спастись бегством.
Разумеется, назавтра он со смехом расскажет об этой истории своему приятелю. Ницше и не догадывается о том, какое впечатление она произвела на него самого. Между тем впечатление это настолько сильно, что психологи назвали бы его не иначе, как «психической травмой»; и по тому, как глубоко был Ницше потрясен пережитым, по тому, как завладело оно его фантазией, по тому, как все более явственно и громко звучали впоследствии его отголоски, мы можем судить, насколько соблазнителен был грех для нашего святого. В четвертой части «Заратустры», книги, созданной двадцать лет спустя, в главе «Среди дочерей пустыни», мы находим написанное в стиле ориенталий стихотворение, которое своей гримасничающей шутливостью и мучительной безвкусицей
351
выдает нам все терзания уже неподвластной разуму и воле, самой ненасытной чувственности. В этом стихотворении, своеобразной эротической грезе наяву, где Ницше с вымученным юмором рассказывает о «любимейших подругах, девах-кошках, Дуду и Зюлейке», перед нами снова мелькают усыпанные блестками юбчонки кельнских профессионалок. Он все еще не может их забыть. Очевидно, именно они, те давние «создания в легких нарядах из блесток и газа», и послужили оригиналом, с которого были написаны сладострастные «дочери пустыни»; а от них уже совсем недалеко, всего только четыре года, до базельской клиники, где со слов больного в историю болезни запишут, что в молодости он дважды заражался венерическими болезнями. Из истории болезни, составленной в Иенской клинике, мы узнаем, что в первый раз это произошло в 1866 году. Таким образом, через год после своего кельнского бегства, он, на этот раз уже без сатаны-совратителя, сам разыскивает подобное же заведение и заражается (по мнению некоторых — намеренно, чтобы наказать себя за грех) болезнью, которой суждено было изломать его жизнь и в то же время вознести ее на несказанную высоту. Да, именно так, потому что именно его болезнь стала источником тех возбуждающих импульсов, которые порой столь благотворно, а порой столь пагубно действовали на целую эпоху.
Несколько лет спустя университетская кафедра в Базеле ему опостылела: он угнетен своим постоянным все усиливающимся нездоровьем и вместе с тем тоскует по свободе, что в сущности одно и то же. Поклонник Вагнера и Шопенгауэра, он рано провозгласил своими учителями жизни искусство и философию, отдав им предпочтение перед историей. Теперь он отворачивается и от того раздела истории, который был его специальностью — от филологии. Он выходит на пенсию по состоянию здоровья, покидает Базель и, не связывая себя более никакой службой, подолгу живет в скромных пансионах на международных курортах Италии, Южной Франции, Швейцарских Альп. Здесь он пишет свои книги, блестящие
352
по стилю, сверкающие дерзкими выпадами против современности, психологически все более смелые, подобные все более ярким, все более ослепительным вспышкам света. В письмах он называет себя «человеком, который ничего так не желает, как иметь возможность ежедневно утрачивать хотя бы по одной успокоительной иллюзии, и который ищет и находит все свое счастье в постепенном, с каждым днем все более полном, духовном освобождении. Возможно даже, что я больше хочу быть человеком духовно свободным, чем могу быть им». Это признание сделано очень рано, уже[32] в 1876 году; оно как бы предвосхищает его будущую судьбу, его будущее крушение — это предчувствие человека, от которого познание потребует большего, чем он сможет выдержать, и который потрясет весь мир зрелищем собственного самораспятия.
Вслед за великим художником Ницше мог бы сказать о своих творениях: «In doloribus pinxi», и это верно определило бы как его духовное, так и его физическое состояние. В 1880 году он признается своему врачу доктору Эйзеру: «Существование стало для меня мучительным бременем, и я давно покончил бы с ним, если бы терзающий меня недуг и необходимость ограничивать себя решительно во всем не давали мне материала для самых поучительных экспериментов и наблюдений над сферою нашего духа и нравственности… Постоянные изнурительные страдания; многочасовые приступы дурноты, какие бывают при морской болезни; общая расслабленность, чуть ли не паралич, когда я чувствую, что язык у меня отнимается, и в довершение всего жесточайшие припадки, сопровождаемые неудержимой рвотой (в последний раз она продолжалась трое суток, без минуты облегчения. Я думал, что не выдержу этого. Я хотел умереть)… Как рассказать вам об этой всечасной муке, об этой непрекращающейся головной боли, о тяжести, которая давит мне на мозг и на глаза, о том, как все тело мое немеет от головы до кончиков пальцев на ногах!»[33] Неведение, проявляемое им и, что еще удивительнее, его врачами, относи-
353
тельно природы его страданий, кажется почти необъяснимым. Постепенно он все же начинает понимать, что его болезнь мозгового происхождения, и приписывает ее наследственной предрасположенности: по словам Ницше, отец его умер от «размягчения мозга», что, однако, нимало[34] не соответствует истине: пастор Ницше погиб в результате несчастного случая: от сотрясения мозга, полученного им при падении. Объяснить подобное непонимание причин собственной болезни, а может быть, и сознательную диссимуляцию понимания можно, с одной стороны, тем, что гений у Ницше был неотделим от болезни, тесно с нею переплелся, и они развивались вместе — его гений и его болезнь, — а с другой стороны, еще и тем, что для гениального психолога объектом самого беспощадного исследования может стать все что угодно — только не собственный гений.
Наоборот, собственная гениальность становится для Ницше
предметом восхищенного удивления, доводит до гипертрофии его чувство
собственного достоинства, развивает в нем бесстыдную, до кощунства доходящую
самовлюбленность. Более того, в своей беспредельной наивности Ницше упоенно
восславляет то состояние эйфорического возбуждения, ту предельную обостренность
чувств, которые в действительности являются лишь симптомами болезни, ее
обманчиво блаженной оборотной стороной. Великолепно описана им эта болезненная
экзальтация в одной из его последних книг, в «Ессе h
354
ние о том, что́ поэты более мощных столетий называли вдохновением? Если нет, я вам разъясню»[37]. И он необычайно ярко рисует нам экстатическое парение духа, упоительные восторги и озарения, осенявшие древних поэтов, наития, переполнявшие их божественным ощущением силы и могущества, — чувства, которые он, однако, воспринимает как нечто атавистическое, демонически-первобытное, присущее иным, «более сильным», более близким божеству эпохам человеческого развития, как нечто психически лежащее за пределами, «выпадающее» из возможностей нашей расслабленной рационалистической современности. А между тем «в действительности» — впрочем, что более «действительно», переживание, или порождающая его болезнь? — в действительности Ницше описывает лишь то роковое состояние перевозбуждения, которое, точно злая насмешка, предшествует при прогрессивном параличе завершающему взрыву безумия.
Когда Ницше называет Заратустру творением, рядом с которым все созданное людьми выглядит убогим и преходящим, когда он заявляет, что ни Гете, ни Шекспир, ни Данте не могли бы и мгновения удержаться на головокружительных высотах его книги и что у всех исполинов духа вместе взятых не достало бы мудрости и доблести даже на одну из речей Заратустры, мы понимаем, что перед нами — проявление мании величия, один из эксцессов порвавшего с разумным началом самосознания. Говорить о себе подобные вещи доставляет, должно быть, немалое удовольствие, однако же я считаю это непозволительным[38]. Возможно также, что я только распишусь в собственной ограниченности, когда добавлю к сказанному, что и вообще отношение Ницше к своей книге о Заратустре представляется мне результатом самой слепой переоценки. Эта книга была им написана «под библию», что и сделало ее наиболее популярным из его произведений; однако она далеко не самая лучшая его книга. Ницше был прежде всего крупнейшим критиком и культурфилософом, первоклассным, европейского масштаба прозаиком
355
и эссеистом шопенгауэровской школы, чей талант достиг наивысшего расцвета в пору создания таких книг, как «По ту сторону добра и зла» и «Генеалогия морали». С поэта спрашивается не так много, как с критика, однако Ницше никогда не обладал и этим немногим, разве только иногда, в редкие минуты лирического вдохновения, не настолько все же сильного, чтобы он мог создать произведение крупное и творчески самобытное. Заратустра с его полетами по воздуху, с его танцевальными вывертами и головой, увенчанной розами смеха, никем не узнаваемый и повторяющий свое вечное: «Будьте тверды» — всего лишь безликая, бесплотная химера, абстракция, лишенная какой бы то ни было объемности; он весь состоит из риторики, судорожных потуг на остроумие, вымученного, ненатурального тона и сомнительных пророчеств, — это беспомощная схема с претензией на монументальность, иногда довольно трогательная, чаще всего — жалкая; нелепица, от которой до смешного один только шаг.
Одновременно я вспоминаю, с каким ожесточением нападал Ницше
на многое (чтобы не сказать на всё ), перед чем прежде благоговел: на
Вагнера, на музыку вообще, на мораль, на христианство, я чуть было не добавил:
на немцев, — и я с несомненностью вижу, что, несмотря на ярый обличительный
запал его наскоков, у него никогда не хватало духу выступить всерьез против
всех этих, в сущности, очень для него дорогих вещей; и что, понося и оплевывая
их, он на свой лад выражал этим бесконечное преклонение перед ними. Чего только
не наговорил он в свое время о Вагнере! Но вот мы открываем «Ессе h
356
он уверяет его, что в мире
идеального он не знает ничего прекраснее христианства, он вспоминает, что, в
конце концов, все предки его из рода в род были христианскими священниками, и с
полной убежденностью говорит: «В сердце своем я никогда и ничем не согрешил
против христианства»[40].
Но разве не он срывающимся от волнения голосом называл христианство «клеймом
позора, запятнавшим человечество на веки веков», и при этом не преминул
высмеять точку зрения, согласно которой германцы обладали якобы каким-то
особым, специфическим предрасположением к христианству? Что общего — спрашивает
Ницше — могло быть у ленивого несмотря на всю его хищную воинственность невежи
германца, этого чувственно-холодного любителя поохотиться и выпить пивка,
ушедшего в своем духовном и религиозном развитии никак не дальше какого-нибудь
американского индейца и лишь десять столетий назад переставшего приносить своим
богам человеческие жертвы, — что могло быть у него общего с высочайшей моральной
утонченностью христианства, с восточной филигранной изощренностью его мысли,
отшлифованной раввинским умом! На чьей стороне симпатии Ницше — сомневаться не
приходится. «Антихрист», он дает своей автобиографии наихристианнейшее название
«Ессе h
Можно было бы сказать, что отношение Ницше к излюбленным объектам его критики всегда было отношением пристрастия, которое, не имея само по себе определенной позитивной или негативной окраски, постоянно переходило от одной полярности к другой. Совсем незадолго до своей духовной смерти он посвящает вагнеровскому «Тристану» вдохновенно-восторженную страницу. А между тем еще в пору своего, казалось бы, беззаветного служения Вагнеру, задолго до того, как он отдал на суд широкой публики свою книгу о вагнеровских торжествах «Рихард Вагнер в Байрейте», он в Базеле как-то высказывает в разговоре с близкими друзьями несколько глубоко проницательных и вместе с тем столь резких замеча-
357
ний о «Лоэнгрине», что они кажутся предвосхищением «Дела Вагнера», написанного Ницше пятнадцать лет спустя. В отношении Ницше к Вагнеру не было никакого перелома, как бы нас ни старались в этом убедить. Публике нравится думать, что в жизни и творчестве великих людей обязательно должен быть переломный момент. Был обнаружен переломный момент у Толстого, чья духовная эволюция в действительности поражает своей железной закономерностью, психологической предрешенностью фактов позднейших фактами изначальными. Был обнаружен переломный момент и в творчестве самого Вагнера, которое развивалось с не меньшей[41] последовательностью и логикой. Та же участь постигла и Ницше, а между тем, какой бы прихотливо-пестрой игрой ни удивляла нас его мысль, по складу своему почти всегда афористическая, как бы ни были разительны и самоочевидны противоречия, которые мы обнаруживаем в его творчестве, он уже с самого начала тот, кем стал впоследствии; он всегда одинаков, всегда верен себе. И уже первые работы молодого профессора: «Несвоевременные размышления», «Рождение трагедии», трактат «Философ», написанный в 1873 году, — содержат не только в зародыше, но и в совершенно законченном виде все его позднейшие идеи, все то, что он называл своей веселой вестью. Изменяется лишь, делаясь все более возбужденной, интонация, крикливее звучит голос, и все более преувеличенным, почти гротескно-отталкивающим становится жест. Меняется только манера письма; вначале удивительно музыкальная, выдержанная в благородных традициях немецкой гуманистической прозы и воспринявшая свойственную ей чинную размеренность тона, подчеркнутую несколько книжным, старомодно правильным строем речи, она делается мало-помалу неприятно-легковесной, фатоватой, приобретает черты лихорадочной взвинченности и наконец вырождается в прямое паясничанье, в «сверхфельетонизм», гремящий всеми колокольцами шутовского колпака. Однако вопрос далеко еще не исчерпывается констатацией того факта, что творчество Ницше в своей
358
основе отличается абсолютным единством и однородностью. Развиваясь в русле шопенгауэровской философии, оставаясь учеником Шопенгауэра даже после идейного разрыва с ним, Ницше в течение всей своей жизни по сути дела лишь варьировал, разрабатывал и неустанно повторял одну-единственную, повсюду присутствующую у него мысль, которая, выступая вначале как нечто совершенно здравое и неоспоримо правомочное с точки зрения насущных потребностей времени, с годами все более начинает походить на дикий вопль исступленной менады, так что мы вправе были бы назвать историю творчества Ницше историей возникновения и упадка одной мысли.
Что же это за мысль? На этот вопрос мы сможем ответить только тогда, когда нам удастся проанализировать ее основные слагаемые, когда мы разложим ее на элементы, противоборствующие в пей. Вот эти элементы — я перечисляю их здесь в произвольном порядке: жизнь, культура, сознание или познание, искусство, аристократизм, мораль, инстинкт… Доминирующим в этом комплексе идей является понятие культуры. Оно почти уравнено в правах с жизнью: культура — это все, что есть в жизни аристократического; с нею тесно связаны искусство и инстинкт, они источники культуры[42], ее непременное условие; в качестве смертельных врагов культуры и жизни выступает сознание и познание, наука и, наконец, мораль, — мораль, которая будучи хранительницей истины, тем самым убивает в жизни все живое, ибо жизнь в значительной мере зиждется на видимости, искусстве, самообмане, надежде, иллюзии, и все, что живет, вызвано к жизни заблуждением.
От Шопенгауэра Ницше унаследовал взгляд, согласно которому «жизнь уже как представление являет собою внушительное зрелище, независимо от того, дана ли она нам в непосредственном созерцании или отображена искусством»; иными словами, Ницше заимствовал шопенгауэровский тезис о том, что жизнь заслуживает оправдания лишь как явление эстетическое. Жизнь — это искусство и видимость, не более того. Поэтому выше истины (истина
359
относится к компетенции морали) стоит мудрость (поскольку она — вопрос культуры и жизни) — трагически-ироническая мудрость, побуждаемая художественным инстинктом во имя культуры ограничивать науку и защищающая наивысшую ценность — жизнь, против двух ее главных противников: против пессимизма чернителей жизни и адвокатов потустороннего, или нирваны, и против оптимизма рационалистов, против тех, кто мечтает об улучшении мира и земном рае для всего человечества, кто мелет вздор о справедливости и трудится над подготовкой социалистического восстания рабов. Эту трагическую мудрость, благословляющую всю ложь, всю жестокость, весь ужас жизни, Ницше назвал именем Диониса.
Впервые имя радостно опьяняющего бога появляется в юношеском мистико-эстетическом трактате Ницше «Рождение трагедии из духа музыки», где «дионисийское» духовно-эстетическое начало противопоставлено принципу искусства аполлонийского, искусства рассудочного и объективного, аналогично тому, как в знаменитом трактате Шиллера «наивное» противопоставлено «сентиментальному». В «Рождении трагедии» мы впервые сталкиваемся с термином «теоретический человек», и здесь Ницше впервые ополчается на Сократа как на наиболее яркое воплощение типа «теоретического человека», человека, отрицающего инстинкт, превозносящего сознание и поучающего, что благом может быть только то, что познано, — на Сократа, врага Диониса и убийцу трагедии.
Согласно Ницше, от Сократа ведет свое происхождение ученая александрийская культура, немочная, книжная, чуждая мифологии и чуждая жизни; культура, в которой одержали победу оптимизм и вера в разум, а также практический и теоретический утилитаризм, якобы являющийся наравне с демократией симптомом одряхления, психологической усталости. Человек этой сократовской антитрагической культуры — расслабленный оптимизмом и рассудочностью теоретический человек — уже не способен воспринимать вещи в их целостности, во всем их естественном
360
трагизме. Однако, по убеждению юного Ницше, время сократовского человека миновало. На арену жизни выходит новое поколение, героическое, отважное; оно с презрением отметает все расслабляющие доктрины; и в современном мире, мире 1870 года, уже явственно ощутимы первые признаки пробуждения дионисийского начала; трагедия рождается вновь: из глубин немецкого духа, немецкой музыки, немецкой философии. Как он смеялся впоследствии над своей юношеской верой в немецкий дух!
Как смеялся надо всем, что тогда в нее вкладывал, — как
смеялся над самим собою! Действительно, Ницше, каким мы его знаем, уже весь в
этой своей первой книге, в этой романтически-мечтательной, окрашенной мягким гуманизмом
прелюдии к своей философской системе; мы найдем здесь даже его взгляд на
будущие судьбы мира и его идею общности западной культуры, хотя покамест его по
преимуществу занимает проблема культуры немецкой; он глубоко верует в ее
великую миссию, но считает, что создание бисмарковского мощного государства,
демократия с ее враждебностью ко всему оригинальному, политика и самодовольное
упоение военной победой чреваты для этой миссии самыми губительными последствиями.
В блистательной диатрибе, направленной против старчески немощной, пошлой книжки
теолога Давида Штрауса «Старая и новая вера», он обличает
опасность сытого филистерского самодовольства, ибо оно грозит опошлить немецкий
дух, лишить его всей присущей ему глубины. Есть что-то почти пугающее в той
пророческой ясности взгляда, с какой молодой философ уже теперь провидит свою
судьбу; кажется, она, словно раскрытая книга, лежит перед ним во всей своей
трагичности. Я говорю о том месте книги, где Ницше, издеваясь над этической
трусостью вульгарного просветителя Штрауса, предостерегает его от искушения строить
правила практической морали на основе столь милого его сердцу дарвинизма, на
законе bellum
361
ном праве сильнейшего, и где он рекомендует Штраусу довольствоваться злыми нападками на попов и чудеса, поскольку это наилучший способ завоевать симпатии филистеров. Что касается его самого, то в глубине души он уже знает, что пойдет на любые крайности, на прямое сумасбродство, лишь бы завоевать ненависть филистеров.
Наиболее полно, хотя все еще в полемической форме, Ницше излагает свою основную идею, о которой я говорил выше, во втором из своих «Несвоевременных размышлений», носящем название «О пользе и вреде истории для жизни». Эта примечательная книга по сути дела представляет собой всего лишь подробно разработанную вариацию гамлетовских слов о том, что «решимости природный цвет хиреет под налетом мысли бледным»[43]. Озаглавлена работа неправильно, поскольку речь в ней идет главным образом о вреде, а не о пользе истории для жизни, потому что с точки зрения Ницше жизнь — единственное, что ценно и свято, единственное, что может быть эстетически оправдано.
XIX век называли столетием истории. И в самом деле, в XIX веке впервые был выдвинут и разработан исторический принцип подхода к действительности, принцип, о котором прежние культуры, именно как культуры, то есть как художественно самодовлеющие, замкнутые в себе жизненные уклады, знали очень мало или почти совсем ничего. И вот Ницше выступает против «исторической болезни», которая, по его мнению, парализует жизнь, лишает ее спонтанности. Быть в наши дни образованным, утверждает он, значит получить историческое образование. Между тем греки вообще не получали исторического образования[44], но кто осмелился бы назвать греков неучами? История, если она становится предметом чистого, не связанного с жизнью познания, если она не уравновешена «пластической одаренностью» и творческой непосредственностью, гибельна, это — смерть. Познать историческое явление значит убить его. Именно таким путем научное познание покончило с религией, которая теперь находится при по-
362
следнем издыхании[45]. Историко-критическое исследование христианства, — говорит Ницше, болея душой за уходящее прошлое, — без остатка растворило христианство как религию в науке о христианстве. Анализ религии с позиций истории — продолжает он — «приводит к обнаружению фактов, неизбежно разрушающих благочестивые иллюзии, без которых не может жить ничто, стремящееся к жизни». Только в любви, только овеянный иллюзией любви человек становится творцом[46]. К истории следовало бы подходить как к произведению искусства, только так она могла бы стать одним из созидательных факторов культуры, — однако это не согласовалось бы с духом современности, аналитическим и враждебным всякому искусству. История не оставляет места для инстинкта. Вскормленный, или, вернее, перекормленный историей человек уже не отваживается действовать естественно, «отпустить удила», довериться «благородному животному» — своему инстинкту. История всегда недооценивает нарождающееся новое и парализует волю к действию, ибо всякое действие неизбежно ущемляет и подрывает установленные авторитеты. Единственное, чему учит история и что она создает — это справедливость. Но жизни не нужна справедливость; наоборот: ей нужна несправедливость, она несправедлива по самому своему существу. «Нужно быть очень сильным, — говорит Ницше (и мы начинаем подозревать, что в себе самом он такой силы не ощущает), — чтобы жить, забывая, до какой степени это одно и то же: жить и быть несправедливым». Но все дело как раз и заключается в умении забывать. И Ницше требует отказа от истории ради того, что не есть история, — ради искусства и силы, так как только они дают возможность забыть, ограничить кругозор, — требование, которое гораздо легче выдвинуть, чем осуществить, добавили бы мы от себя. Ибо с ограниченным кругозором надо родиться, попытка же ограничить его искусственным путем была бы только эстетскою позой, ханжеством, была бы изменой собственной судьбе, а это никогда добром не кончается. Однако
363
Ницше в весьма привлекательной и благородной форме настаивает именно на сверхисторическом, поскольку оно способно отвлечь наши взоры от случайностей процесса становления и обратить их на то, что сообщает бытию характер вечной и устойчивой сущности, — на искусство и религию. Наука объявляется врагом, ибо она не видит и не знает ничего кроме становления, кроме исторического процесса и не признает вечного и сущего. Забвение ей ненавистно, потому что оно убивает знание; и наконец наука стремится устранить все, что ограничивает человеческий кругозор, стремится сделать его беспредельным. А между тем все живое нуждается в защитной атмосфере, все живое окружает себя дымкою тайны, облекается в покровы спасительных иллюзий. И потому жизнь под владычеством науки гораздо менее достойна названия жизни, чем жизнь, подчиняющаяся не науке, но инстинкту и могучим иллюзиям.
Читая о «могучих иллюзиях», мы невольно вспоминаем Сореля и его книгу «Sur la violence»1[47], в которой пролетарский синдикализм[48] еще сближается с фашизмом и которая объявляет неотъемлемой движущей силой истории любой миф, получивший массовое распространение, безотносительно к тому, отражает ли он истину или нет[49]. Мы задаем себе также вопрос, не лучше ли было бы воспитывать в массах уважение к истине и разуму и самим на- учиться уважать их требования справедливости, чем заниматься распространением массовых мифов и вооружать против человечества орды, одержимые «могучими иллюзиями»? Во имя чьих интересов делается это в наши дни? Уж наверняка не во имя интересов культуры. Впрочем, Ницше ничего не знает о массах, да и не желает знать. «К дьяволу их! — восклицает он, — а заодно и статистику!» Он хочет, чтобы настало время — и он возвещает его приход, — когда можно будет, заняв неисторическо-сверхисторическую позицию, мудро стоять в стороне
364
от всех комбинаций мирового процесса, иначе говоря, от всех событий человеческой истории и, выбросив раз и навсегда из головы всякую мысль о каких-то там массах, устремить все внимание на гигантов, на своих стоящих над временем современников, чьи голоса в вышине, над всей ярмарочной сутолокой истории ведут свой бессмертный духовный разговор. Наивысший идеал человечества не в конечной цели прогресса, а в лучших представителях человеческого рода. Так выглядит ницшевский индивидуализм. Это эстетический культ гения и героя, заимствованный им у Шопенгауэра вместе с твердым убеждением в том, что счастье недостижимо и что человеку представляется только одна достойная возможность — героический жизненный путь. Однако у Ницше под воздействием его преклонения перед силой и красотой жизни шопенгауэровская мысль претерпевает известную трансформацию, претворяясь в своеобразный героический эстетизм; и покровителем созданного им культа Ницше провозглашает бога трагедии Диониса. Именно этот дионисийский эстетизм и превратил Ницше в крупнейшего психолога и критика морали из всех, каких знала история культуры.
Он был рожден чтобы стать психологом, и психология была его доминирующей страстью; в сущности, познание и психология у него одна и та же страсть, и ничто так не свидетельствует о внутренней противоречивости этой великой и страждущей души, всегда ставившей жизнь выше науки, как ее самозабвенная, беззаветная приверженность к психологии. Ницше был психологом уже в силу признания шопенгауэровского тезиса о том, что не интеллект порождает волю, а, наоборот, воля порождает интеллект, что воля есть первичное и главенствующее, между тем как интеллект играет по отношению к ней роль чисто служебную, второстепенную. Интеллект как подсобное орудие воли — исходная точка всякой психологической теории, всякой психологии, видящей свою цель в обличении и в «подозрении»; и естественно, что Ницше, апологет жизни, бросается в объятия психологии морали. Он ставит под подозрение все
365
«благие» порывы, приписывая их дурным побуждениям, «злые» же побуждения он провозглашает благородными и возвышающими жизнь. В этом и заключается его «переоценка всех ценностей».
То, что прежде называлось у него «сократизмом», «теоретическим
человеком», сознанием, исторической болезнью, теперь получает краткое название
«морали» и прежде всего «христианской морали», которая предстает в его
изображении как нечто бесконечно ядовитое, злое, враждебное жизни. Здесь
необходимо напомнить, что моральный критицизм был не только и не столько
индивидуальной склонностью самого Ницше, сколько общей тенденцией эпохи. Эпоха
эта — конец века, время, когда европейская интеллигенция впервые выступила
против ханжеской морали своего викторианского буржуазного
столетия. И яростный бой, который Ницше ведет против морали, не только
входит составным элементом в общую картину борьбы, но подчас поражает чертами
удивительно органической, родственной близости с нею. Нельзя не поразиться
близким сходством ряда суждений Ницше с теми выпадами против морали, отнюдь не
только эффектными, которые примерно в то же время так шокировали и веселили
читателей английского эстета Оскара Уайльда. Когда Уайльд провозглашает: «For, try as we may, we cannot get
behind the appearance of things to reality. And the terrible reason may be that
there is no reality in things apart fr
366
истина — понятие до такой степени индивидуальное, что два разных человека оценивают ее всегда поразному; когда он говорит: «Every impulse that we strive to strangle broods in the mind, and poisons us… The only way to get rid of a temptation is to yield it»1[50] и: «Don’t be led astray into the paths of virtue»2, — мы убеждаемся, что все это вполне могло выйти из-под пера Ницше. С другой стороны, когда мы читаем у Ницше: «Серьезность, сей недвусмысленный признак замедленного обмена веществ»; «Искусство освящает ложь и оправдывает волю к самообману»; «Мы принципиально склонны утверждать, что, чем превратнее суждение, тем оно нам необходимее»[51]; «Мнение, будто истина важнее видимости, не более чем моральный предрассудок» — мы снова убеждаемся, что среди этих изречений нет ни одного, которое не могло бы фигурировать в комедиях Оскара Уайльда and get a laugh in the St. James’s Theatre3. Когда хотели вы- сказать Уайльду особую похвалу, сравнивали его пьесы с комедией Шеридана «The School for Scandal»4. Есть и у Ницше немало такого, что кажется вышедшим из этой школы.
Разумеется, сопоставление Ницше с Уайльдом может показаться кощунственным, — ведь английский поэт известен прежде всего своим дендизмом, тогда как Ницше был чем-то вроде святого подвижника имморализма. И все же мученичество Уайльда, более или менее добровольное, его трагический финал, Редингская тюрьма — все это сообщает его дендизму своего рода налет святости, который — в этом не приходится сомневаться — должен был бы вызвать у Ницше самое горячее сочувствие[52]. Ибо единственное, что примиряло его с Сократом, была роковая чаша цикуты, бестрепетно выпитая греческим
367
философом, его героически-жертвенная смерть, произведшая, по мнению Ницше, неотразимое впечатление на греческую молодежь и на Платона. И по той же причине ненависть Ницше к историческому христианству совершенно не затронула личности Иисуса Христа из Назарета, чья смерть и крестная мука были для него предметом глубочайшего благоговения и любви, примером, которому он добровольно последовал.
Его жизнь была пьянящим хмелем и страданием — сплавом высочайшей эстетической пробы, в котором, если говорить языком мифа, слились воедино Дионис и Распятый. Потрясая тирсом, он воспел экстатический гимн могучей и прекрасной безнравственно-торжествующей жизни и вызвал на бой иссушающий разум, чтобы спасти жизнь от оскудения, а между тем никто не служил страданию вернее и преданнее, чем он.
«Место, занимаемое человеком на иерархической лестнице, определяется теми страданиями, которые он может вынести». Антиморалист так не скажет. И когда Ницше пишет: «Если говорить о страданиях и воздержанности, то жизнь моя в последние годы ничем не уступит жизни аскетов прежних времен», — в словах этих нет ничего похожего на антиморализм. Нет, он не ищет сострадания, он говорит с гордостью: «Я хочу муки, и такой тяжкой, какая только может выпасть на долю человека». И мука стала его добровольным уделом, тяжкая мука страстотерпца-святого, ибо шопенгауэровский святой по существу всегда оставался для него высочайшим образцом человеческого поведения, и именно его жизненный путь Ницше воплотил в своем идеале «героической жизни». Что отличает святого? Святой никогда не делает того, что ему приятно, но делает всегда то, что ему неприятно. Именно так и жил Ницше. «Лишить себя всего, что почитаешь, лишить себя самой возможности что бы то ни было почитать…[53] Ты должен стать господином над самим собой, господином над своими добродетелями». Это и есть тот «прыжок выше своей головы», то сальто, самое трудное из всех, о котором когда-то
368
говорил Новалис. У Ницше в этом сальто (слово сальто заимствовано из циркового жаргона, у акробатов) отнюдь не чувствуется задорной грации, и оно ничем не напоминает легкого порхания танцовщика-профессионала. Легко «порхать» Ницше вообще никогда не умел, это всегда выглядело у него очень беспомощно и производило неприятное впечатление. Для Ницше сальто Новалиса — это кровавое самоистязание, покаянное умерщвление плоти, морализм[54]. Самое понятие истины проникнуто у него аскетизмом, ибо истина для него то, что причиняет страдание, и ко всякой истине, приятной ему, он отнесся бы с недоверием. «Среди сил, взращенных и выпестованных моралью, — говорит он, — была также и правдивость; но правдивость в конце концов обращается против морали, вскрывает ее телеологию, корыстность всех ее оценок…» Таким образом, «имморализм» Ницше — это самоупразднение морали из побуждений правдивости, вызванное своеобразным избытком морали; это своего рода моральное роскошество, моральное расточительство, подтверждением чему служат слова Ницше о наследственных моральных богатствах, которые, сколько их ни трать и ни разбрасывай, никогда не оскудевают.
Вот что кроется за всеми страшными словами и экзальтированными пророчествами о власти, насилии, жестокости, политическом вероломстве, за всем, чем наполнены его последние книги и во что так блистательно выродилось его положение о жизни как эстетически самоценной сущности, и о культуре, основанной на господстве инстинктов, не разъедаемой никакой рефлексией. «Весьма признателен», — с сарказмом ответил он однажды некоему присяжному критику, обвинявшему его в том, что он будто бы ратует за упразднение всех добропорядочных чувств, — непонимание глубоко задело его. Еще бы! Ведь побуждения его были самыми позитивными, самыми доброжелательными, он лелеял мечту об ином, более возвышенном и мудром, более гордом и прекрасном человечестве и, если так можно выразиться, «ничего и в мыслях не имел», — во всяком случае, не имел
369
в мыслях «ничего худого», хотя злого имел немало. Потому что все, в чем есть глубина, таит в себе зло. Глубочайшее зло несет в себе уже сама жизнь; жизнь не сказочка, придуманная моралью; она ничего не знает об «истине»; она зиждется на видимости, на художественном обмане; она глумится над добродетелью, ибо по самой сути своей жизнь есть беззаконие и притеснение, — и потому, — говорит Ницше — бывает пессимизм силы, бывает интеллектуальное предрасположение к жестокому, ужасному, злому, к сомнению в истинности бытия, но проистекает это не от слабости, а от «полноты бытия», от «избытка жизненных сил». И, как всякий больной в состоянии эйфории, он самодовольно приписывает их себе, этот «избыток жизненных сил» и «полноту бытия», и рьяно принимается доказывать, что именно те стороны жизни, которые до сих пор отвергались, и прежде всего отвергались христианством, — что именно они-то и есть самые прекрасные, самые достойные утверждения и прославления. Жизнь превыше всего! Но почему? Этого он не объяснял. Он никогда не обосновывал, почему следует боготворить жизнь и зачем нужно поддерживать ее и сохранять; он только говорил, что жизнь выше познания, ибо, когда познание уничтожает жизнь, оно уничтожает само себя. Жизнь есть предпосылка познания, и, следовательно, познание заинтересовано в сохранении жизни. Таким образом, жизнь, по-видимому, нужна для того, чтобы было что познавать. Подобная логика, думается все же, едва ли может служить в наших глазах достаточным оправданием ницшевского пламенного восхваления жизни. Если бы он рассматривал жизнь как творение божие, его можно было бы понять и проникнуться уважением к его религиозным чувствам, пусть бы даже мы сами и не видели особых причин падать ниц перед мирозданием, под которое подложена взрывчатка современной физики. Но нет» в его понимании жизнь — это лишь грубое и бессмысленное порождение воли к власти, долженствующее вызывать наш благоговейный восторг именно своей бессмысленностью и чудовищным отсутствием всякой
379
морали. «Эвоэ!» — а не «Осанну» возглашает он жизни, и клич его звучит на редкость надрывно и вымученно. Он должен доказать, этот клич, что в человеке нет ничего сверх биологии, ничего такого, что целиком не поглощалось бы и не растворялось в желании жить, ничего, что позволяло бы стать выше этого желания, высвободиться из-под его власти и обрести свободу критического суждения о жизни, ту свободу, которую Ницше, возможно, и обозначает словом «мораль», и которая, не внося в жизнь, столь милую его сердцу, никаких серьезных изменений (жизнь для этого слишком уж неисправима), все же могла бы послужить для нее хотя бы смягчающим паллиативом, а нашу совесть сделать более непримиримой, — чем, собственно, и занималось христианство. «Вне жизни нет ни одной устойчивой точки, опираясь на которую можно было бы судить о бытии, ни одной инстанции, перед которой жизни могло бы быть стыдно», — говорит Ницше. Так-таки нет? Нам кажется, что одна такая инстанция все же есть; ей совсем необязательно называться моралью, пусть это будет просто человеческий дух, та человеческая сущность, которая проявляет себя в критике, в иронии, в свободолюбии, которая наконец выносит приговор жизни. «Над жизнью нет судьи». Так ли? Ведь как-никак в человеке природа и жизнь перерастают самих себя, в нем они утрачивают свою «невинность» и обретают дух, а дух есть критическое суждение жизни о самой себе. И потому человеческая сущность наша, глубоко человеческое нечто внутри нас с жалостью и состраданием смотрит на ницшевские домыслы об «исторической болезни» и на выдвигаемую в противовес ей теорию «жизненного здоровья», которая впервые появляется у Ницше еще в тот период, когда он был способен судить о вещах трезво, и которая затем вырождается у него в вакхически неистовую ярость против правды, нравственности, религии, человечности, — против всего, что хоть в какой-то мере может служить обузданию зла и жестокостей жизни.
На философию Ницше, как мне кажется, самым губительным, даже роковым образом повлияли два
371
заблуждения. Первое из них заключается в том, что он решительно и, надо полагать, умышленно искажал существующее в этом мире реальное соотношение сил между инстинктом и интеллектом, изображая дело таким образом, что будто уже настали ужасные времена господства интеллекта и нужно, пока еще не поздно, спасать от него инстинкты. Однако в действительности, стоит нам только подумать, до какой степени у большинства людей интеллект, разум, чувство справедливости подчинены и задавлены волевыми импульсами, безотчетными побуждениями, корыстью, как мысль о преодолении интеллекта посредством инстинктов покажется нам абсурдной. С исторической точки зрения она была оправдана, поскольку выражала реакцию на положение, создавшееся в определенный период в философии, когда последнюю захлестывал филистерски самодовольный рационализм. Но, даже и объясненная таким образом, эта мысль требует опровержения. Действительно, существовала ли когда-нибудь необходимость защищать жизнь против духа? Грозила ли когда-нибудь миру малейшая опасность погибнуть от избытка разума? Нет, не становиться под знамя инстинктов и силы и не превозносить «прежде незаслуженно отвергавшиеся» стороны жизни, находя высшее благо в преступлении (а мои современники имели возможность убедиться в несостоятельности и бессмыслице преступления), нет, нам, хотя бы из простого великодушия, следовало поддерживать и оберегать и без того чуть теплящийся огонек разума, духа и справедливости.
Ницше изображает дело так, — и этим он причинил немало зла, — будто моральное сознание, точно Мефистофель, грозит жизни своей кощунственной сатанинской рукой. Что до меня, то я не вижу ничего особенно сатанинского в мысли (она принадлежит старым мистикам, эта мысль), что когда-нибудь жизнь материальная может раствориться в жизни духовной, — хотя немало, немало воды утечет еще до тех пор[55]. Гораздо более реальной представляется мне опасность самоистребления жизни на нашей планете в результате усовершенствования атомной
372
бомбы[56]. Впрочем, и эта опасность маловероятна; у жизни кошачья живучесть, — и у человечества тоже.
Второе заблуждение Ницше состоит в том, что он трактует жизнь и мораль как две противоположности и таким образом совершенно извращает их истинное взаимоотношение. Между тем нравственность и жизнь — единое целое. Этика — опора жизни, а нравственный человек — истинный гражданин жизни, — скучноватый, быть может, но зато в высшей степени полезный. Противоречие в действительности существует не между жизнью и этикой, но между этикой и эстетикой. И, как не раз пророчествовали поэты, не нравственное, а прекрасное обречено гибели, — мог ли Ницше этого не знать? «С той минуты, когда Сократ и Платон начали проповедовать истину и справедливость, — сказал он однажды, — они перестали быть греками и сделались евреями или чем-то еще в этом роде». Что ж, твердые нравственные принципы помогли евреям стать хорошими стойкими детьми матери-жизни. Евреи пронесли сквозь тысячелетия свою религию и свою веру в справедливого бога и выжили сами, в то время как, беспутные эстеты и художники, шалопаи-греки очень скоро сошли с арены истории.
Однако неприязнь Ницше к еврейству объясняется не расовым антисемитизмом, совершенно ему чуждым, но тем, что в еврействе он видит колыбель христианства, а в этом последнем вполне закономерно, хотя и с глубоким отвращением, обнаруживает зародыши демократии, французской революции и ненавистных ему «современных идей», которые он разит своим негодующим словом и которые уничижительно именует моралью стадных животных[57]. Он перечисляет: «Лавочники, христиане, коровы, женщины, англичане и прочие демократы», — ибо родиной «современных идей» он считает Англию, а французов всего только их защитниками и солдатами; и он осыпает бранью эти современные идеи; он презирает их за утилитаризм и за эвдемонизм, за то, что высочайшим благом они провозглашают мир и счастье людей на земле, в то
373
время как трагический человек, человек — герой и аристократ — попирает ногами это сладенькое мещанское благо, ибо он, разумеется, воин, непреклонный по отношению к себе и к другим, готовый жертвовать и собою, и ими. Ницше ставит в вину христианству прежде всего то, что христианство неслыханно подняло значение человеческой личности и таким образом сделало невозможным принесение ее в жертву. Между тем, — говорит Ницше, — существование расы не может быть обеспечено иначе как посредством человеческих жертв, и поэтому принцип христианства несовместим с принципом естественного отбора. Христианство фактически всегда снижало и ослабляло ту силу, то чувство ответственности и сознание высокого долга, какие необходимы, чтобы не задумываясь жертвовать человеческими жизнями; в течение двух тысячелетий оно только и делало, что подавляло грандиозную энергию и дух величия, которые призваны, «с одной стороны, путем естественного отбора, с другой — путем насильственного уничтожения миллионов слабых и неудачников, создать человека будущего и которые не сгинут и не иссякнут оттого, что человек этот причинит миру чудовищные страдания». Кто же были они, те, кто не так давно осмелился нагло притязать на подобное величие, кто возомнил себя достаточно сильным, чтобы взять на себя такую ответственность и не дрогнув выполнить «высокий долг» принесения в жертву миллионов человеческих жизней? Зараженное манией величия мещанское отребье, сброд, при одном только виде которого у Ницше немедленно начался бы приступ злейшей мигрени со всеми сопутствующими ей явлениями.
Ему не пришлось пережить этого. Ему вообще не пришлось пережить ни одной войны, кроме старомодной кампании 1870 года, когда еще были в ходу игольчатые ружья, а нарезные шаспо считались технической новинкой. Вот почему в своей ненависти к христианско-демократической филантропии и в пику ее сладеньким посулам счастья он может предаваться прославлению войны, которое ныне представляется нам болтовней расшалившегося ребенка. Мысль, что бла-
374
гая цель освящает войну, кажется ему чересчур нравственной, — нет, благая война освящает любую цель. «Мерилом оценки различных форм общественного бытия, — пишет Ницше, — служат ныне те же критерии, согласно которым мир есть нечто более ценное, чем война; подобный взгляд, однако, антибиологичен, он представляет собой уродливое порождение упадка жизни… Жизнь есть результат войны, общество — орудие войны». Ницше и в голову не приходит, что было бы не худо, быть может, попытаться сделать из общества что-нибудь другое кроме орудия войны. Общество, рассуждает он, есть порождение природы, возникающее, как и сама жизнь, из предпосылок, не имеющих ничего общего с моралью, и посягнуть на них значило бы коварно посягнуть на самое жизнь. «Отказаться от войны, — восклицает он, — значит отказаться от жизни в большом масштабе!» От жизни и от культуры; ибо культуре требуется приток свежих сил, а для этого время от времени необходим основательный возврат к варварству; и было бы праздным мечтательством ожидать от рода человеческого еще чего-нибудь в смысле культуры и величия, если он разучится воевать. Ницше презирает всякую национальную ограниченность. Однако право на подобное презрение, по-видимому, оказывается эзотерической привилегией немногих избранных, ибо шовинистический угар самопожертвования и любая манифестация национальной силы всегда, во всяком своем проявлении, вызывают у Ницше такие восторги, что мы уже не сомневаемся в его желании увековечить на потребу «низам человечества», массам «могучую иллюзию» национализма.
Здесь необходимо разъяснение. Опыт показал нам, что при известных обстоятельствах безусловный пацифизм перестает быть сомнительной общественной позицией и превращается в подлость, в прямую ложь. В течение долгих лет пацифизм в Европе и во всем мире служил личиной для маскировки профашистских симпатий, и, когда в 1938 году в Мюнхене демократия, якобы с целью избавить народы от войны, за-
375
ключила мир с фашизмом, это было воспринято подлинными друзьями мира как свидетельство глубочайшего падения, когда-либо пережитого историей Европы. Друзья мира хотели войны против Гитлера, или, вернее, готовности к ней, потому что уже одной готовности выступить было бы достаточно. И все же, если мы попытаемся ясно представить себе, — а нам это сделать нетрудно, — сколь губительны во всех сферах жизни последствия войны, даже тогда, когда она ведется во имя человечества; если мы подумаем, как велико ее растлевающее влияние, как легко развязывает она эгоистические, антиобщественные, звериные инстинкты; если попытаемся на опыте пережитого нами вообразить себе, хотя бы приблизительно, картину того, как выглядела бы Земля после новой, третьей, мировой войны[58], — то мы поймем, что все ницшевское фанфаронство относительно великих функций войны как охранительницы культуры и фактора естественного отбора — это только фантазии человека, понятия не имеющего о том, что такое война, живущего в эпоху длительного прочного мира и надежно обеспеченных банковских вкладов, в эпоху, наскучившую себе самой своим непроходимым благополучием.
Однако поскольку Ницше с поразительным чутьем пророчески предрекает в грядущем серию чудовищных войн и конфликтов, провидя наступление «золотого» века войны, «на который потомки будут взирать с благоговением и завистью», — у нас невольно возникает мысль, что вырождение человечества зашло еще не так далеко, что род человеческий отнюдь не превратился еще в кастрата вследствие злоупотребления гуманностью; и становится непонятным, зачем надо возбуждать у людей еще и с помощью философии жажду самоистребления во имя «естественного отбора». Быть может, ницшевская философия стремится морально расчистить путь к будущим зверствам, заглушить голос готовой вознегодовать совести? Быть может, она хочет способствовать тому, чтобы человечество было «в форме», чтобы оно во всеоружии могло встретить свой вели-
376
кий час? Возможно. Однако делает она это с таким сладострастием, что если мы и не усматриваем здесь рассчитанного намерения вызвать у нас моральный протест, то нами, во всяком случае, овладевает чувство острейшей боли и жалости при виде высокого и благородного ума, который с таким наслаждением глумится над самим собою. Что-то совсем иное, чем забота о воспитании мужественности, какое-то почти смакование (отзвуки его еще до сих пор живы в немецкой литературе) мучительно прорывается в том, как нам перечисляют, описывают и рекомендуют средневековые пытки. С подлостью граничит ницшевское «утешение неженкам», смысл которого заключается в том, что низшие расы, например негры, якобы обладают меньшей болевой чувствительностью. Когда же затем начинается славословие в честь «белокурой бестии», этого «ликующего чудовища», идеального человека, который «после всех своих варварских подвигов гордо и с легкой совестью, точно после студенческой проделки, возвращается домой, даже не вспоминая, как он резал, жег, пытал, насиловал», — тогда перед нами возникает законченная картина по-детски неосознанного садизма, и душа наша в муке отворачивается от нее.
Наиболее меткую характеристику подобного умонастроения дал романтик Новалис, гений того же склада, что и Ницше. «У нравственного идеала, — говорит он, — нет соперника более опасного нежели идеал наивысшей силы или жизненной мощи, который иначе называют еще (очень верно по существу и неверно по выражению мысли) идеалом эстетического величия. Этот идеал был создан варварством, и можно лишь пожалеть, что в наш век одичания культуры он находит немало приверженцев, в первую очередь из числа людей ничтожных и слабых. Идеал этот рисует нам человека в виде некоего полубога-полузверя[59], и люди слабые не в силах противостоять неодолимому обаянию, какое имеет для них кощунственная дерзость подобного сопоставления». Лучше не скажешь! Знал ли Ницше эти слова? Несомненно, знал. И тем не менее они не заставили
377
его прекратить провокационные вылазки против «идеала нравственности», вылазки бредовые, заведомо вздорные и потому самим Ницше никогда, по сути, всерьез не воспринимавшиеся. То, что Новалис называет идеалом эстетического величия, идеалом варварства, то, что он именует полубогом-полузверем — все это воплотилось в ницшевском сверхчеловеке, который изображается как «наивысший продукт, выработанный элитой человечества и воплощающий в себе новый, более сильный биологический вид, новый, более высокий тип человека, отличный от среднего человека не только по условиям своего возникновения, но и по условиям существования». Это — будущий владыка земли, идеал блистательного тирана, чьему появлению как нельзя лучше способствует демократия, которую он, сверхчеловек, затем использует в качестве орудия для того, чтобы на макиавеллевский лад, под прикрытием демократической терминологии, подменить существующие нравственные установления своими новыми моральными нормами. Ибо ницшевская устрашающая утопия величия, силы и красоты намного охотнее лжет, нежели говорит правду, — ведь для лжи надо обладать и умом, и желанием лгать. Сверхчеловек — это человек, в котором «с максимальной силой выражены все характерные черты жизни: несправедливость, ложь, эксплуатация».
Пределом бесчеловечности было бы давать отповедь или отвечать издевкой на ницшевскую крикливую, вымученную браваду, и уж совсем было бы глупо нравственно ею возмущаться. Перед нами история Гамлета, трагическая судьба человека, которому его знание оказалось не по плечу, и мы почтительно и с состраданием склоняемся перед нею. «Мне кажется, — сказал Ницше однажды, — что я кое-что разгадал в душе высшего человека, — возможно, каждый, кто разгадает его, должен погибнуть». Разгадка действительно стала его гибелью; и среди свирепых пророчеств его учения так часто прорывается звук бесконечно трогательного лирического страдания, слышится такое сокровенное любовное чувство, такая горькая жажда любви — любви, которая, точно осве-
378
жающая роса, оживила бы выжженную,
бесплодную пустыню его одиночества, — что перед этой картиной безмерной муки,
поистине достойной названия «Ессе h
Ницше как мыслителю, первоначально всем существом своим связанному с буржуазным миром и из него вышедшему, очевидно, больше всего должны были быть по душе фашистские, а не социалистические элементы послебуржуазной эпохи, поскольку последние — моральны, а Ницше не понимал разницы между моралью вообще и моралью буржуазной. Однако он был слишком восприимчив, слишком чуток, чтобы совершенно не быть затронутым социалистическими веяниями наступающей эпохи, чего совершенно не хотят видеть критики-социалисты, для которых Ницше чистейшей воды фашист. Все это не так просто, как бы ни были многочисленны и оправданны
379
доводы, приводимые в пользу такого упрощенческого взгляда. Правда, провозглашаемое Ницше героическое презрение к счастью (в котором чуется что-то очень личное и которое весьма трудно было бы применить в политике), привело его к тому, что всякое стремление избавить людей от наиболее унизительных социальных и экономических несправедливостей и устранить из жизни вполне устранимые тяготы и страдания он рассматривал как презренную тоску стадных животных по пастбищу, их зеленому счастью. И не случайно, конечно, ницшевское выражение «страшная жизнь» было переведено на итальянский язык и вошло в жаргон фашистских молодчиков. Правда, конечно, и то, что ницшевское восхищение красотою безнравственности, его апология войны и зла и все его раздраженные выпады против морали, гуманности, сострадания, христианства — все это позднее нашло свое место в помойной яме фашистской идеологии; а такие его заблуждения, как «мораль для врачей», предписывающая умерщвлять больных и кастрировать не- полноценных, его убеждение в необходимости рабства и многие из его предписаний по расовой гигиене, касающиеся биологического отбора, культивирования определенных расовых черт, вступления в брак — действительно вошли в теорию и практику национал-социализма, хотя мы и не убеждены, что имеем здесь дело с заимствованием. Если истинны слова «по плодам их узнаете их», то для Ницше нет извинения. Грезившийся ему человек-повелитель превращается у Шпенглера, который по отношению к Ницше был чем-то вроде умной обезьяны, в современного «реального человека большого масштаба», в бизнесмена и грабителя, шагающего по человеческим трупам, в денежного туза, в фабриканта оружия, в генерального директора немецкого концерна, финансирующего фашизм, — короче говоря, у Шпенглера Ницше с тупой прямолинейностью превращается в философского патрона империализма, хотя в действительности он и представления не имел о том, что такое империализм. Будь это не так, разве стал бы он на каждом шагу высказывать свое презрение торгашам и
380
денежным мешкам, погрязшим, как он полагал, в своем филистерском миролюбии? Разве стал бы он славить им в укор геройский дух и воинскую доблесть солдата? Ницшевский «аристократический радикализм» вообще не дошел до понимания того, что союз индустриализма с милитаризмом — это и есть империализм; не видел он также и того, что войны порождаются жаждой наживы.
Не станем заблуждаться: фашизм, рассчитанный на околпачивание массы и олицетворяющий разгул самой грязной черни, а в культуре — самую жалкую обывательщину, какую когда-либо видела история, фашизм по самому духу своему не может не быть глубоко чуждым человеку, у которого все сводится к вопросу «что благородно?». Специфика фашизма чужда творческой фантазии Ницше, и нелепейшим недоразумением было то, что немецкое бюргерство спутало фашизм с ницшевскими мечтами о варварстве, призванном омолодить культуру. Я говорю не о великолепном пренебрежении Ницше ко всякому национализму, не о его ненависти к «рейху» и тупоумной немецкой политике силы, не о его «европеизме» и не о его издевках над антисемитским и прочим расистским бредом. Я говорю о другом, о том, что в рисующейся ему картине грядущего послебуржуазного мира тенденции социалистические выражены не менее сильно, чем те, которые мы могли бы назвать у него фашистскими. Не об этом ли свидетельствуют слова Заратустры: «Я заклинаю вас, братья, будьте верны земле! Не сидите, зарывшись с головою в мертвый прах небесной галиматьи. Держите ее гордо, свою земную голову, — она оправданье и смысл этой земли!.. Торопитесь, верните на землю отлетевшую от нее добродетель, — да, верните ее для любви и для жизни: и да будет добродетель смыслом земли, ее человеческим смыслом!» Здесь выражено стремление слить воедино человеческое и материальное; это — одухотворенный материализм, тенденция социализма.
Ницшевское понимание культуры очень часто носит ясно выраженную социалистическую, во всяком случае не буржуазную, окраску. Он выступает против
381
отчужденности, существующей между образованными и необразованными; и Вагнер, чьим искусством он увлекается в пору своей юности, олицетворяет для него в первую очередь конец Ренессанса, конец золотого века буржуазной культуры и рождение искусства нового, одинаково обращенного к господам и к простому народу, искусства, духовное наслаждение которым доступно для всех сердец.
Не о ненависти к рабочим, а как раз об обратном говорят его слова: «Рабочие должны научиться чувствовать себя солдатами: жить не на заработок, а на жалованье, на почетное вознаграждение. Они должны жить так, как теперь живет бюргерство; над ними будет стоять высшая каста, более бедная, более скромная, выделяющаяся своей непритязательностью, но сосредоточивающая в своих руках власть». Ницше дает, кроме того, ряд удивительных указаний, как сделать собственность более нравственной. «Должны быть открыты все трудовые пути к приобретению небольшого состояния, — говорит он, — но не должно допускать легкого и быстрого обогащения; следует отнять у частных владельцев и частновладельческих компаний все отрасли транспорта и торговли, благоприятствующие созданию крупных состояний, — банки в том числе; тех, кто владеет слишком многим, и тех, кто не владеет ничем, следует рассматривать как лиц социально опасных». Страх перед «теми, кто не владеет ничем», перед неимущими, страшнее которых и зверя нет в глазах философствующего мелкого буржуа, — это, конечно, от Шопенгауэра. Опасность слишком большого богатства — открытие Ницше.
Около 1875 года, то есть более семидесяти лет тому назад, Ницше, без особого, правда, энтузиазма, предсказывает в качестве неизбежного следствия победы демократии создание союза европейских народов, «в котором отдельные народы, живя в географически целесообразных границах, будут представлять собой как бы отдельные кантоны с присущими им кантональными правами». Такая перспектива рисуется Ницше в то время только для Европы. В течение следующего десятилетия он распространяет ее на весь
382
мир, на весь земной шар. Он говорит о неизбежности возникновения в будущем единого органа для управления экономикой всего земного шара. Он призывает власти всех стран «готовиться к осуществлению перспективы мирового единства». Он не слишком верит в Европу. «Европейцы по сути дела мнят себя теперь высшими людьми на земле. Но азиаты во всех отношениях стоят на голову выше европейцев». Впрочем, он считает возможным, что в будущем мире духовное руководство будет принадлежать новому типу европейца, в котором найдет свое воплощение высший духовный синтез прежней европейской культуры. «Владычество над землей — в руках англосаксов[60]. Немцы — лишь фермент: они не умеют повелевать». Он провидит также взаимопроникновение немецкой и славянской расы, а Германию рассматривает как преддверие славянского мира, как ворота, открывающие путь к панславистской Европе[61]. Он убежден в грядущем мировом значении России. «Власть делят славяне и англосаксы. Европа — в роли Греции под владычеством Рима».
Этот экскурс в область мировой политики для Ницше совершенно случаен, его ум целиком поглощен вопросом о роли культуры в формировании философа, художника, святого — и тем сильнее поражают его выводы. Он проникает взором почти на целое столетие вперед и видит почти то же, что видим сегодня мы. Ибо мир, мир преобразующийся и обретающий новое обличие, — мир единый, и если человек обладает высоко развитой восприимчивостью, каким-то особым чувствилищем, реагирующим на самые малые раздражения, он повсюду обнаружит, нащупает, укажет то новое, что только еще нарождается, что только еще собирается быть. Сражаясь против механистического миропонимания, отрицая причинную обусловленность мира, классический «закон природы» и повторяемость тождественных явлений, Ницше чисто интуитивно предвосхищает данные современной физики. «Второго раза не бывает», — говорит Ницше. Закономерности, согласно которой определенная причина должна непременно вызывать определенное следствие, не
388
существует[62]. Истолковывать события по принципу причинно-следственной связи — неверно. В действительности, речь идет о борьбе двух неравносильных факторов, о перегруппировке сил, причем новое состояние ни в коем случае не является следствием прежнего состояния, но представляет собой нечто в корне от него отличное. Иначе говоря, динамика — там, где раньше была механика и логика. Ницшевские «естественнонаучные догадки», если воспользоваться словами Гельмгольца о Гете, по духу тенденциозны: они всегда преследуют какую-то цель, они органически связаны с его философской теорией власти и его антирационализмом, они помогают ему доказать превосходство жизни над законом, ибо закон как таковой уже несет в себе нечто «нравственное». Можно по-разному относиться ныне к подобной тенденции, однако перед естественными науками Ницше оказался прав, — их «законы» за это время настолько ослабли, что свелись ныне к простой вероятности, а вокруг понятия причинности создалась самая немыслимая путаница.
Соображения Ницше относительно закономерностей физики, точно так же, как и все другие его идеи, выводят его за пределы буржуазного мира классической рациональности в совершенно иной мир, где сам он, рожденный в других условиях, должен был бы чувствовать себя чужаком. Если социализм не хочет зачесть этого Ницше в заслугу, мы вправе предположить, что такой социализм гораздо ближе стоит к буржуазному миру, чем сам он о том подозревает. Пора отказаться от взгляда на философию Ницше как на кучу случайных афоризмов: его философия, не менее чем философия Шопенгауэра, является стройной системой, развившейся из одного зерна, из одной все собою пронизывающей идеи. Но у Ницше эта исходная, основная идея по всему своему складу, в корне своем — идея эстетическая, и уже по одному тому его видение мира и его мышление должны прийти в непримиримое противоречие со всяким социализмом. В конце концов могут быть только два мировосприятия, только две внутренние позиции: эстетическая и
384
нравственная. И если социализм — мировоззрение, строящееся на строжайших нравственных основах, то Ницше — эстет, самый законченный, самый безнадежный эстет, какого знала история культуры, и его основное исходное положение, содержащее в себе зерно его дионисийского пессимизма, — положение о том, что жизнь достойна оправдания лишь как явление эстетическое, — необычайно точно характеризует его самого, его жизнь и его творчество философа и поэта, которые именно только как явления эстетического порядка и могут быть поняты и оправданы, могут стать предметом благоговейного почитания, ибо несомненно, что его жизнь, вся, включая финальное мифологизирование собственного «я» и даже безумие — это подлинное творение искусства, и не только по средствам выражения, совершенно изумительным, но и по самой своей глубинной сути; это зрелище потрясаю- щей лирико-трагедийной силы, неотразимое в своей притягательности.
Весьма примечательно, но, впрочем, и понятно, по- чему эстетизм стал первой формой духовного бунта Европы против всех моральных установлений буржуазного века. Я не случайно поставил имена Ницше и Уайльда рядом, — оба они бунтари, и оба бунтуют во имя прекрасного, хотя немец, пионер движения, шел в своем бунтарстве намного дальше, и оно было сопряжено для него с неизмеримо более глубоким страданием, с неизмеримо более тяжкими жертвами и героическим самопреодолением. У критиков-социалистов, главным образом русских, мне неоднократно приходилось читать, что отдельные эстетические взгляды и суждения Ницше отличаются подчас удивительной тонкостью, но что в вопросах морально-политических он — варвар. Такое разграничение представляется мне наивным, ибо ницшевское прославление варварства — это всего лишь буйное похмелье его вакхического эстетизма, свидетельствующее, между прочим, о том, что существует какая-то близость, какая-то несомненная связь между эстетизмом и варварством, над которой нам всем не мешало бы поразмыслить. В конце XIX века эта зловещая связь была
385
еще незаметна, ее никто не ощущал, и она никому не внушала страха; известно, что Георг Брандес, еврей и писатель либерального направления, усматривал в «аристократическом радикализме» немецкого философа некий новый нюанс и даже пропагандировал философию Ницше в специальных лекциях, — неоспоримое свидетельство беспечной самоуверенности клонящегося к закату буржуазного века и одновременно верный знак того, что маститый датский критик относился к ницшевскому варварству не слишком серьезно, не считал его «взаправдашним», воспринимал сто «cum grano salis»1, — и, конечно, был прав.
Эстетизм Ницше — это неистовое отрицание всего духовного во имя прекрасной, могучей, бесстыдной жизни, иначе говоря, самоотрицание человека, слишком глубоко ранимого жизнью — вносит в его философские излияния что-то «невзаправдашнее», безответственное, ненадежное, что-то наигранно-страстное, какую-то ноту глубочайшей иронии, что неизбежно сбивает с толку неискушенного читателя. Его книги не только сами по себе произведения искусства, — они требуют искусства и от читателя, ибо читать Ницше — это своего рода искусство, где совершенно недопустима прямолинейность и грубость и где, напротив, необходима максимальная гибкость ума, чутье иронии, неторопливость. Тот, кто воспринимает Ницше буквально, «взаправду», кто ему верит, тому лучше его не читать. С Ницше дело обстоит точно так же, как с Сенекой, о котором он как-то сказал, что его следует слушать, но что не должно «ни доверять ему, ни полагаться на него». Если угодно, вот доказательства. Тот, кто прочел «Дело Вагнера», не поверит своим глазам, когда вдруг обнаружит в письме, написанном Ницше в 1888 году музыканту Карлу Фуксу, буквально следующее: «Вы не должны принимать всерьез того, что я говорю о Визе; при моих вкусах Визе для меня совершенно ничего не значит. Однако в качестве иронической антитезы к Вагнеру он способен производить самое сильное впечатление…» Вот и
386
все, что остается, «между нами» говоря, от восторженного гимна в честь «Кармен» в «Деле Вагнера». Здесь есть от чего прийти в изумление. Однако, это не все. В другом письме к тому же адресату Ницше, давая советы относительно того, как лучше всего писать о нем и его творчестве психолога, писателя, имморалиста, говорит, что, характеризуя его, следует избегать решительных «да» и «нет», но должно придерживаться суждений самых нейтральных. «Совершенно не нужно и даже нежелательно, — пишет он, — чтобы вы принимали сторону моих защитников или моих противников; напротив, смесь некоторой доли любопытства, какое проявляют при виде незнакомого растения, с иронически-недоверчивой сдержанностью — вот, как мне кажется, та позиция, которая была бы наиболее разумной в отношении меня. — Прошу прощения! Это, конечно, очень наивно — давать благие советы, как следует выпутываться из того, из чего выпутаться невозможно…»
Известен ли другой случай, когда писатель столь странным образом предостерегал бы людей против самого себя? Он говорит о себе: «Мой антилиберализм доходит до злости». «Происходит от злости» — так было бы вернее; от злости, от неодолимого влечения к провокации. Когда в 1888 году умирает император Ста дней, либерал Фридрих III, женатый на англичанке, Ницше вместе со всей либеральной Германией переживает дни тревоги и подавленности. «Как бы там ни было, но все же он был для нас светом, пусть и слабеньким, и мерцающим, но светом свободной мысли, последней надеждой Германии! Теперь начнется царство Штёккеров; что это значит, мне совершенно ясно: я уже наперед знаю, что прежде всего запретят в Германии мою «Волю к власти…». Тревога оказалась напрасной — книгу не запретили[63]. Дух либеральной эпохи был еще крепок, и в Германии еще можно было говорить все что угодно. Однако скорбь об усопшем Фридрихе открывает нам в Ницше нечто совсем неожиданное, нечто простое, безыскусственное и отнюдь не парадоксальное, — мы могли бы сказать, открывает нам правду: естественную любовь интел-
387
лигента, писателя к свободе, без которой он, как без воздуха, не может жить — и тогда все эстетические фантазии о рабстве, войне, насилии, великолепной жестокости вдруг отступают куда-то далеко, в область безответственной игры ума и красочного теоретизирования.
В течение всей своей жизни Ницше предавал анафеме «теоретического человека», но сам он являет собой чистейший образец этого «теоретического человека» par excellence: его мышление есть мышление гения; предельно апрагматичное, чуждое какому бы то ни было представлению об ответственности за внушаемые людям идеи, глубоко аполитичное, оно в действительности не стоит ни в каком отношении к жизни, к его столь горячо любимой, яростно защищаемой и на все лады превозносимой жизни: ведь он ни разу даже не дал себе труда подумать над тем, что получилось бы, если бы его проповеди были претворены в жизнь и стали политической реальностью! Не сделали этого и все высокоученые проповедники иррационального, которых после Ницше развелось в Германии видимо-невидимо, точно грибов после дождя. Да и не удивительно! Ибо могло ли быть что-нибудь более близкое и более понятное немецкой душе, чем ницшевский философствующий эстетизм? Правда, Ницше обрушил на немцев немало громов своей испепеляющей критики, и не было, кажется, греха, в котором он не обвинял бы этих будущих губителей европейской истории. И все же, кто был немцем больше, чем он сам? И не он ли на своем собственном примере еще раз продемонстрировал им все то, что сделало их впоследствии ужасом и проклятием для целого мира и что привело их самих к катастрофе: романтическую пылкость темперамента, неодолимую тягу ко все более полному, беспредельному и, увы, беспочвенному выявлению собственного «я», и, наконец, волю, которая, будучи нецеленаправленной, остается свободной и растрачивает себя на бесконечное. Основными пороками немцев Ницше считал пьянство и склонность к самоубийству. Все, что подавляет интеллект и развязывает аффекты, говорил он, таит в себе опасность
388
для немцев, «ибо у немцев аффект всегда действует им же во вред; он у них всегда саморазрушителен, как у пьяницы. В Германии даже энтузиазм не имеет того значения, что в других странах, потому что здесь он бесплоден». Вспомним, что говорит о себе Заратустра: «Самопознание есть саморазрушение».
Ницше стал фигурой исторического значения, но не только потому, что имя его связано — печально связано — с черными днями истории Европы (он имел все основания называть себя «злым роком»), — здесь есть и другая причина. Ницше сделал свое одиночество предметом эстетического преувеличения, а между тем в действительности он при всем своем чисто немецком своеобразии принадлежал тому широкому умственному движению на Западе, которое дало нам Кьеркегора, Бергсона и многих, многих других и в котором воплотилось исторически неизбежное возмущение духа против рационализма, безраздельно господствовавшего в XVIII и XIX веках. Движение это выполнило свою историческую задачу, хотя выполнило ее не до конца, поскольку решить задачу до конца значило перестроить в корне все человеческое сознание, значило прийти к новому, более глубокому пониманию гуманизма, чуждому самодовольной ограниченности, отличающей гуманизм буржуазного века.
Защита инстинкта против разума и сознания была лишь временно необходимой коррективой. Коррективы, вносимые в жизнь духом, или, если угодно, моралью, имеют значение непреходящее, они вечно останутся насущнейшей из потребностей жизни. Какой исторически ограниченной, умозрительной, наивной представляется нам сегодня ницшевская романтизация зла! Мы имели возможность познакомиться со злом во всем его ничтожестве и теперь уже чувствуем себя недостаточно эстетами, чтобы побояться открыто выступить в защиту добра или стыдиться таких тривиальных понятий и представлений как истина, свобода, справедливость. В конце концов эстетизм, во имя которого свободомыслящие умы подняли бунт против буржуазной морали, сам принадлежит буржуазному веку, и конец этого века знаменует собой
389
также и конец эпохи эстетизма, знаменует наступление новой эры, эры идей нравственных и социальных. Эстетическое миросозерцание решительно не способно справиться с решением стоящих перед нами сложнейших проблем, хотя гений Ницше и немало способствовал созданию в мире новой духовной атмосферы. Однажды Ницше высказал предположение, что в грядущую эпоху, какой она ему видится, религиозные идеи могут оказаться еще достаточно сильными для создания какой-нибудь религии эстетического толка наподобие буддизма; в этой будущей религии сотрутся различия, существующие ныне между отдельными вероисповеданиями, и наука не станет, конечно, возражать против появления нового идеала[64]. «Однако этим новым идеалом, — предусмотрительно добавляет Ницше, — будет, разумеется, не человеколюбие». Ну, а что, если это было бы именно так? Оно могло бы и не походить, такое человеколюбие, на оптимистически-идиллическую любовь к «человеческому роду», вызывавшую слезы умиления у XVIII века и, кстати сказать, немало способствовавшую прогрессу нравственности и цивилизации. Но когда Ницше возвещает: «Бог умер», — признание, которое было для него самой тяжкой из всех жертв, — в честь кого же он это делает, кого хочет возвеличить если не человека? И если Ницше был атеистом, если у него хватало мужества быть им, то был он им из любви к человечеству, какой бы пасторальной чувствительностью ни отдавали такие слова. Ницше должен смириться с тем, что мы называем его гуманистом, должен стерпеть, что его критика морали рассматривается нами как последняя трансформация Просвещения. Ибо религию, которая должна, по его мнению, преодолеть противоречия ныне существующих религий, невозможно представить себе иначе как связанной с мыслью о человеке, то есть как окрашенный в религиозные тона, религиозно обоснованный гуманизм, прошедший через многие испытания, обогащенный опытом прошлого, измеривший в человеке все бездны темного и демонического для того, чтобы еще выше поднять человека и возвеличить тайну человеческого духа.
390
Религия — это благоговейное поклонение; прежде всего, благоговейное поклонение тайне, которую представляет собой человек. Там, где речь идет о переустройстве человеческого общества, об установлении в нем новых отношений, о том чтобы согласовать его развитие с движением стрелки на часах истории, там не много[65] пользы принесут международные конференции, технические мероприятия, юридические институты, и World Government так и останется утопией рационалистов.
Сначала необходимо изменить духовную атмосферу, в которой живет человечество; необходимо выработать у людей новое чувство — гордое сознание того, что быть человеком и трудно и благородно; необходимо объединить всех людей без исключения какой-то одной доминирующей, всепроникающей и направляющей идеей, которую каждый сознавал бы в себе как своего внутреннего судью. Писатели и художники, проникая все более глубоко в человеческие души, захватывая все большее число людей своим незаметным ненавязчивым воздействием, могут в какой-то мере способствовать выработке и утверждению этой идеи. Однако ее нельзя внушить проповедью, нельзя искусственно навязать людям, — она должна стать для них чем-то лично пережитым, ее надо выстрадать.
Философия не холодное абстрагирование, нет, это переживание, страдание, самопожертвование во имя человечества; и Ницше знал это и был сам тому примером. И хотя путь его был ложен и привел его к нагромождению нелепейших заблуждений, его любовь все же принадлежала будущему, и грядущие поколения, точно так же, как и мы, чья молодость обязана ему столь многим, еще долго будут приковываться взглядом к этому образу, исполненному хрупкого и внушающего уважение трагизма, озаренному грозными зарницами перевала, разделяющего два столетия.
1947
Введение к американскому изданию его избранных
сочинений
Ребенок, родившийся в доме франкфуртского бюргера 28 августа 1749 года, когда часы били полдень, от восемнадцатилетней матери, измученной тяжелыми родами, был черен и, казалось, мертв. Казалось, что он, едва выйдя из материнского чрева, вернется к земле да так и не увидит света, так и не вступит на жизненную дорогу, которой предстояло быть долгой и далекой, устланной цветами и благословенно тяжкой исполненной неукротимых страстей и незабвенной в памяти потомков. Прошло немало времени, пока бабушка смогла крикнуть стонущей роженице: «Элизабета, он жив!» То был крик женщины, обращенный к женщине, то была семейная весть, полная животной радости, — только и всего. Но возглас этот был обращен к миру, к человечеству, он и в наши дни звучит тем же ликующим торжеством, что два столетия назад, и так он будет звучать во веки веков; да, пока на нашей планете не угаснут любовь и жизнь, пока жизнь будет любить себя самое, пока она не проклянет свое сладостное страдание и, наскучив им, не отвернется от самой себя, — до тех пор будет немолчно звучать над миром женский возглас, ставший неведомо для этой женщины новым благовещением — «Он жив!»
Человеческому дитяти, которое в тот день с такими муками, едва не задохнувшись, появилось на
392
свет из мрака материнского лона, был предначертан небывалый жизненный круг, ему было суждено прожить славную жизнь истинного подвижника, исполнить все человеческое и достичь такого царственного величия, перед которым склонялись государи и народы и сущность которого он однажды — не без торжественности — попытался объяснить. Через восемьдесят три года после того летнего полдня, когда он появился на свет (за эти годы о твердыню его духа разбились гигантские валы истории, прокатившиеся над миром, — семилетняя война, американская битва за независимость, французская революция, возвышение и падение Наполеона, распад Священной Римской империи, рождение нового века, повлекшее за собой изменение облика и атмосферы мира, приход бюргерской, машинной, эры, июльская революция), — через восемьдесят три года этот все переживший старец, белый как лунь, прямой, с близко поставленными карими глазами, которым странные старческие круги, окаймляющие зрачки, придают нечто птичье, недвижно стоит у конторки в нарочито неуютном кабинете своего веймарского дома, давно ставшем центром всемирного паломничества, куда устремлена человеческая потребность в обожании, — стоит и, сочиняя последнее свое письмо, пишет, погрузившись в склеротическую задумчивость, но сохраняя полную ясность мысли, своему старинному другу, философу и государственному деятелю Вильгельму Гумбольдту в Берлин:
«…Высший гений все впитывает в себя, все способен усвоить, не нанося при этом ни малейшего ущерба своему подлинному, основному назначению, тому, что называется характером, — напротив, характер при этом еще более возвышается, творческие способности еще более возрастают… Органы человека вследствие упражнений, учения, размышлений, удач, неудач, поощрения и сопротивления и опять-таки размышлений бессознательно, в свободной творческой деятельности, соединяют благоприобретенное с прирожденным, так что целое повергнет мир в изумление». Величественная наивность, наивное величие самонаблюдения! В нем есть нечто детское — и вместе
393
демоническое, нечто восхитительное — и внушающее трепет. Еще семнадцать лет назад, когда он был охвачен поздней, поэтически нужной ему, во всяком случае, поэтически плодотворной страстью к совсем молодой женщине, только что вышедшей замуж Марианне фон Виллемер, Зулейке из «Западно-восточного дивана» (впрочем, это отнюдь не последняя его любовь, — последняя овладела им уже в возрасте семидесяти четырех лет, когда в Мариенбаде его превосходительство первый министр Великого герцогства Саксен-Веймар и всемирно прославленный поэт снова становится светским львом и селадоном, волочится за прелестницами и влюбляется, любезничает и целует ручки, непременно хочет жениться на семнадцатилетней красотке, но терпит неудачу, потому что его намерение вызывает решительное сопротивление родственников, да и девушка, пожалуй, предпочитает не сочетаться с ним браком, хотя впоследствии так и не вышла замуж), — итак, еще семнадцать лет назад шестидесятишестилетний старик, по уши влюбленный в Марианну, которая отвечала ему томно-мечтательной любовью, не таясь от благосклонно взиравшего на этот роман супруга, воссоздал в стихотворении картину своего бытия, — она трогает и потрясает так же, как и то, что он пренебрег мнением поверженного в изумление мира. Он пишет:
Сердце дышит безответно
Вечно молодым огнем.
Клокоча, пылает Этна
В смежном панцире своем.
Тронешь ты, как луч рассвета,
Грозные зубцы стены,
И, как прежде, слышит Гатем
Дуновение весны.
Клокочущая Этна — поэтическое преувеличение. Насколько я знаю, сердце его ни для одной женщины не клокотало как вулкан; да и вообще он был противником всего вулканического в жизни, равно как и в науке. Но вот в этих словах: «грозные зубцы стены» — сколько в них мощи, сколько отнюдь не хвастливой, но спокойной, правдиво-описательной ве-
394
личавости самооценки! Сказать о себе, не смущаясь сказать о себе: я подобен могучему, высоко вознесшему свои вершины горному хребту, внушающему благоговение недоступностью грозной своей крутизны, но озаренному сиянием любви, лучом рассветной зари, который не пугается его сумрачного величия, который смягчает его, одухотворяет своим прикосновением, подобным тихому поцелую!
Следует обратить внимание иностранного читателя на следующее обстоятельство. Согласно структуре стихотворения слово «рассвета» требует через строку рифмы, между тем как восточное имя «Гатем», удовлетворяющее наш внутренний слух, таковой не является; лукаво утаенная рифма, которую ожидает и должен ожидать наш слух, и есть его настоящее имя — Гете, — редкое, в наши дни уже не встречающееся родовое имя; его носили многие слабые, бесцветные представители рода, и оно было прославлено одним из младших его отпрысков, обладавшим могучей способностью сливать воедино благоприобретенное с унаследованным, превратившим это имя в палладиум человечества, в название для целых миров искусства, мудрости, науки, культуры; пройдя гигантский путь развития, оно приобрело новый смысл и стало равновеликим имени Цезаря; североготское, варварское звучание его (ибо ведь оно, видимо, происходит от слова «готы») облагорожено музыкальным смягчением коренного «о» в «ё», и носитель этого имени глубоко взволнованно рифмует его с самым пленительным явлением чувственного мира — с рассветом.
Мы встречаемся здесь с величавой самовлюбленностью, с самопоглощенностью, которая слишком серьезна и слишком устремлена к величайшему самоусовершенствованию, к улучшению, «сгущению» врожденных способностей, чтобы можно было охарактеризовать ее таким ничтожным словом, как «тщеславие»; мы видим здесь глубочайшую радость, какую только может испытать человек от своего «я», от сознания его непрестанного роста, — радость, подарившую нам «Поэзию и правду», яркую, и, во всяком
395
случае, восхитительнейшую автобиографию на свете, роман от первого лица, который в невыразимо пленительном повествовании учит нас тому как формируется гений, как счастье и усилия во имя человечества соединяются в нерасторжимую цепь, как раскрывается личность под солнцем высочайшей благодати… Личность! Гете назвал ее «высшим счастьем сынов земли», но что она, собственно, такое, какова ее сущность, в чем ее тайна (ибо ей свойственна тайна!) — этого даже он не сказал и не раскрыл людям: ведь он при всей своей любви к меткому слову, точно выражающему реальность, вовсе не считал, что все должно быть сказано и раскрыто. Нет сомнений, что, сталкиваясь с этим словом, с понятием «личность», мы покидаем область чисто духовного, разумного, поддающегося анализу, и вступаем в область природного, стихийного, демонического, того, что «повергает мир в изумление» и недоступно более глубокому истолкованию.
Упомянутый Вильгельм Гумбольдт, ученый необыкновенного ума, заявил несколько дней спустя после смерти Гете: удивительнее всего, что этот человек ненамеренно, бессознательно, как бы самым фактом своего существования оказывал на людей столь могущественное влияние. «Это, — пишет Гумбольдт, — происходило и независимо от духовного творчества Гете как мыслителя и поэта, это связано с его великой и неповторимой личностью». Отсюда вполне очевидно, что слово «личность» не более чем языковый эквивалент чего-то иного, не выразимого[66] в слове, некоего излучения, источник которого следует искать не в духовных, а в физических свойствах; видимо, оно представляет собой воздействие особой жизненной силы, обладающей величайшей заразительностью и притягательностью, интенсивной и могущественной, но не грубой, не примитивной, представляющей собою своеобразное смешение энергии и внутренней слабости, формирование которой — творческая тайна созидающей во мраке природы.
И вот на протяжении столетий из поколения в поколение передаются наследственные свойства одного
из немецких родов, случайные, никем не замечаемые, обычные, которыми праматерь всего сущего не преследует никакой цели и которые все же устремлены к одной-единственной цели: создать гения. «Затем, что род, — так скажет этот гений устами своей Ифигении, —
Затем, что род не сразу порождает
Чудовище иль полубога; плодом
Цепочки бесконечной злых и добрых
Возникнет тот, кто ужас или радость
Вселенной принесет».
Полубог и чудовище, иначе говоря: нелюдь — он мыслит их нерасторжимыми, он их отождествляет, зная, что в радости всегда живет ужас, чудовище — в полубоге. Холодно-рассудочной прозой он скажет: «Если какое-нибудь племя долго существует, то прежде чем вымереть, оно создаст личность, в которой свойства всех ее предков объединятся и получат наиболее полное развитие». Эту естественнонаучную истину, которая сформулирована с такой отчетливостью и поучительностью для всеобщего сведения, он извлек из собственного опыта, из наблюдений над собственным, отнюдь не таким уж прямолинейно-закономерным, бытием. Но как это происходило? Как протекал этот процесс? Исподволь, совершенно незаметно. Семьи соединяются, сливаются в перекрестных браках поколения мастеровых, кузнецов и мясников; бродячий подмастерье, пришедший из соседнего края, по обычаю женится на дочери мастера, дочь графского слуги или портного обручается с присяжным землемером или с недоучившимся студентом[67] — все это безобидные шутки жизни, которая без происшествий тянется от рождения к смерти, постепенно накопляет имущество и образование, добивается городских почестей и патрицианского достоинства, а то и звания бургомистра; так породнились Линдгеймеры с Тексторами, семейством, переселившимся во Франкфурт из южной Германии, а Тексторы — с семейством Гете, родина которых была севернее, между Тюрингенским лесом и Гарцем.
397
Мне кажется, что кровь Линдгеймеров, живших близ римских рубежей, где с давних пор слилась воедино кровь древних римлян и варваров, была самым лучшим, самым здоровым и плодотворным началом в личности великого поэта; им он обязан матери его матери, в девичестве Линдгеймер, по мужу фрау Текстор, простой и крепкой смуглой и деятельной старухе. Судя по портретам, от нее он унаследовал форму лба и головы, рисунок губ, итальянские глаза, средиземноморский цвет кожи; несомненно, что именно с этой стороны он воспринял классический вкус, любовь к форме и ясности, остроумие, ироничность и обаяние, своеобразную — то критически недружелюбную, то гневную — отчужденность от немецкого духа, который, впрочем, жил в нем и был весьма силен как грубое народно-мифологическое начало, наследие Ганса Сакса и Лютера; можно утверждать, что история духовной жизни не знает другого случая, когда бы холодное и высокомерное осуждение немецкого национального характера исходило от столь сугубо немецкого ума, не знает более немецкого в основе своей отрицания варварства…
В остальном же следует сказать, что биологически этот род, которому было предначертано создать гения, полубога, не внушал особых надежд. Дед Гете с отцовской стороны, портной Фридрих-Георг Гете, к старости явно выжил из ума. От двух браков у него было одиннадцать человек детей, но большинство умерло в раннем детстве. Из трех, что остались живы, старший был душевнобольным и умер сорока трех лет, впав в идиотизм. Отец поэта — Иоганн-Каспар, был десятым, то есть предпоследним, ребенком — поздним отпрыском пожилых родителей. Это отразилось на его облике и характере. Юрист, купивший себе звание «имперского советника», он был крайне обидчивым брюзгой, неуживчивым бездеятельным корыстолюбивым чудаком и угрюмым педантом, сутягой и мизантропом, которого способен был вывести из себя даже сквозняк, нарушавший, как ему казалось, порядок, установленный им с таким трудом. Он женился на жизнерадостной семнадцатилетней дочери
398
сельского старосты и Линдгеймерши, — Элизабета Текстор была вдвое моложе своего мужа, и нельзя сказать чтобы в этом браке она обрела счастье, ибо лучшие ее годы ей пришлось быть сиделкой и ходить за этим опустившимся деспотом. Ее отцу Иоганну-Вольфгангу Текстору, видимо, тоже была свойственна «веселость» (как писал впоследствии Гете о своей матери) — по крайней мере в юные годы: он был балагуром и бесстрашным волокитой, которого нередко заставали на месте преступления разъяренные мужья, и в то же время (странное сочетание!) прорицателем, умевшим предсказывать будущее, а в старости (он дожил до восьмидесяти лет) стал настолько же серьезен, молчалив, суров и степенен, насколько был бесшабашен в юности. Последние годы жизни он, впав в слабоумие, провел неподвижно в своем кресле.
Имперская советница Элизабета Гете шесть раз рожала, но четверо из ее детей так и не выжили. Едва появившись на свет, они спустя несколько дней возвращались во мрак небытия, — только Вольфганг и одна из его сестер не ушли из мира через несколько дней после рождения; его сестра Корнелия была несчастным зябким существом, не приспособленным для земной жизни; она страдала нервной болезнью кожи, не отличалась женственностью и, по мнению ее брата, была скорее создана для монастыря нежели для брака; все же она попыталась стать матерью и обрела смерть в муках столь ненавистных ей родов. Но он остался жив, он один, и он жил, можно сказать, за шестерых, хотя и ему иногда изменяли жизненные силы, которых так рано лишились остальные и которые он впитал в себя с такой, отнюдь не физической, алчностью.
Один из внуков Гете — все они были лишь призраками людей — говаривал, меланхолически иронизируя над самим собой: «Чего же вы хотите? Мой дед был великан, а я что такое? В лучшем случае — пеликан»[68]. Но великан этот был очень болезненным. Видимо, многие десятилетия его могучую жизнь подтачивал скрытый туберкулез; когда он был студентом в Лейпциге, где вел себя весьма неуравнове-
399
шенно и дважды покушался на свою жизнь, снедаемый один раз гордостью, другой раз мировой скорбью, — в Лейпциге у него как-то хлынула горлом кровь, после чего юноша еле держась на ногах (к тому же не преуспев в науках) вернулся в отчий дом, испытавший горькое разочарование; и под конец жизни, когда ему шел девятый десяток, у него, после смерти его злополучного сына, снова открылось легочное кровотечение; можно ли поверить тому, что, считая предписанные ему кровопускания, старик потерял пять литров крови — и воспрял с одра болезни, чтобы в напряженном труде, возмещая силой духа и упорством то, на что уже не была способна «непроизвольно творящая природа», довести до конца четвертое действие «Фауста»?
Оправившись после долгой болезни, неоднократно приводившей его на край могилы, юный Гете продолжает учение в Страсбурге, постоянно отвлекаясь от своих юридических занятий, втайне предаваясь то прихотливым научным увлечениям, то поэтическому творчеству; затем в Вецларе-на-Лане он в качестве «лиценциата» (или «доктора») права проходит практику в судебной палате (впрочем, вся его жизнь сводится к тому, что он влюбляется, страдает, грезит, бездельничает и расширяет свой кругозор); вероятно, этой своей ретивостью еще не развернувшийся гений на многих производил впечатление, вызывая насмешливую досаду у одних, восхищение у других, внушая любовь к себе старым и юным, большим и малым. Он вызывал неудовольствие подчеркнутой изысканностью одежды и манер, несносной самонадеянностью и мальчишеской необузданностью, он вызывал восхищение блеском молодости, яркостью дарований и уже почти физически ощутимой, электризующей окружающих полнотой жизненных сил; к тому же всех подкупали необыкновенное простосердечие и доброта этого мальчика, прелестного, но несколько избалованного собой и другими.
В то время он был необыкновенно красив, дружил с детьми и простым людом, иначе говоря — с природой, был «удивительно ветрен и похож на воро-
400
бушка», по характеристике Гердера, — «юный надменный лорд, невыносимо шаркавший петушиными ногами»; таким он представлялся окружающим, когда не был погружен в глубочайшую любовную тоску, в неодолимую мировую скорбь и когда не пытался, что ни день, чуть поглубже вонзить себе в грудь кинжал. «Не знаю, что привлекает во мне людей, — пишет он, — очень многие тянутся ко мне». Но эта «привлекательность» достигла, видимо, своей вершины, когда двадцатишестилетний Гете, уже прославленный автор чудесных песен, «Геца фон Берлихингена», «Вертера» и необычайно свежих потрясающих фрагментов поэмы о Фаусте, прибыл в Веймар в качестве любимца молодого герцога, — как он сам полагал, для краткого визита, на самом же деле для того, чтобы прожить там всю жизнь. Виланд, воспитатель веймарского принца, зрелый мужчина, уже достигший сорока двух лет, выражает всеобщий восторг, заявив сразу же после прибытия франкфуртского гостя: «С нынешнего утра душа моя полна Гете, как капля росы — утренним солнцем». «Поднял он жгучие черные очи», — пишет Виланд, —
В этих очах — волшебная власть
И умертвить, и восторгом потрясть.
Таким мы увидели здесь его,
Прекрасным, как светлое божество.
В нашем подлунном мире вовек
Еще не рождался такой человек,
В кого бы вселенная столько вложила,
В ком все наше благо и вся наша сила,
Кто всю природу объять бы мог
И под бременем тяжким не изнемог,
Кто тайну каждой былинки зрит,
И со всею природой как друг говорит.
Кудесник! Ему все души подвластны.
Всего человечества он властелин,
И смертных пронзают до самых глубин
Напевы, которые так прекрасны.
Он чувства сумел пробудить такие,
Которые спали сном непробудным,
И голосом звонким, голосом чудным,
Сумел всколыхнуть он сердца людские…
и так далее.
401
По этим восторженным излияниям можно судить о том, какой живительный магнетизм, какая жизненная сила, горевшая ярким пламенем духа, исходили от этого человека, когда он уже перешагнул возраст воробушка и жеребенка, уже смутно различал глубокую и тяжкую серьезность своего призвания в мире и отныне использовал свое юношеское неистовство лишь для того, чтобы, поощряя высокомерие полюбившего его молодого государя, попытаться исподволь — и не без успеха — привить ему представления о серьезных занятиях, труде, добре.
Переезд в Веймар, поступление на государственную службу, или, вернее, сразу в правительство маленького государства, со стороны может показаться чистой случайностью, — правда, случайностью, подчиненной той внутренней жизненной закономерности, тому стечению обстоятельств, которое Гете называл «высшим движущим началом». Дело в том, что никогда жизнь и творчество поэта не были слиты более органически, чем в этот период; они составляют нерасторжимое единство, так что творчество представляет собою воплощение личного опыта, проникновенное признание, лирическую исповедь, а жизнь служит творчеству, на первый взгляд автономному, заведомо предопределенному, в действительности же зависящему от известных ее поворотов. В конце семидесятых годов XVIII века Гете при посредничестве двух своих юных почитателей, графов Штольбергов, оказавшихся его спутниками, познакомился в Карлсруэ с наследным принцем Карлом-Августом; он был обручен тогда с Лили Шенеман, богатой и миловидной дочерью одного франкфуртского бюргера, обручен по любви или по влюбленности, — счастливый жених был в душе глубоко несчастлив от сознания глупости, которую он собирался совершить в ущерб своему творчеству; его терзали тайные угрызения совести при мысли о том, что жизнь его обретет бюргерскую устойчивость и семейный покой. Угрызения совести заставили его обратиться в бегство, как это часто случалось прежде, — и таким бегством было путешествие в Швейцарию, в которое он отправился
402
вместе с упомянутыми выше восторженными молодыми дворянами. «Мне нужно вырваться на волю!» — так повелевал ему внутренний голос, и так восклицает он на бумаге. Однако этот внутренний голос, звучавший в нем и в каждом его слове, принадлежал герою его любимого труда, труда жизни, который в то время еще был полон незрелой юношеской прелести, но которого ждали в грядущем долгие годы могучего созревания; теперь голос этот поднимал и самого автора до героя: то был «Фауст», он требовал деятельной жизни, большого мира; помимо прочего, он хотел попасть и ко двору какого-нибудь герцога. И Гете оказался при дворе герцога.
Карл-Август, герцог Саксен-Веймарский[69], — сообщает биограф, — во время путешествия влюбился дважды: в красавицу Луизу, принцессу Гессен-Дармштадтскую, свою будущую невесту, и в доктора Гете. Когда несколько позднее Карл-Август встретил поэта во Франкфурте, он уже правил герцогством и состоял в браке. Он привез их обоих к себе, любимую женщину и любимца, с которым предавался бесконечным неумеренным и царственным увеселениям в своем столичном городке, а также в окрестных деревнях и угодьях; он сразу облек фаворита всем доверием, всеми почестями и всею властью, какими, по мнению его старых заслуженных советников, отнюдь не подобало награждать этого совершенно неопытного и незнакомого со службой гения-самородка — приезжего франкфуртского адвоката и стихотворца.
Карл-Август, разумеется, иначе смотрел на это. «Вы сами увидите, — писал он своему первому министру, некоему Фричу, который ворчал, протестовал и грозил отставкой, — что такой человек, как Гете, не выдержал бы скучной механической работы в Совете герцогства, где надо было бы начинать с низших должностей. Не использовать гениального человека там, где он может проявить свои выдающиеся дарования, значит недооценить его гений». Он назначает двадцатисемилетнего Гете тайным легационным советником с правом решающего голоса в Государственном совете и окладом в 1200 талеров; тридцати
403
трех лет Гете уже «действительный тайный советник», министр, его превосходительство, и в том же году герцог добивается для него у императора потомственного дворянства, что, впрочем, не произвело на Гете особенного впечатления: «Мы, франкфуртские патриции, всегда считали, что принадлежим к аристократам». Вообще, не следует думать, что он воспринимал свое «возвышение», весьма напоминающее возвышение Иосифа фараоном, как нечто чудесное и невероятное. «Я никогда не знал человека, который бы обладал большей самонадеянностью, чем я сам,— писал он в краткой автобиографии, — а то, что я это говорю, свидетельствует об истинности того, что я говорю. Я никогда не считал, будто мне нужно к чему-нибудь стремиться[70], я всегда думал, что уже обладаю этим. Если бы меня увенчали короной, я и тогда был бы уверен, что это само собой разумеется… Но от настоящего безумца я отличался тем, что всегда хотел завершить всякий начатый труд, казалось, превышавший мои силы[71], стремился заслужить почести, воздававшиеся мне не по заслугам».
Так не может говорить торжествующий честолюбец. Это скорее слова баловня природы; щедрая судьба даровала ему все, о чем может мечтать человек, но он подходит к жизни с глубокой серьезностью[72] и хочет заслужить дарованные ему блага. Кто-то сказал по поводу одного из портретов, изображающих его в старости: «Это лицо человека, который много страдал». По его мнению, следовало выразить эту мысль в более активной форме и правильнее было бы сказать: «Вот человек, который никогда не щадил себя».
В самом деле, он не щадил своих усилий в качестве министра-фаворита и «второго человека в государстве» (так он однажды назвал себя, памятуя, вероятно, об Иосифе), в качестве руководителя веймарского правительства и рассудительного наставника, который обдуманно направлял действия герцога и воспитывал его. В течение десяти лет, с тех пор как венценосный покровитель, питавший к нему безграничное доверие, облек[73] своего любимца еще и званием
404
президента камерколлегии, он был правителем маленького герцогства, «душой всех дел», как не то насмешливо, не то с восхищением заметил кто-то, — между тем как его поэтическая слава поблекла, а сам он стремился подавить свой могучий дар, свое высокое призвание. «От этих фонтанов и каскадов, — пишет он, — я отвожу как можно больше воды, и поток ее направляю на мельницы и в оросительные каналы». Мельницы, орошение — это не что иное, как акцизные установления, сооружение ткацких мануфактур, рекрутские наборы, строительство каналов и дорог, богадельни, рудники и каменоломни, финансы и множество тому подобных вещей. Он отдается преобразовательству с подлинным неистовством, смиряя себя самого такими неумолимыми приказами, как: «Железное терпение. Несокрушимая выдержка». Он кое-чего достигает: в довольно-таки убогом хозяйстве маленького феодального государства налаживается порядок, устанавливается бережливость, — но вот к какому итогу приходит он в отношении себя самого: «Насколько было бы лучше для меня, если бы я устранился от всех политических распрей и дух мой отдался бы тому, для чего я рожден, — наукам и искусствам. Я с трудом оторвался от Аристотеля чтобы заняться вопросами земельной аренды и выгонов. Я создан для частной жизни и не пойму, по какой прихоти судьбы оказался причастен к государственному управлению и к семье государя». И вот его окончательный вывод: «Тот, кто предается административной деятельности, не будучи владетельным князем, тот либо филистер, либо мошенник, либо глупец».
Ему принадлежит замечательное изречение, гласящее: «Совершенно безразлично, в чем проявляется гениальность человека — в науке, в ведении войны и в управлении государством или в том, что он сочинил песню; важно лишь одно: чтобы мысль, остроумное высказывание, деяние жили и были способны на дальнейшую жизнь». Оно направлено против свойственного его эпохе одностороннего понимания гения как жреца искусства, это слова человека, для
405
которого важно целое, слова гармонического человека, который понимает, что великий поэт должен быть прежде всего великим, а уж затем поэтом. И все же оказалось, что цель всякой самозабвенной деятельности не безразлична, что нельзя один объект подменить другим, считать их тождественными; оказалось, что если принуждать Пегаса вращать мельничное колесо, это влечет за собою лишь тоску и болезнь[74]. Гете стал тосковать и болеть, он умолк, он физически увядал, — и он бежал, опять бежал сломя голову, причем не последним побуждением к бегству была серафически расслабляющая любовь к придворной даме Шарлотте фон Штейн, — не совсем понятная, странно экстатическая и не вполне здоровая страсть, которая непостижимым образом господствует над целым десятилетием его жизни; он неисповедимо долго одержим этой полумистической влюбленностью, и, продлись она еще дольше, не вырвись он из-под ее власти, натура его, жившее в нем здоровое естественное начало могло бы тяжко пострадать, а без этого земного начала его поэтический гений неминуемо бы ослабел и угас.
Нельзя сказать, что она была для него бесплодной, эта необъяснимая страсть, которая, по-видимому, так никогда и не привела к настоящей любовной связи. Ей мы обязаны «Ифигенией», «Тассо» и даже полными щемящей тоски песнями Миньоны. И все же, когда он говорит, что главной целью его путешествия в Италию, этого стремительного и тайного бегства, было «найти исцеление от физических и нравственных мук, терзавших его в Германии», мы можем связать эти муки, эти терзания, эту жажду исцеления с именем Шарлотты, хотя сам он не упоминает о ней из вполне понятного пиетета.
Итак, двухлетний отпуск от дел, проведенный среди южного народа под классическим небом Италии, где он предается созерцанию античности и великого искусства, — это душевное переживание было бесконечно значительнее всего, что могло дать ему высоконравственное рыцарское служение веймарской даме. Нам, ныне живущим, нелегко до конца понять
406
смысл и сущность этого переживания, этого внутреннего перелома и возрождения, нелегко полностью проникнуться чувством счастья, освобожденности, обновления, которым дышат его нескончаемые восторженные возгласы («Тот день, когда я ступил на римскую почву, стал для меня новым днем рождения, поистине днем возрождения», «новая юность, вторая юность, новый человек, новая жизнь», «И мне кажется, что я изменился совершенно, до мозга костей», и т. п. и т. п.), — возгласы, которыми полны его письма к самым различным корреспондентам, в том числе и к Шарлотте, с которой он, уезжая, не простился; да и историки литературы, филологи, изучающие Гете, только делают вид, что все понимают. Видимо, сутью дела было преднамеренное, заранее предопределенное всепобеждающее стремление его натуры к жизненно необходимой новой цельности, в которой должны были слиться его разнохарактерные дарования, естественные и духовные, научные и художественные, — к цельности, которую он тотчас же обрел в Италии, которую он называл «естественной, живой, гармонической…»[75] Только о ней все его помыслы, только о ней он в это время и говорит. «Естественная история, искусство, нравы и прочее — все это образует единый сплав… Я чувствую, как концентрируются все мои силы». Это слияние душевных сил вызвано созерцанием античной культуры, которую он видит не глазами эстета, но изучает как великолепное порождение природы; отныне его отношение к античности бесконечно глубже и в то же время возвышеннее и проще, чем прежняя увлеченность классикой или, вернее, классицизмом, возникшая под эгидой Шарлотты и запечатленная в «Ифигении», в «Тассо». То увлечение шло от эрудиции, самопринуждения, просвещенности, оно родилось под влиянием утонченной женственности, и в нем, по сути дела, было нечто антиязыческое, антиприродное, между тем как следствием его пребывания в Италии было сращение понятий «античность» и «природа» в некое единое целое; в Италии, говорил он позднее, «дитя природы, которое до сих пор было стеснено
407
и сковано, обрело естественную освобожденность и снова стало дышать полной грудью».
Трудно переоценить, какое значение имело для него соприкосновение с языческой наивностью, с естественностью жизни южного народа. Он познал счастье цельности. «К тому же, — пишет он, — я увидел счастливых людей, которые только потому и счастливы, что цельны… Я тоже хочу и должен достичь этого… Такой жизни, какую я вел последние несколько лет, я предпочел бы смерть». Почти невероятно, что он пишет это в письме к госпоже фон Штейн, давая понять ей неизбежность разрыва до того, как он совершился. Между тем каждое написанное им в ту пору слово направлено против нее и ее идеальной сферы» «Теперь в трюме моего корабля достаточно груза, чтобы он имел глубокую посадку и равновесие; теперь мне не страшны более призраки, которые так часто играли мною». Что же противоположно миру призраков? Устойчивость. «Тот, кто вдумчиво посмотрит здесь вокруг себя и у кого есть глаза, чтобы видеть, должен стать устойчивым, должен обрести понятие устойчивости, которое никогда доселе не было столь жизнетворным». Устойчивым, языческим, классическим, наивным, «цельным» становится теперь и его представление о любви, в которой — если воспользоваться строкой из «Римских элегий» — «К страсти взгляд приводил, страсть к наслажденью вела». В 1795 году благородной Шарлотте пришлось это прочесть в напечатанном виде. Можно представить себе, как возвела она очи к небесам.
И еще одно обстоятельство способствовало становлению, созреванию его личности: я имею в виду соприкосновение с миром Средиземноморья, который в известной степени был ему родствен по крови, с миром, далеким от немецкого образа жизни и потому оказавшим на него благотворно-освободительное влияние, с историческим величием, которое отвечало его бессознательной тяге ко всему великому. Обо всем этом мы можем догадываться, пытаясь воссоздать его переживания. Несомненно, что именно в Италии созрел и сформировался этот урбанисти-
408
ческий гений, этот титан духа, этот европейский немец, в котором весь мир видит ярко выраженные немецкие черты, а его собственный народ — черты истинного европеизма.
Тридцати девяти лет Гете вернулся в маленькую тюрингенскую резиденцию герцога, уверившего поэта, что отныне на его долю останутся лишь почести высокого сана — и никаких обязанностей, точнее говоря, он будет осуществлять лишь самое общее руководство театром и учебными заведениями и располагать достаточным досугом, чтобы целиком отдаться творчеству. Замечательным человеком был этот маленький фараон, который разумом, инстинктом, чувством так хорошо понимал исключительность натуры своего Иосифа, — среди германских венценосцев он был единственным в своем роде монархом, заслужившим вечное уважение потомков. Любопытная подробность: согласно его распоряжению Гете, если бы он захотел принять участие в заседании Совета или Палаты герцогства, имел право занять кресло, предназначенное для самого герцога. И это — принимая во внимание, что министр Гете отнял у него 290 солдат из 600!
Итак, он возвратился к своим жалким провинциалам, сугубо утонченным и грубым, узколобым, мелкотравчатым и добродетельным жителям крохотной столицы крохотного государства, — возвратился иным, чем был прежде, когда покидал их; он обрел внутреннюю стойкость, цельность, опыт, уверенность в своих силах, он видел пропасть между собой и ими всеми, ибо, в сущности, был отныне одинок. Теперь стало необычайно трудно говорить о себе, раскрывать другим душу. Веймарцам кажется, что он либо держится банальных, общих мест, либо выражается странно, с невыносимой претенциозностью, так что его невозможно понять. Утрачен общий язык с прежними друзьями, все чувствуют исходящую от него холодность; как-то раз у него в доме собрались гости, и он, чтобы преодолеть неловкость, показывает им рисунки, но всем не по себе. Его доброта стала снисходительностью, сдержанно-любезной услужливо-
409
стью. Об этом свидетельствует Шиллер, который в первую зиму, проведенную им в Веймаре, почти не удостоился внимания Гете. «Он обладает даром обольщать людей и обязывать их перед собой большими и малыми знаками внимания, но сам при этом умеет сохранять полную свободу. Он щедро расточает благодеяния, но, как некое божество, никогда и никому не отдается сам». Слова эти принадлежат человеку, наблюдательность которого обострена обидой.
С этим свидетельством не расходится и высказывание мадам Гердер — Каролины Гердер, супруги знаменитого проповедника, теоретика искусства и собирателя народных песен, гетевского ментора по Страсбургу; Гете пригласил его в Веймар и назначил на должность генерал-суперинтендента. Она говорит: «Он решительно отвернулся от всех своих друзей. В Веймаре ему больше нечего делать». И еще она говорит, — несомненно, высказывая мнение всего Веймара: «О, если бы в его сочинениях было хоть немного чувства, если бы каждая его строка не дышала каким-то озорным распутством, или, как сам он любил это называть, фривольной общительностью». Она права, благонравная Каролина. Гете и сам сообщает своей прежней Эгерии, госпоже фон Штейн: «У меня все больше разных добродетелей, но я все менее добродетелен». Точнее не скажешь, — и огорчительнее также. Да, он не стал чувствительнее благодаря Италии, античности, общению с великим искусством. Теперь в его поведении, кроме холодного высокомерия, появилось еще и нечто весьма предосудительное: открытая чувственность, чувственность, не вызывавшая у него никаких добродетельно-христианских угрызений совести; он бросал вызов религиозной морали и ее уродливым светским формам, он вел себя как язычник, и был окрещен за это образованными (а образованными они были все!) отвратительной кличкой «Приап».
Именно тогда он, к ужасу Шарлотты фон Штейн, своей покинутой Ифигении, своей принцессы Эсте, которая в отчаянии ломала руки, а также к ужасу и негодованию всех порядочных и высоконравствен-
410
ных людей, завел любовную связь с маленькой цветочницей, весьма хорошенькой и весьма невежественной девушкой, un bel pezzo di carne1 по имени Христиана Вульпиус; связь эта, явившаяся дерзким нарушением всех приличий, лишь много лет спустя была освящена законным браком, но веймарское общество так никогда и не простило ни ему, ни ей. От Христианы Гете имел несколько детей, из которых лишь сыну Августу было суждено дожить до средних лет, что, впрочем, не принесло счастья ни ему самому, ни отцу, ибо этот несчастный человек был жалкой жертвой своих низменных страстей — пьянства и всяческого распутства; он обладал ничтожной душой, в которой, казалось, от рождения зрело истерическое отчаяние, — душой порывистой, грубой и слабой.
Физический облик его родителя, изменявшийся с течением времени, знаком нам по портретам, рисункам, силуэтам, а также по описаниям современников. Если в юности Гете напоминал щеголеватого Аполлона или, вернее, Гермеса (хотя ноги у него были коротковаты), то в первые годы нового столетия — а ведь он захватил такую часть девятнадцатого века, которой достало бы на целую человеческую жизнь, — тело его приобрело тяжеловесную дородность, начавшую развиваться уже в Италии. От природы черты его лица отличались правильностью и красотой, но с годами он обрюзг и располнел, щеки его отвисли. В старости он снова вернулся к своему юношескому облику, только теперь был уже не Аполлоном или Гермесом, а Юпитером, в котором, по слову Грильпарцера, сочетались царственная величавость и отеческая доброта: прекрасное лицо с великолепным, крутым, как утес, лбом, на который ниспадали мягкие и даже в старости густые, ежедневно заботливо завиваемые и слегка припудренные волосы; с неотразимо властными черными глазами, в которых сверкала живая мысль, если только блеск их не был притушен, как бы подернут
411
угрюмой усталостью. Одевался Гете всегда благородно, очень изысканно, немного на старинный манер. Зато, по мере того как он старел, в его поведении появлялось все больше чопорности взамен столь свойственной ему в юные годы царственности осанки; его степенная церемонность, старческая насупленность и светская условность манер были настолько серьезным препятствием в общении с ним, что собеседники зачастую видели в нем самого обычного образованного министра, каких много, и восторженные почитатели, ожидавшие лицезреть вдохновенного создателя «Вертера» и «Вильгельма Мейстера», нередко уходили от него глубоко разочарованными и отрезвленными. Так в нем все больше проступали свойства, унаследованные от отца, воскресал старый Иоганн-Каспар — его тупая педантичность и маниакальная страсть к порядку, его любовь к коллекционерству и удивительная многосторонность занятий. Не подлежит сомнению, что он сознавал в себе это проявление наследственности, правда, на более высокой ступени, и с усмешкой наблюдал за тем, как в нем возрождается старик отец, облагороженный его гением.
В ту пору, то есть между семьюдесятью и восемьюдесятью годами, он давно уже был не только поэтом, творцом «Вертера» и «Фауста», — он стал образом почти мифическим, живым воплощением западной культуры и человеческого величия, грандиозной фигурой властителя дум эпохи, к которому отовсюду, из всех европейских стран и даже из-за океана, устремлялись почитатели, взиравшие на этого полубога с благоговейным трепетом, а нередко и с физической дрожью. Те, кто носил очки, снимали их и оставляли в прихожей, — было известно, что поблескивание стекол внушает ему отвращение. Посетителей, которые немало попутешествовали и немало перевидали на своем веку, он обстоятельно допрашивал. «Постойте, — говорил он, — вот на этом мы задержимся»[76], — и требовал подробной информации. Ибо он стремился узнать все, хотел, чтобы все сосредоточивалось у него, желал присвоить себе все знания, которыми случайно обладали другие. У него эти
412
знания и в самом деле хранились
наиболее надежно. Посетитель, казавшийся чем-нибудь интересным и полезным для
его универсализма, получал приглашение к обеду, ел и пил всласть, меж тем как
хозяин вытягивал из него все, что ему было нужно. После этого гостю дозволялось
взглянуть и на коллекции, которыми был битком набит строгий особняк на
Фрауэнплане, подарок герцога, ставшего позднее Великим герцогом, — ознакомиться
с гравюрами, медалями, минералами, античными редкостями. «У меня, — говорил
старик, — хранятся монеты всех пап от пятнадцатого века до наших дней. Это
необходимо для истории искусства. Я знаю всех граверов. Все, что греки создали
в области чеканки до
Он был одним из самых всеобъемлющих, самых всесторонних дилетантов, когда-либо существовавших на свете, своего рода пандилетантом, и его нимало не тревожило, когда кто-либо говорил ему, что из-за всех его бесчисленных увлечений физикой, ботаникой, остеологией, минералогией, геологией, зоологией, анатомией и так далее, не говоря уже о пластических искусствах, — мог остаться в накладе его поэтический гений, самое в нем существенное. Возможно, он думал в подобных случаях так: «Почем знать, быть может, поэзия и есть любительство, а существенно нечто совсем иное, — целое?» Он написал «Учение о цвете», уже в первом варианте которого его друг Шиллер увидел «многие важнейшие принципы всеобщей истории науки и человеческого мышления». И в самом деле историческая часть этого труда в полном соответствии с намерением Гете стала неким подобием истории всех наук, своеобразным романом о европейской мысли, охватывающим несколько тысячелетий.
Своим огромным влиянием на современников и потомков Гете, несомненно, обязан прежде всего своему обширному и блистательному поэтическому творчеству. Но столь же несомненно и то, что его
413
«пандилетантизм» и всесторонние научные увлечения немало способствовали его славе мудреца и мага, тому владычеству над умами, которое находит выражение в обращениях к нему некоторых его корреспондентов. Французы называли его в. письмах «Monseigneur» — так, по существу, титулуют принцев королевского дома. Один англичанин писал: «Его Светлости князю Гете в Веймаре». — «Наверное, — объяснял великий старец, — это связано с тем, что меня любят называть князем поэтов». Когда он скончался, немцы — даже те, кто не прочел ни единой его строчки — говорили друг другу: «Ты слышал? Умер великий Гете». Это звучало примерно так: «Умер великий Пан».
Он неоднократно заявлял, что таланту нужна «здоровья физическая основа», несомненно, имея в виду себя. Но он говорил также и о «слабой конституции тех, кто создает выдающиеся вещи», указывая на сочетание деликатности и силы, являющейся особым свойством гениальной натуры, и опять-таки имел в виду себя. В самом деле, даже когда он, казалось бы, ничем не хворал, его здоровье было шатко и неустойчиво, он был подвержен недомоганиям, а время от времени тяжелые болезни приводили его на край могилы; пятидесяти двух лет он перенес рожу, осложненную мучительным судорожным кашлем, и после этого долго не мог оправиться от нервной слабости; четыре года спустя — «грудную лихорадку» (воспаление легких), тоже сопровождавшуюся судорогами, — не говоря уже о ломоте в суставах, о приступах каменной болезни, из-за чего ему еще в молодости пришлось лечиться на водах в Богемии. Очень тяжелое состояние пережил он осенью 1823 года, в возрасте семидесяти четырех лет; он испытывал крайний упадок сил и, казалось, совсем ушел в себя. Это была реакция на мариенбадское страстное увлечение, прощание с любовью, и хотя болезнь, вызванную этой реакцией, нельзя было определить, все же она едва не свела его в могилу.
Одним словом, он поддерживал с жизнью весьма непрочную дружбу, но ему очень нравилось щеголять
414
этой дружбой, преизбытком своих жизненных сил, изображать из себя кряжистого сына природы, могучий дуб, корни которого уходят глубоко в землю, и похваляться своим долголетием. Жил он как истый здоровяк: любил много и вкусно поесть, заботился о своем аппетите, питал пристрастие к пирожным и всяким сладостям и по нашим понятиям был почти что алкоголиком — ежедневно за обедом выпивал целую бутылку вина, да к тому же еще несколько рюмок наливки за завтраком и с десертом. В то время это считалось умеренным. Он с пренебрежительной насмешливостью отзывался о людях, не отличавшихся жизненной силой или неспособных бороться за свою жизнь до последнего вздоха. Так, в восемьдесят один год он сказал: «Вы слышали, умер Зёммеринг [известный немецкий анатом], а ведь ему не было и семидесяти пяти. Как ничтожны люди, если у них нет мужества дольше продержаться! Вот кого я хвалю, так это моего друга Бентама [английский экономист и утилитарист], он в высшей степени радикальный глупец, но отлично держится, хотя и старше меня на несколько недель!»
В данном случае мы имеем дело с шутливым выражением своеобразного жизненного, естественного аристократизма, в действительности являвшегося важнейшим элементом самосознания Гете. Им же объясняется и его насмешливое отношение к «радикализму» Бентама, который он считает глупостью. Ибо когда собеседник возразил ему, что, если бы его превосходительство родился в Англии, он бы, наверно, тоже стал радикалом и боролся против злоупотреблений в правительстве, Гете с мефистофельской усмешкой ответил: «За кого вы меня принимаете? Чтобы я стал вынюхивать злоупотребления, да еще раскрывать их и предавать огласке, я, который в Англии сам жил бы этими злоупотреблениями? Ведь если б я родился в Англии, я был бы богатым герцогом или, скорее, епископом с годовым доходом в тридцать тысяч фунтов стерлингов». Ну, а если б он вытянул не главный выигрыш, а пустой билет? Ведь пустышек куда больше! На что Гете возражает:
415
«Не всякий, милейший, создан для главного выигрыша. Неужели вы думаете, что я имел бы глупость вытащить пустой билет?» Это — гордыня, похвальба своей удачливостью, непререкаемое сознание собственного аристократизма. Из этих его слов с непреложной ясностью вытекает, что факт своего рождения и проживания в Германии он рассматривает как жалкое скупердяйство судьбы по сравнению с тем, что ждало бы его в Англии. Главное — это метафизическая уверенность в том, что при всех обстоятельствах ему был предназначен славный удел, что при всех обстоятельствах он был бы аристократом, баловнем судьбы и великим человеком, что ему всегда было бы хорошо в этом мире, развращенностью которого пристало возмущаться только неудачникам.
Гете любил одно выражение, которое логически вообще несуразно, но которое слетало с его уст с аристократической естественностью и непререкаемостью: он говорит о «прирожденных заслугах». Что сие значит? Ведь это нелепость, нечто вроде «деревянного железа». Заслуги не могут быть прирожденными, их надо добиться, завоевать, а все прирожденное — не заслуга, разве только мы лишим слово «заслуга» всех связанных с ним нравственных понятий. Однако именно к этому он и стремится. Его излюбленное выражение — вызов всякой нравственности, всякому волевому усилию, целеустремленности, напористости, борьбе; все это в лучшем случае похвально, но лишено аристократизма и в основе своей, по его мнению, бесперспективно. «Чтобы что-то создать, — утверждает он, — надо чем-то быть». Иначе говоря, заслуга (равно как и вина) в esse, а не в ореrari1, и главное не мнения, слова или поступки, а данное от рождения, некая субстанция; так что человек может стоять за правое дело, и все же это будет неправильным, ибо он не имеет на то прирожденного права. Вот самая изящная форма, в которую он облек свою веру в аристократизм, даруемый самой природой: «Один человек сказал мне: если бы
416
только не так трудно было думать. Но в том-то и беда, что, сколько бы ни думать, это не поможет думать, нужно чтобы природа нас правильно создала, дабы хорошие замыслы представали перед нами как истые дети божьи и кричали нам: вот мы!»
Природа! Он мало что воспринял от отца, хотя в нем, в сублимированной форме, и повторились некоторые черты отцовского характера; он — сын своей матери, сын фрау Айя, которая отказала ему «веселость Линдгеймерши», он любимец и баловень великой матери, праматери-природы. К ней он тянется, в нее верит, к ней исполнен благодарности. Отсюда его радостное приятие философии Спинозы, которую он с любовью впитал еще в юности и верность которой сохранил до могилы. Его привлекает идея совершенства и необходимости всего сущего, представление о мире, свободном от конечных целей, где добро и зло имеют равное право на существование. «Мы боремся, — заявляет он, — за совершенство искусства в себе и для себя. Те (то есть моралисты) заботятся о воздействии произведения на внешний мир, но художник помышляет об этом не больше, чем природа, когда она создает льва или колибри». Таким образом, высшая истина для него — бесцельность творения искусства и творения природы, а свой врожденный поэтический талант он рассматривает как нечто «тождественное природе», как дар всеблагой матери, которая равно бесстрастно объемлет и злое и доброе. Таковы истоки его юношеской влюбленности в Шекспира; впоследствии натурфилософская эстетика Гете и его антиморалистичность оказали сильнейшее влияние на Ницше, философа аморализма, который пойдет еще дальше и будет экстатически утверждать превосходство зла над добром, преобладающее значение зла для развития и торжества жизни. У Гете еще все сохраняет более спокойное счастливое равновесие, все воплощено в объективных, пластических образах. Но его обожествление природы, его спинозийский пантеизм рождает не только доброту, смирение и внутреннюю умиротворенность,
417
не только непротивление и терпимость, но и холодность, его неспособность к энтузиазму и высоким порывам, за что многие упрекали его, презрение к идеям, ненависть к абстракции, которая, как ему кажется, умерщвляет всякую живую жизнь. «Общие понятия и неумеренное самомнение, — гласит один из его афоризмов, — всегда чреваты ужасающей катастрофой». Эту фразу можно рассматривать как девиз к его отрицанию французской революции, которая страшила его; это всемирно-историческое событие его мучило, как ничто другое в жизни, и едва ли не стоило ему таланта, хотя он сам способствовал ее подготовке своим сенсационным «Вертером», тем созданием своей юности, неприкаянная чувствительность которого потрясала основы старого общества и который был пророчески устремлен в грядущее.
Его отношение к революции с поразительной точностью повторяет отношение к реформации Эразма: бесконечно много сделав для того, чтобы расчистить ей путь, он потом отверг ее с гуманистическим dégoût1. Гете с неодобрением сопоставил оба эти великие «бесчинства» в знаменитом двустишии:
Дух французский, как встарь лютеранства дух, оттесняет
В наши смутные дни труд просвещения вспять.
Труд просвещения с его ясностью и спокойствием! С великим роттердамцем Гете связывала эта любовь, этот квиетизм, это неприятие всяких вулканических потрясений; приведенное двустишие не оставляет никаких сомнений (если бы таковые вдруг возникли) относительно того, какую позицию занял бы Гете и как бы он вел себя в XVI веке; он бы, безусловно, воспротивился бунту личности, субъекта, и стал на сторону консерваторов, объективной силы, церкви. Все же, вероятно, и он подобно Эразму отверг бы кардинальскую митру, которую папа предложил великому ученому и которую последний отклонил, приведя в свое оправдание различные хитроумные аргументы[77], — отклонил потому, что не желал себя
418
связывать ни со старым, ибо в глубине души больше не верит в него, ни с новым, ибо оно была для него слишком варварским. Однако и политическое охранительство Гете было весьма ненадежного свойства, и когда некий барон фон Гагерн в 1794 году выпустил воззвание, призывавшее немецких литераторов поставить свое перо на службу «благому», то есть консервативному делу, точнее говоря — новому союзу немецких князей, предназначенному спасти страну от «анархии» (теперь бы сказали — от большевизма), фаворит Карла-Августа, учтиво поблагодарив за оказанное доверие, ответил, что по его мнению «князьям и писателям объединиться для совместной деятельности невозможно»[78].
Подобное же стремление уйти от острых проблем, избегнуть крайностей мы видим: и у Эразма. В высшей степени поучительно сопоставить этих знаменитейших людей разных эпох, сходное их отношение к времени, в которое они жили. Но сравнение это не в пользу восхитительно ироничного автора «Похвалы глупости». Подобно тому как его растворенная в риторической литературности изящная ирония, его красноречивая, но в сущности худосочная духовность не выдерживает сопоставления с напористостью и энергией, баварской земной силой и мощной простонародностью его современника Лютера, точно так же не выдерживает она сравнения с высокоинтеллектуальной личностью Гете, который был и Эразмом и Лютером вместе, в котором сочетались урбанистическое начало и демонизм, — сочетались столь пленительно величаво, как никогда более в истории цивилизации; народно-немецкое начало у него образует совершенно естественный, классически простой синтез со средиземноморско-европейским, что соответствует объединению в его натуре гениального и рассудочного, тайны и ясности, невыразимости эмоционального порыва и отточенного слова, поэзии и прозы, лиризма и психологичности. Его облик приобретает черты чудесного совершенства, с чем не может сравниться царственная ученость Эразма несмотря на всю ее просветленность; Гете — образец
419
и пример прежде всего для немцев, ибо в нем воплощен идеал немецкой нации и, хотелось бы добавить, — идеал человека.
И все же во многих современниках, в достойнейших из них, он вызывал горькую досаду; причиной тому были исходящая от него «колоссальная сила торможения», как выразился Берне, его аполитичность, его мощное противодействие основным движениям эпохи — национальному и демократическому. Он был против свободы печати, против участия масс в управлении, против демократии и конституции, он был убежден, что «разумно только меньшинство», и открыто держал сторону министра, который, замкнувшись в независимом одиночестве, осуществляет свои планы вопреки воле народа и монарха. Правда, он испытывал сердечное влечение к отдельной личности, и ему, как он сам признает, достаточно было взглянуть в лицо человеку, чтобы излечиться от уныния; но у него почти или даже вовсе не было гуманистической веры в человека, в род человеческий, в очистительную бурю революции, в лучшее будущее. Нельзя внушить людям разум и справедливость; маятник истории будет колебаться вечно, и несть конца войне и кровопролитию, — пусть бы он говорил так хотя бы с пессимистической горечью! Но, в сущности, это ему вполне по душе, ибо ни в какой степени ему не свойствен пацифизм. Напротив, его пленяет сила, борьба, «пока не обнаружится превосходство одного из противников», и он вполне мог бы сказать, как Вотан у Вагнера: «Где буйные силы клокочут, открыто зову я к войне». Он признается в том, что на него «наводит тоску жизнь со всеми в мире», что ему «нужна вражда». Что и говорить, это вовсе не похоже на христианское миролюбие, зато вполне по-лютеровски и к тому же по-бисмарковски. Можно было бы многое рассказать для характеристики его боевого пыла, его страсти «соваться в драку», его готовности силой затыкать рот противникам и «удалять таких людей из общества». От всего этого два шага, а то и меньше, до брутальности, проявлением каковой, в сущности, и был его практицизм, его отри-
420
цание идеальных и возвышенных побуждений, чувственность его натуры, в силу которой разграбление крестьянского двора он воспринимал как нечто реальное и вызывающее участие, а «гибель отечества» — как пустую высокопарную фразу.
Для патриотов, стремившихся воспитать Германию для борьбы за политическую свободу, хуже всего, печальнее всего было то, что неоспоримое величие Гете придавало его «тормозящим» воззрениям столь авторитетную весомость. В Германии величие часто имеет гипертрофированный, антидемократический характер; между гением и толпой образуется пропасть, «пафос дистанции» (если воспользоваться любимым выражением Ницше) в таком масштабе, какой неведом в других странах, где величие не создает раболепия на одном полюсе и предельной абсолютизации своего «я» — на другом. Величавая старость Гете имела немало черт этого самовластия и индивидуалистического империализма; невыносимо тяжким было давление этой старости на все, что дышало и жило рядом с ним, и после его кончины раздалось не только рыдание нимф, оплакивавших великого Пана, но и недвусмысленный вздох облегчения.
Он считал, что несвободный человек не может быть надежным стражем свободы, и потому сам тем больше и тем охотнее пользовался ею, — всеобъемлющей, до неуловимости, до невыразимости широкой свободой, свободой Протея, принимающего всевозможные формы, стремящегося все познать, все понять, всем быть, перепробовать все обличья hic et ubique1. Романтическое и классическое, готика и Андреа Палладио, исконно немецкий дух и высокомерное отрицание патриотически-простонародного духа, язычество и христианство, протестантство и католичество, Ancien régime2 и американизм — все это можно обнаружить в нем, все это в нем воплощается; ему свойственно какое-то царственное вероломство, которое забавляется тем, что предает своих
421
сторонников, посрамляет защитников любого принципа, осуществив до конца и данный принцип, и — противоположный ему. Да, в этом есть нечто от иронического владычества над миром, озорная измена одной идее во имя другой, глубокий нигилизм, объективизм искусства (равно как и природы), не склонный разграничивать явления и оценивать их, некий стихийный демонизм, нечто ускользающее от всякого однозначного определения, некий элемент отрицания и всеобъемлющего сомнения, благодаря которому он, если верить окружавшим его людям, любил произносить суждения, в которых уже содержалось и внутреннее отрицание утверждаемого. Видимо, это так, в противном случае разве имела бы основание Шарлотта Шиллер заявить: «Он сделал ставку на ничто»? Те, кто общался с ним, отмечают его пугающее равнодушие и невероятный нейтрализм, его удивительную озлобленную нелогичность и мефистофельский дух отрицания, короче говоря, противоречивость, на которую он заявлял право, отнюдь не допуская ее в других. «Если я должен выслушать чье-либо мнение, — требовал он, — оно должно быть высказано в положительной форме; противоречивых проблем у меня у самого вполне достаточно». Стало быть, будь начеку и высказывайся с недвусмысленной определенностью. Он, правда, подумает, как думал всю жизнь: «Эх, милые мои, если б только вы были не так глупы!» — но не станет возражать вам.
Однако богатству и широте его натуры, которые могли вызвать трепет ужаса только у посредственности, не следует приписывать чрезмерно демонический характер; следует понять, что он был не вымученной книжной схемой, а человеком с присущими ему противоречиями, — великим человеком со свойственными ему великими, зияющими противоречиями. Он любил называть себя «убежденным нехристианином», он не таил своей антично-высокомерной неприязни к «кресту», и действительно, в его слитости с природой и решительной посюсторонности немало антихристианского элемента, который будет доведен до предела в патетических памфлетах Ницше, напра-
422
вленных против религии сострадания. Но подобно тому, как страстное наступление Ницше на христи- анскую мораль не предполагает отрицания аскетизма, так и пресловутое язычество Гете нисколько не опровергает того факта, что его образ мыслей определен этим глубочайшим переворотом (или, точнее говоря, мутацией) из всех, какие когда-либо пережили человеческое сознание и мироощущение. «Во всяком страдании есть нечто божественнее». Тот, кому принадлежит это изречение, — христианин, пусть даже тысячу раз верно то, что смирение и терпение — не его удел.
Когда б аллах судил мне быть червем,
Тогда червем аллах меня бы создал.
Что и говорить, верно.
В чем разоренье?
В долготерпенье.
Отлично. Человеку дано в жизни выбрать, быть ли ему «молотом или наковальней», — он и это утверждал со всею решительностью. При всем том он весьма высоко ставил героическую доблесть терпения и в беседе однажды сказал: «Человеку кажется более почетным и желанным быть молотом, а не наковальней, и все же какой необычайной внутренней силой нужно обладать, чтобы выдержать эти бесконечные, неумолимо повторяющиеся удары». Не так ли обстоит дело и с самоотречением, которое чем дальше, тем больше становится центральной темой его творчества, подобно тому как у Шиллера таковою стала «свобода», а у Вагнера — «искупление»? Едва ли кто-либо сочтет самоотречение идеей языческой. И хотя он не пацифист, хотя он стоит за силу и победу сильного, он понимает, что такое война: «На самом деле война — это болезнь, при которой соки, предназначенные сохранять здоровье и поддерживать организм, используются лишь для того чтобы питать нечто инородное, противоестественное».
Его христианство как естественная составная часть его личности, в той мере, в какой оно не
423
заглушено античным гуманизмом, равно как и германским упрямством, окрашено в протестантские тона. Он протестант по культуре, — ведь такое произведение, как «Страдания юного Вертера», было бы невозможно, если бы его автор не прошел долгой школы пиетистского распознавания собственной души. Его приверженность Лютеру неподдельна и глубока; здесь сказывается некая национальная и личная близость натур, некое узнавание родственной души. Еще юношей он сообщил герою своего «Фауста» черты Лютера — переводчика библии и неизменно высоко ценил труд его жизни, который он принял в наследство, продолжил и усовершенствовал, заявив: «Разве что нежность ее я взялся бы передать лучше». Но его протестантизм, как и все, что в нем живет и что он воплощает в себе, сугубо непрочен: душа его открыта восхищению католическими формами жизни, и не столько эстетическим превосходством католицизма, сколько силой его демократической общинности. «Нужно стать католиком, — восклицает он, — чтобы приобщиться к жизни людей. Чтобы стать таким же, как все, смешаться с толпой на ярмарке, на площади. Какие же жалкие, одинокие люди мы, жители маленьких самодержавных государств». И он превозносит Венецию как памятник, воздвигнутый не властелином, а народом. Где же его германский аристократизм? Где сила его протестантского самоотречения, когда он — в конце «Фауста» — тешит себя (уж не потому ли, что не может найти ничего другого?) оперной картиной благоухающего ладаном католического неба с Mater gloriosa[79], великомученицами, блаженными отроками, хорами ангелов, Pater profundus и Pater Seraphicus[80]? И это еще не самое худшее, ибо в «Избирательном сродстве» он делает настолько большую уступку католицизму, что позволяет себе в самом сердце протестантского мира измыслить святую, к мощам которой устремляется уверовавший в чудеса лютеранский люд! К тому же стихийный фатум, властвующий над людьми в этом замечательном романе, вообще не имеет ничего общего с христианством, ибо распространяет свое дей-
424
ствие и на загробную жизнь, в которую, впрочем, ни один из его персонажей не верует. Финальный эпизод — радостное пробуждение от смертного сна молодых людей, обреченных любить друг друга, — всего лишь последний примирительный аккорд.
Ум Гете ничем нельзя связать, ничем нельзя ограничить. Вы с полным правом можете приписать ему какой-либо образ мысли или существования, но, пораздумав, придете к выводу: да, он таков и в то же время ему свойственно нечто прямо противоположное. Это касается его нравственного бытия, взять хотя бы его отношение к времени; оно отличается удивительной неторопливостью — он выжидает, все откладывает, предается досугу и даже безделью, ведет пассивное растительное существование, вверяя себя во власть времени; и наряду с этим ему свойствен истинный культ времени, он трепетно хранит дар времени, бережет, использует до конца, обожествляет его, руководствуясь девизом:
Я сказочно богат, и жизнь моя счастлива.
Мой клад, о время, ты — распаханная нива. —
и другим девизом: «Le temps est le seul dont l’avarice soit louable»1. То же самое, как ни парадоксально, можно сказать и о его художественном творчестве, где он оказывается великим объективным поэтом, носителем аполлонийской иронии — и в то же время лириком, который исповедуется kat’exochen2, вечно черпает лишь из самого себя, вечно раскрывает лишь свою душу и именно благодаря этому романтическому субъективизму оказал наиболее сильное влияние во Франции. В самом деле, есть все основания говорить о том, что его творчество — исповедь, более того — удивительно беспощадное покаяние. Ибо как раскрывает он читателю свою душу? Раскрывая душу несчастных и слабых своих героев. Самоубийца Вертер, предатель Клавихо, истерик
425
Тассо, безудержный Эдуард, простодушный до глупости Фернандо в «Стелле», — невольно спрашиваешь себя, почему их создатель при всем этом считает нужным насмехаться над «лазаретной поэзией» и требовать, чтобы ее заменила поэзия тиртейская (восторженно-гимническая). Ведь и все созданное им есть не что иное как лазарет, — ибо все это психология, исповедь, раскрытие «человеческого, слишком человеческого». В отношении примерной мужественности и величественной цельности характера даже Мейстер и Фауст оставляют желать лучшего, — тем, кому это так важно.
Однако если многообразный художественный мир Гете и не слишком мужествен (творчество Шиллера значительно мужественнее), зато он человечен в самом честном, открытом, прямом значении слова, и при этом или как раз благодаря этому в любом слове, в каждом обороте мысли отмечен такой печатью личного обаяния, какую нелегко встретить в обширных владениях творческого духа[81]. Говоря об этом, больше всего хочется сослаться на «Эгмонта» — пьесу, против драматургических и вообще художественных свойств которой можно выдвинуть немало возражений, но в которой нарушения всех правил театра так превосходно гармонируют с характером героя, этого аристократа и в то же время простолюдина, этого преступно беззаботного grandseigneur’a1, демонически ветреного любимца богов и людей, ибо на этой фигуре поэт концентрирует весь интерес драмы и в ней, как мне кажется, специфическое гетевское обаяние достигает своего наивысшего предела, быть может, в особенности в его отношении к Клерхен, весьма далеком от страсти, полном нежности и не свободном от самолюбования, в его ласковой привязанности к этой девочке из народа, родной сестре Гретхен, которой он в один прекрасный день — только ради того, чтобы насладиться ее детски восторженным изумлением — является в костюме испанского гранда с орденом Золотого руна. Здесь мы
426
снова встречаемся с некоей самовлюбленностью Нарцисса, с эротизмом, как нечто глубоко пленительное воспринимающим покорение простосердечной смиренницы пришельцем из блестяще-чуждого мира духа и любви, пришельцем, слишком уж легко вытесняющим из ее сердца добропорядочного бюргера, ее возлюбленного и жениха. Здесь чувствуется раскаяние искусителя, который не помышляет о браке, который вечно любит, но никогда не хочет себя связывать…
Любовная биография Гете, — что может быть удивительнее ее! Образованный человек должен знать все его увлечения, каждый немецкий бюргер обязан был уметь их перечислить, как любовные похождения Зевса. Все эти Фредерики, Лотты, Минны и Марианны стали мраморными изваяниями, которые установлены в нишах собора, именуемого человечеством, и это хорошая награда за то, что переменчивый гений, порою падавший к их ногам, так мало стремился сделать из своих любовных приключений серьезные выводы для своей жизни, для своей свободы, — награда за его неистребимую ветреность и за то, что его сердечные увлечения были лишены положительных намерений, его верность была неверной, его влюбленность была средством для достижения определенной цели, средством для творчества. Те, кто способен принимать всерьез лишь жизнь, человеческую жизнь, не могут понять человека, для которого творчество и жизнь составляют единое целое. Но он указывает им на это. «Вертер должен, должен существовать! — пишет он Лотте Буфф и ее супругу. — Вы его не чувствуете, вы чувствуете только меня и себя…» «Если бы вы могли чувствовать хотя бы тысячную долю того, чем является Вертер для тысяч сердец, вы не считались бы с потерями, которые вам приходится нести во имя его!» Все они несли потери, вольно или невольно.
Стихи он писал с самой ранней юности — в игриво-анакреонтическом, французском духе, талантливо и традиционно. Поэтом он стал в Страсбурге под влиянием Гердера, его гений вспыхнул ярким
427
пламенем после того, как он соприкоснулся с Гомером, Макферсоном-Оссианом, Шекспиром, которым он безгранично восхищался всю жизнь и ставил много выше себя, с библией как творением поэзии и прежде всего с народной песней, — его лирика обретает здоровье и силу, погружаясь в эту чистую, свежую, как роса, влагу, в этот струящийся из сердца народа целительный поток языка и ритма. Благодаря своим знаниям, уму, острому чувству необходимого, Гердер мог бы стать в центре литературно-революционных страстей; тогда, в начале семидесятых годов, все в Германии только и ждали творческого призыва. Но ему недоставало того, чем обладал его ученик, Гете, который был моложе его на пять лет и по незрелости своей склонен был смотреть на себя лишь как на простую планету в созвездии Гердера: волшебной силы божественной благодати, таинственного всепобеждающего обаяния личности. Оказалось, что солнцем, вокруг которого суждено было вращаться духовной жизни Германии, был Гете, и Гердер, мне кажется, рано это почувствовал и никогда не мог вполне подавить в себе чувство горечи, вызванное таким оборотом событий. Его отношение к юноше, питавшему к нему смиренное почтение, характеризовалось вечными ядовито-колючими издевками, насмешками над его именем, которое, как он говорил, с таким же успехом могло происходить от слова «Kot» (дерьмо), как и от «Gothen» (готы) и «Götter» (боги), над тем, что ему не хватает остроумия и хорошего вкуса, над его чопорностью, и трудно сказать, где тут кончался воспитательский пыл и где начиналась мстительность, более того — какая-то глубокая любовь-ненависть; и наконец, в старости, он окончательно восстановил против себя своего великого почитателя необдуманной шуткой; по поводу его действительно несколько скучной драмы «Побочная дочь» он сказал: «Твой побочный сын нравится мне больше» — и этими словами положил конец стародавней дружбе. В наши дни едва ли можно представить себе, какую сенсацию, какое ликование вызвало в ту пору
428
весны бурных гениев, в эпоху бури и натиска, потрясших души и поэтическую форму, такое стихотворение Гете, как «Свидание и разлука»:
Душа в огне, нет силы боле,
Скорей в седло и на простор.
Уж вечер плыл, лаская поле,
Висела ночь у края гор.
Уже стоял, одетый мраком,
Огромный дуб, встречая нас;
И тьма, гнездясь по буеракам,
Смотрела сотней черных глаз1.
Как все это было ново, сколько здесь чудесной свободы, мелодичности и красочности, как под бурным порывом этих ритмов летела пудра с рационалистических париков! Подобное же впечатление произвела историческая драма «Гец фон Берлихинген», эти исполненные шекспировской мощи клокочущие жизнью картины из немецкого средневековья, в которых Фридрих Великий увидел всего лишь нечто бесформенно-хаотическое и которые во всех концах Германии вызвали не только радость по поводу дерзкого нарушения косной поэтической рутины, но и чувство «национального удовлетворения», о чем с большим изяществом повествуется в «Поэзии и правде». И, наконец, первые сцены «Фауста», только что из-под пера поэта, — о, мы охотно верим тому, что друзья всплескивали руками от изумления, видя, «как этот малый растет на глазах». Однако «Страдания юного Вертера», роман в письмах, с самого начала не был достоянием тесного круга друзей или единомышленников, какого-либо одного литературного направления и даже всей Германии: мир завладел им, он завладел миром. Своей сокрушительной, парализующей силой чувства эта маленькая книжка, внушившая ужас и отвращение блюстителям нравственности, хотя в ней было столько проникновеннейшей поэзии природы и юношеского порыва к бесконечности, вызвала переходящую всякие границы бурю восторга, всеобщее опьянение, лихорадку,
429
экстаз, охвативший всю обитаемую землю; она была той искрой, что, попав в пороховую бочку, мгновенно развязывает опасные силы. Несомненно, весь мир был хорошо подготовлен к тому, чтобы принять ее. Казалось, будто читатели всех стран втайне, неосознанно только и ждали чтобы появилась книжка какого-то еще безвестного молодого немецкого бюргера и произвела переворот, открыв выход скрытым чаяниям целого мира, — не книжка; а выстрел прямо в цель, магическое слово. Наполеон, железный человек, «муж судьбы», не расставался с «Вертером» во время египетского похода и, по собственному признанию, семь раз перечитал его.
Гете-писателю никогда больше не пришлось пережить столь бурный успех. Его, творчество, этот глубокий след, оставленный на дороге бытия его жизнью, никогда больше не вызывало восторга толпы, как в начале его писательского пути. Безграничной холодностью встретила немецкая общественность тот поворот к классицизму, который приняло искусство Гете в «Ифигении» и «Тассо». Чарующий, почти пикантный, контраст между классической формой и поэтической задушевностью и смелостью содержания не был осознан. Правда, его «Вильгельм Мейстер» пользовался широким, исключительным по тем временам, успехом, что дало повод представителю высшей сферы тогдашней немецкой культуры — романтического движения — сказать: «Французская революция, “Наукоучение” Фихте и “Вильгельм Мейстер” — три величайших события нашей эпохи»[82]. Но как ни многообразно было литературное потомство, сужденное классическому немецкому «роману воспитания» (и восходящее от Штифтера и Келлера к «Волшебной горе»), все же по зажигательному воздействию на современников он уступал «Вертеру», а еще более скромной была судьба натур-мистического психологического романа, созданного Гете в шестьдесят лет. Образы «Избирательного сродства», хотя они вполне жизненны и индивидуально убедительны, в то же время являются символами, шахматными фигурами,
430
приводимыми в движение автором, который, передвигая их, разыгрывает некую возвышенную философскую партию. И все же именно в связи с этой книгой была дана современникам одна из самых живописных и восторженных характеристик гетевской прозы. Эта оценка принадлежит другу Гете, берлинскому хормейстеру и композитору Целътеру, который, прочитав «Избирательное сродство», написал автору: «Когда я слышу некоторые симфонии Гайдна, их вольное, безудержное движение внушает мне такое чувство, будто кровь моя стремительнее и веселее струится по жилам. Я испытываю нечто подобное, когда читаю ваши романы, и такое же ощущение охватило меня, когда я сегодня прочел ваше «Избирательное сродство». Под вашим пером оживает прихотливая и загадочная игра природных сил, в которой участвуют явления мира и фигуры, искусно расставленные и передвигаемые вами, — пусть даже в эту игру вторгается все то, что существует на свете или только нарождается на свет. Этому как нельзя лучше способствует ваш слог, похожий на прозрачную водную стихию, проворные и стремительные обитатели которой, то поблескивая в лучах солнца, то темнея в глубине, снуют вверх и вниз, не утрачивая направления, не теряя друг друга. Читая такую прозу, можно стать поэтом, и я готов поклясться, что мне не написать ни одной подобной строки». Только музыкант мог дать такую радостно-светлую критическую оценку точности и живости гетевской прозы, волшебству ее ритма — разумному волшебству, представляющему собой прозрачнейший сплав противоположных начал: эроса и логоса.
Первое издание «Западно-восточного дивана», содержащего бесценные жемчужины поздней гетевской лирики, читатели вообще не раскупили[83], — оно мертвым грузом осталось на прилавках книжных магазинов. Закончив вторую часть «Фауста», — закончив, если и не завершив, этот труд (ибо завершить его было невозможно), — великий старец, с трогательным самоотвержением не пожалевший последних сил на любимое дело, спрятал рукопись под замок: при
431
жизни своей он «эти серьезные шутки» не хотел показывать никому: ни многочисленным «пользующимся его искренней признательностью» друзьям, ни, тем более, широкой общественности, ибо, говорил он, «наши дни так нелепы и сумбурны, и мне часто приходится убеждаться, что мои честные давнишние усилия над построением этого необычного здания плохо вознаграждаются и лежат на берегу, как обломки погибших кораблей, засыпаемые гравием времени». — Мы видим, что слог Гете до конца сохранил всю образную мощь юности, обогатившись какой-то почти мистической проникновенностью, величавым и волнующим достоинством старческой, уже умирающей, уже уходящей из мира живых творческой мудрости.
Он оказался прав. Усилия всей его жизни, направленные на создание этого «необычного здания», были дурно вознаграждены, ибо если на долю первой, юношеской, части выпала своеобразная «цитатная популярность» — по крайней мере в среде образованного немецкого бюргерства, то вторая, несмотря на все уважение, которым она пользуется, восхищение, которое она вызывает, филологические изыскания, объектом которых является, — вторая часть не снискала себе любви читателей; в ней неизменно видели нагромождение холодных непонятных аллегорий, классическое «национальное достояние», ничего не говорящее ни уму, ни сердцу. Почему? Этого я никогда не мог понять или, во всяком случае, давно уже не понимаю[84]. Разумеется, можно высказать немало критических замечаний нравственного и даже эстетического порядка об этом «ни с чем не соизмеримом» произведении (но ведь несоизмеримость-то и есть всегда самое интересное!), об этом грандиозном, но вместе с тем вполне обозримом, вполне доступном разуму создании эпохи, представляющем собою наполовину феерию, наполовину мировой эпос, охватывающий три тысячи лет всемирной истории: от падения Трои до осады Мессолунги, — эпос, в котором бьют все родники немецкого языка; каждый его эпи-
432
зод так изумителен, так блестящ, отличается такой словесной выразительностью, мудростью и остроумием, таким глубокомыслием и величием, озаренным влюбленностью в искусство, веселостью и легкостью (чего стоит хотя бы юмористическая трактовка мифа в сцене на Фарсальских полях и у Пенея, или легенды о Елене), что каждое прикосновение к этой поэме восхищает, изумляет, одухотворяет нас, прививает вкус к искусству… Да, это удивительное творение заслуживает любви в гораздо большей степени, чем благоговейного уважения, и, читая его, испытываешь непреодолимое желание написать совершенно непосредственный, ничуть не филологический, практически необходимый комментарий к «Фаусту», отбить у предубежденного читателя страх перед поэмой, которая пленительна и там, где автор только-только сводит концы с концами.
Впрочем, некоторые сцены из второй части «Фауста» увидели свет еще при жизни Гете; он опубликовал эпизод с Еленой и имел возможность прочесть отзывы о нем в крупнейших иностранных журналах — французских, шотландских, русских. Фактически все, что он выпускал, давно уже ощущалось и принималось ведущими критиками как явления мировой литературы, и он создает этот термин, утверждает его, наполовину как факт, наполовину как требование к будущему; в значительной мере это является выражением его тяги к мировым масштабам, тяги, которая к старости все больше в нем усиливается (что вполне понятно у писателя, творческий путь которого начался поразительным успехом «Вертера»), и в то же время это некий педагогический призыв, обращенный к соотечественникам-немцам. «Вместо того чтобы замыкаться в себе, — поучает он, — немец должен принять в себя мир, чтобы воздействовать на мир. Вот почему я охотно вникаю в жизнь и культуру иноземных народов и каждому советую делать то же самое. Национальная литература теперь немногого стоит, близится эпоха мировой литературы, и каждый должен содействовать ее скорейшему приходу». О том, как он принимал
433
в себя мир и воздействовал на мир, о том, что дали ему Англия, Италия, Франция, Испания, Дальний Восток, Америка, и чем, в свою очередь, обязана его творчеству духовная жизнь этих стран, а также стран Севера и Востока, — обо всех этих систолах и диастолах писал недавно бернский историк литературы Фриц Штрих в своей замечательной книге «Гете и мировая литература», раскрывающей перед нами обширную панораму культуры и, к нашему глубокому духовному удовлетворению, трактующей европеизм Гете и в субъективном, и в объективном аспектах, с точки зрения усвоения и отдачи.
Совершенно очевидно, что его концепция «мировой литературы» явилась следствием того и другого; для ее формирования необходимо было не только понимание того, чем он был обязан иноземным культурам, но и отчетливое сознание плодотворности собственного обратного воздействия. К тому же это слово значилось в лексиконе величия, — того величия, приобщиться к которому, подняться до которого было суждено мальчику из семьи франкфуртских бюргеров[85], и когда Гете уже шел восьмой десяток, он признавался, что «ему нелегко было научиться» таковому, то есть величию, ищущему удовлетворения своей активности во всех странах и эпохах. Один из его афоризмов, написанных в старости, гласит:
Кто не видит вещим оком
Глуби трех тысячелетий,
Тот в невежестве глубоком
День за днем живет на свете[86].
«Фауст» — удивительный плод этой внутренней широты[87], этого энциклопедического овладения миром; имея в виду, главным образом, эпизод с Еленой из второй части, Эмерсон говорил: «Самое поразительное здесь — это могучий интеллект. Ум этого человека — столь сильный растворитель, что все минувшие эпохи и современность, их религия, политика и мировоззрение, претворяются в нем в прототипы и идеи»[88]. Однако его «могучий интеллект», его всеобъемлющая, всеклассифицирующая и поэтически пре-
434
образующая мысль служит не одному только постижению минувшего в единстве с настоящим; с неменьшим бесстрашием она проникает в будущее, предвидит и предвосхищает грядущее, то, что зреет в недрах времени и для чего «мировая литература» — лишь название, лишь символ; однажды он определил ее как «свободную торговлю понятиями и чувствами», что представляет собой перенесение принципов либеральной политэкономии на духовную жизнь.
Сын восемнадцатого столетия, Гете прожил в девятнадцатом веке, веке экономики и техники, целую человеческую жизнь — и он «понял» его, он провидел и предсказал его ход, выйдя далеко за пределы своей одинокой жизни и даже за пределы времени, проникнув взором в послебуржуазную эру[89]. Весьма знаменательно и трогательно то, что именно последние годы его жизни были полны этим противящимся смерти, преодолевающим собственное умирание предвидением и предощущением того, что «стоит на очереди», того, чему суждено родиться в сфере нравственного бытия и технического уклада жизни, а значит, и того, к чему каждый должен стремиться любой ценой, хотя бы и ценой утраты давно лелеемых, но уже изживших себя идеалов. В романе его старческой поры — «Годах странствий Вильгельма Мейстера» и в самом деле явственно звучит мотив «самоотречения», преодоления индивидуалистического гуманизма во имя новых гуманитарно-педагогических принципов, которые характерны, собственно говоря, лишь для нашего времени. В этой книге сверкают зарницы идей, далеких от всего, что подразумевается под бюргерским гуманизмом, далеких от классического и бюргерского понятия культуры, формированию и утверждению которого в первую очередь способствовал сам Гете. Идеал всестороннего развития личности отбрасывается, провозглашается век односторонностей; Нам демонстрируется ограниченность индивидуума, господствующая в наши дни; лишь все люда в совокупности являются носителями человечности, личность становится функцией, важно лишь то, каков ее вклад в культуру; выдвигается понятие
435
общинности, коммунности; и иезуитско-милитаристский дух «педагогической провинции», хотя и поэтически приукрашенный, по сути дела не оставляет камня на камне от бюргерского идеала — «либерализма» и индивидуализма.
Какая удивительная старость! При всей ее царственности, она отнюдь не отмечена печатью окостенелости или омертвелости, напротив, она одухотворена живейшей восприимчивостью, любопытством, пытливостью и стремлением ускорить победу нового. За столом этого нередко столь чопорного и напыщенного вельможи восемнадцатого века гораздо чаще беседуют о пароходах и первых испытаниях летательного аппарата, чем о литературе и поэзии; да и что тут удивительного? Ведь он — создатель Фауста, который обретает величайшее счастье бы-ия в осуществлении своей утилитаристическои мечты, в осушении болот. Гете не устает вникать в различные проекты соединения Мексиканского залива с Тихим океаном, не устает восхищаться неисчислимыми благами, которые подобное предприятие принесет всему цивилизованному и нецивилизованному человечеству. Он советует Соединенным Штатам Америки взять это дело в свои руки и фантазирует о процветающих торговых городах, которые со временем вырастут на Тихоокеанском побережье, где природа заранее озаботилась созданием обширных гаваней. С нетерпением ожидал он, пока сбудется эта мечта человечества, — эта и другая, прорытие канала между Дунаем и Рейном, которому предстояло стать титаническим предприятием, переросшим все предварительные планы; и наконец третье, наиболее грандиозное — постройка Суэцкого канала для англичан. «Чтобы увидеть все это, — восклицает он, — право, стоило бы протянуть еще лет пятьдесят». Столь всеобъемлюща была его любовь к будущему, что она охватывала весь земной шар, и есть что-то величаво-трезвое в этой одержимости идеями всемирно-технического прогресса и торжества разума, ибо он чувствовал, что миру необходимо от-
436
резвление, — миру, который поражен застарелыми недугами, приверженностью к былому, мешающими победе живой жизни.
Америка, не так печалей
Удел твой, как у нас, в Европе,
Нет ветхих у тебя развалин,
Воспоминаний о потопе[90].
Развалины средневековых замков и прочие в высшей степени почтенные окаменелости — все это «мертвый хлам веков», говорит он в другом месте, человек должен «отбросить его» чтобы любить живое. Они — символ отягощения человеческого духа эмоциональным наследием прошлого, которое поэт почти отождествлял с убийственной глупостью, а против глупости он ополчился с самого начала творческого пути, став на сторону всепросветляющего разума. «Мелкие людишки, — пишет он в «Годах учения», — больше всего на свете страшатся разума; понимай они, что действительно страшно, они боялись бы глупости. Но разум им мешает, и его надо устранить; глупость же только губительна, и с этим можно примириться»[91]. Примириться с гибелью, не имея мужества прибегнуть к помощи разума, — разве в этой пагубной черте людской натуры не таится в наши дни величайшая опасность для человечества? Гете знал эту опасность, видел, как она растет, и прежде всего ей — всемогущей глупости — противостояло его величие, а не революции, конституции, свободе печати, демократии. Говорят, что, умирая, он сказал: «Больше света!»[92] Это не вполне достоверно. Но вот подлинное его последнее слово, отвергающее смерть и утверждающее жизнь:
Что б ни было — иди вперед[93].
1948
Невероятно эпатирующее, по своим внутренним и внешним масштабам почти превосходящее пределы человеческого, творчество Августа Стриндберга и его то гротескная, то отталкивающая, а затем вновь и вновь овеянная высокой трогательной красотой человечность были неотъемлемой частью культуры в годы моей юности, и так оно, по-видимому, осталось и тридцать шесть лет спустя после его смерти. Слишком далеко ушел он вперед как мыслитель, пророк, носитель нового мироощущения, чтобы ею творчество хоть в какой-то мере утратило для нас свою силу. Оставаясь вне школ и течений, возвышаясь над ними, он всех их вобрал в себя. Натуралист и столько же неоромантик, он предвосхищает экспрессионизм, обязывая перед собою все жившее под его знаком поколение, и вместе с тем является первым сюрреалистом — первым в любом смысле. При этом в его врожденном авангардизме много консервативной традиции. Законный наследник Цельсия, Линнея и Сведенборга, он как естествоиспытатель и мистик продолжает — совершенно оригинально, разумеется — линию шведского восемнадцатого столетия и в замечательной сфере своего творчества — в «Шведских судьбах и приключениях», в десятке драм о шведских королях — выступает как углубленный в прошлое истолкователь и изобразитель национальной истории.
438
Едва ли найдется другой писатель или исповед- ник, который пожертвовал бы своей биографией с такой беспощадностью, как он. Адский комизм, который зачастую царит в ней (представляя собою нечто гораздо более глубокое и страшное, чем так называемый юмор, которым он, как и другие великаны, совершенно не обладал), лишь отчасти является порождением его яростного бунта против окружающего буржуазного общества, в котором он был уже чужим. В сколь значительной мере к его отчаянной борьбе против этого общества, «успехом» у которого он тем не менее дорожит, примешивается стихийное и демоническое, лучше всего видно на его отношении к женщине, где полемика против современной идеи эмансипации играет самую незначительную роль и тем большую, — извечная и мифическая, непримиримая вражда полов. Нигде в литературе не найти комедии более дьявольской, чем его супружеская жизнь, его слабость к женщине и ужас перед нею, его свято моногамное[94] почитание и прославление брака и полнейшая неспособность вынести его.
«Недобрый» взгляд на жизнь, вернее на то, что из нее сделал человек, он разделяет со многими братьями по духу в мире поэзии. Картины из жизни стокгольмского общества в его «Черных флагах», естественно, навлекли на него гнев сограждан. Но ведь и Бальзак, которого он очень уважал, в начале «Златоокой девушки» дает пространнейшее, прямо-таки инфернальное описание населения Парижа, весьма напоминающее Стриндберга[95].
Когда думаешь о нем[96], ассоциируется лишь самое великое. По универсальности ума, этого титана можно сравнить разве что с Гете, которого он во многом превосходит. Так, помнится, Эккерману однажды пришлось столкнуться с полнейшей неосведомленностью Гете в орнитологии, — а чего только не знает о видах, голосах и жизни птиц, о гнездах и яйцах Стриндберг! Астрономия и астрофизика, математика, химия, метеорология, геология и минералогия, физиология растений, сравнительное языкознание,
439
ассириология, египтология, китаеведение, — до всего ему есть дело, всё он постигает своим необъятным умом, в основном, правда, с тем чтобы показать самонадеянной материалистической науке девятнадцатого века, возомнившей будто она разрешила загадку мира, ее бессилие перед чудесами всевышнего. При этом он несколько увлекается и зачастую создается впечатление, будто он всякое исследование природы, это благороднейшее, возвышенное занятие, которому он сам с увлечением предавался как химик и алхимик, считает кощунством, дерзостью и грехом. Он, кажется, более склонен допустить, что звезды — это дыры в небесном шатре, чем поверить измерениям и расчетам астрономов. Это, во всяком случае, свидетельствует об отсутствии у него страха перед суеверием, которое он, с одной стороны, считает делом неверующих, безбожников, с другой, однако, защищает словами Гете, который говорил, что суеверие характерно для сильных творческих эпох, тогда как неверие — отличительная черта эпох усталых и бесплодных.
Высокая детски наивная душа писателя и в самом деле полна суеверий, на каждом шагу ему чудятся приметы, таинственные знамения и предостережения потусторонних сил; он проявляет крайнее недоверие к рациональному и общепринятому. Я точно помню, что где-то в своих «Синих книгах» он рассказывает, как однажды после большого успеха, который он имел накануне в театре, ему поклонились на улице двое слепых, и с тех пор он больше не верит в слепоту, которая перед лицом успеха оказывается несостоятельной. Признаться, меня это смешит до слез, так же как и история с тарелкой костей, которую вместе с графином воды однажды подала ему жена, желая как можно грубее унизить его. По этому поводу Стриндберг пишет: «Объективно размышляя над своим положением, он находил совершенно противоестественным, что он, выдающийся человек в своей области, без всякой вины со своей стороны был вынужден влачить такое жалкое существование, что даже собственная служанка жалела его».
440
Да, он был выдающимся человеком в своей области, по отношению к которому была допущена жестокая несправедливость. Ибо в нем жил высокий, боговдохновенный и богоотверженный дух, чуждый не только буржуазному обществу, но и вообще этой земле, дух, которому тоска по небу, чистоте и красоте подсказала бессмертные творения[97].
1949
ПИСЬМО ПО ПОВОДУ КОНЧИНЫ
МОЕГО БРАТА ГЕНРИХА
Я был рад услышать от Вас, и меня глубоко тронуло Ваше письмо, в котором сообщалось, что в своем журнале Вы намерены отметить мой семидесятипятилетний юбилей обширным благожелательным обзором моего творческого пути. Но еще более глубокое удовлетворение испытал я, узнав, что Вы имеете в виду связать этот акт внимательности ко мне с высокой оценкой гения моего почившего брата, по отношению к которому Ваша страна, как Вы верно сказали, должна исправить некоторые допущенные ею несправедливости. Здесь он жил почти безвестным, почти одиноким, и если я пытался убедить его — пытался до тех пор, пока уже явно не стало слишком поздно — принять настоятельное приглашение народно-демократического правительства Восточной Германии переехать в Берлин, то делал это оттого, что знал: там он встретит закат своей жизни, окруженный высоким почетом. Я желал ему этого, я был уверен, что почет этот ему подобает, и потому поддерживал просьбу германских властей, хотя для меня его переезд означал разлуку с ним, разлуку, быть может, навсегда, и хотя мне с каждым днем становилось все яснее, что он хочет лишь одного — покоя. За последнее время он очень состарился и болел почти непрерывно. Он уже не работал, написал не-
442
сколько писем, в которых говорил о приготовлениях к отъезду, читал мало и больше слушал музыку. Творческие силы — вещь удивительная: в конце концов слишком устаешь чтобы испытывать боль от их угасания; никогда я не слышал от него жалоб на то, что вдохновение изменило ему, видимо, это нисколько его не тревожило. К тому же он хорошо понимал, что труд его жизни — грандиозный труд! — исполнен, хотя и оставался незавершенным последний его большой замысел — цикл блещущих, как старинные эмали, своеобразным историческим колоритом эпико-драматических сцен, диалогическое повествование (какой неожиданный выбор темы!) о жизни Фридриха Прусского. Да, эти фрагменты остались фрагментами. Но ведь его творческая жизнь, жизнь художника достойно увенчана двумя последними романами: «Приемом в свете» — острой социальной сатирой, действие которой разыгрывается везде и нигде, и «Дыханием» — последним итоговым воплощением его искусства, выразившим порыв старца к общественному прогрессу, порыв, еще полный юношеского пыла и энергии, тогда как сам он, угасая, шел навстречу концу.
Как великий публицист он также подытожил свой творческий путь захватывающей книгой воспоминаний «Обзор века» — автобиографии, поднимающейся до критического анализа эпохи, в которую он жил, написанной с необычайной стройностью и веселым блеском, простодушной мудростью и нравственным достоинством; эта проза исполнена такой интеллектуальной напряженности и простоты, что мне видится в ней прообраз языка будущего. Я даже убежден, что отрывки из этой книги будут приводиться в качестве образца в немецких хрестоматиях двадцать первого века. Ибо тот факт, что ныне ушедший от нас писатель был одним из величайших поэтов немецкого языка, рано или поздно дойдет и до сознания немцев, которые пока что не желают усвоить эту истину. Его последний вечер был необыкновенно долог и содержателен, — он почти до полуночи с наслажде-
443
нием слушал музыку, и женщина, ходившая за ним, с трудом убедила его лечь спать. Затем, — никто не знает, в каком часу ночи, — кровоизлияние в мозг, но он не издал ни единого звука, не шевельнулся. Просто наутро его не смогли разбудить. Сердце продолжало биться до следующей ночи, но давление крови уже не удавалось измерить, и сознание так и не возвратилось к нему. В сущности, он умер счастливой смертью.
Панихида по усопшему была высокоторжественна. Речи над гробом произнесли Фейхтвангер и преподобный Стефен Фричман из Unitarian Church1, квартет «Темянка» играл прекрасный медленный марш Дебюсси. Это пришлось бы ему по душе. Потом я шел за гробом по нагретому солнцем газону кладбища Санта-Моники. Да почиет он в мире, — он прожил полную свершений жизнь, след которой, думается мне, сотрется лишь вместе с исчезновением цивилизации и достоинства человека на земле.
1950
Les dieux s’en vont. Боги уходят. В лице Джорджа Бернарда Шоу ушел от нас еще один представитель старой европейской гвардии, Нестор этого могучего поколения, одаренный жизненной выносливостью, долгим дыханием, неистощимой творческой плодовитостью,— ушел, оставив нам то, что может быть названо сравнительно малоинтересным, преходящим, потускневшим, рано износившимся. Герхарт Гауптман, о котором Бернард Шоу едва ли имел представление, хотя такие пьесы, как «Ткачи» и «Крысы», должны были бы ему понравиться, и Рихард Штраус, которого он знал очень хорошо, восхищаясь как высокой традиционностью, так и задорным революционным «efficiency»1 этого баловня счастья, скончались до него. Всего несколько недель назад среди нас пребывал восьмидесятилетний Андре Жид, имевший немало общего со своенравным гением и протестантским морализмом Шоу[98], и до сих пор здравствует престарелый Кнут Гамсун, который надломлен политикой и ведет жизнь уже чисто растительную, но тем не менее остается автором самобытнейшей прозы, по богатству и обаянию не уступающей драматургии Шоу[99]. Насколько можно судить по сочинениям последнего, он нисколько не ревновал Гамсуна к своей
445
славе, и во многих отношениях они действительно были антиподами, особенно во взглядах на социализм. Объединяло этих двух людей чувство долга перед Германией, которое в обоих случаях имело свои веские причины, но для Гамсуна оказалось политически роковым, тогда как у более интеллигентного Шоу оно сохранило характер умеренного, не претендующего на особую интимность уважения к ее культуре.
То, что немцу предоставлена сегодня возможность воздать ему хвалу, некоторым образом символично; ибо Германия и в первую очередь австрийская провинция ее культуры в лице Зигфрида Требича, который, полагаясь на свое удивительно верное чутье, начал переводить пьесы Шоу на немецкий язык, поняла его значение для современной сцены, как и для современной духовной жизни вообще, раньше, чем страны английского языка. Его слава фактически пришла в Англию через Германию, подобно тому как слава Ибсена и Гамсуна пришла через Германию в Норвегию, а Стриндберга — тем же кружным путем в Швецию; ибо лондонский Independent Theatre не смог бы сделать для славы Шоу, разнесшейся потом по всему миру, того, что сделали для нее такие люди как Отто Брам, Макс Рейнгардт и их актеры, а также берлинская театральная критика, — не смог бы сделать просто потому, что немецкий театр уже тогда был менее скованным, менее буржуазным, более чутким к новому, чем английский, был лучше подготовлен к тому, чтобы разглядеть в этом англо-кельте нового Потрясающего копьем, нового возмутителя спокойствия и великого драматурга—мыслителя, покорившего слово, до озорства веселого мастера сценического диалога и критического худож- ника нашей эпохи.
Свой долг перед Германией он не отрицал и оплатил в весьма забавной статье «Чем я обязан немецкой культуре», — где он доходит до того, что объявляет свою культуру в значительной степени немецкой. Это большое преувеличение, по крайней мере
446
в том, что касается влияния на него немецкой литературы, которое было минимальным. Фрагментарность и поверхностность своих познаний в этой и вообще-то мало популярной области он описывает весьма комично. По его словам, в детстве он прочел один рассказ некоего Жан-Поля Рихтера, да еще «Сказки Гримма»; он добавляет, что до сих пор считает «Гримма» самым занимательным немецким автором. Странно, что он не называет Гейне и Гофмана, — ведь именно они слывут самыми занимательными из немцев. Но еще более странно то, что он считает «Гримма» личностью, обладавшей ненемецким качеством занимательности. Ему, видимо, неизвестно, что этот «Гримм» состоял из двух лиц, братьев Якоба и Вильгельма, романтически восторженных любителей немецкой старины, которые подслушали те сказки у народа и любовно записали их. Помимо того, они вдвоем начали составлять колоссальный этимологический словарь немецкого языка, но так и не успели довести работу до конца; над завершением его и поныне трудятся немецкие ученые. Для того, кому немецкий язык столь же дорог, как Шоу — английский, этот многотомный труд — самое занимательное чтение на свете.
Немецкий язык должен знать каждый, говорил Шоу, и он его обязательно выучит, но поскольку ему всего лишь пятьдесят, то спешить, мол, незачем. Он его так и не выучил, и когда к нему приходили немцы, не знавшие по-английски, он выжидал, пока они замолчат, чтобы перевести дух, прижимал руку к сердцу и восклицал: «Ausgezeichnet!»1[100] Он не совсем точно знает, уверял он, что это слово значит, но немцы всегда радуются, слыша его. Я вполне мог бы поболтать с ним по-английски, но ни разу не был у него из чисто человеческих побуждений. Я был, да и сейчас убежден в том, что он не прочел ни одной моей строки, и это могло его смутить. Однако ничего подобного не произошло бы, если бы мы, вообще не касаясь литературы, сразу же завели разговор на
447
тему, одинаково близкую нам обоим, — разговор о музыке. Немецкую музыку, и только ее, имел он в виду, говоря о немецкой культуре и о том, чем он ей обязан. На этот счет он не оставил никаких сомнений, прямо заявив, что духовное постижение немецкой музыки, начиная с ее младенчества, кончая эпохой зрелости, дало ему несравненно больше, чем остальная западная культура. Драматургия этого сына певицы и учительницы пения самая интеллектуальная в мире, что не мешает ей быть музыкой — музыкой слов, и строится она, как он сам подчеркивает, на принципе музыкального развития темы; при всей прозрачности, выразительности и трезво критичной игривости мысли, она хочет, чтобы ее воспринимали как музыку, и из всех высказываний по этому поводу Шоу больше всего пришлись по душе слова его английского коллеги, весьма уважаемого им Харли Гренвила Баркера, который на репетиции одной из его драм крикнул артистам: «Да поймите же вы, ради бога, что это не пьеса, а опера, и подавайте каждую реплику так, словно ждете вызова на бис!» И в самом деле, Шоу, как всякий самобытный драматург, создал свой собственный язык, театральный язык, такой же, в сущности, нереалистический, как и поющая страсть оперы, — торжественный, утрированный, сгущающий краски, эпиграмматически меткий, не менее риторический, чем ямбы Шиллера и, как ни странно это прозвучит, столь же патетиче ский — причем под «пафосом» следует понимать не елейность и высокопарность, а лишь предельную выразительность, почти всегда юмористически окрашенную эксцентричность слова, полного остроумия, вызова, афронта, — разящий парадокс. В предисловии к «Святой Иоанне», которое уже само по себе столь замечательно, что почти лишает пьесу самостоятельного значения, он говорит, разоблачая научное суеверие нашей эпохи, что теории наших физиков и астрономов, легкость, с какой мы принимаем на веру каждое их слово, вызвали бы в средние века взрыв саркастического хохота. Это его стиль. И так говорит не только он сам как эссеист, так сплошь и рядом
448
говорят и его герои на сцене, причем следует заметить, что это фигуральное выражение Шоу лучше всего характеризует его собственное воздействие на аудиторию.
В 1885 году, когда Уильям Арчер впервые встретил в библиотеке Британского музея молодого недавно перебравшегося в Лондон дублинца, тот был занят тем, что в течение многих недель подряд поочередно штудировал две вещи: «Капитал» Маркса и партитуру «Тристана и Изольды» Вагнера. Тут весь Шоу. Тут Шоу — радикальный социалист, который, идя дальше Генри Джорджа, ограничивавшегося земельной реформой, горячо требовал на митингах национализации всех форм капитала; Шоу — душа Fabian Society, автор «The Intelligent Woman’s Guide to Socialism and Capitalism» — книги, которую Рамсей Макдональд отважился назвать лучшей в мире после библии; Шоу, который начал свою карьеру драматурга с «Widower’s Houses»1,— трактата о показной респектабельности среднего класса, о социальной гнусности владения трущобами, и который всегда оставался в центре общественных дебатов, называя несколько пренебрежительно свои пьесы «драматическими конференциями»; и Шоу — прирожденный деятель театра, который, будучи совершенно чужд жгучей, превышающей бездонность небес эротики Вагнера, как музыкальный интеллектуал, как ревностный апостол и истолкователь его творчества фактически был его учеником. Он написал о нем книгу, «The Perfect Wagnerite»2, которая выгодно отличается от суемудрых немецких интерпретаций Вагнера ясностью мысли, а рядом с нею не случайно стоит другое изъявление критической благодарности и преклонения: «The Quintessence of Ibsenism»3, потому что Ибсен, о чьем художническом родстве с Вагнером я однажды уже пытался писать, был вторым его учителем, и Шоу, таким образом, являет нам интереснейший пример
449
того как созвучные, тесно связанные друг с другом явления искусства перерабатываются и используются темпераментом совсем иного склада, творчески переплавляются им в нечто совершенно новое и индивидуальное.
Кажется, не кто иной как Ибсен сказал однажды, что любая из его пьес с таким же успехом могла бы вылиться в статью. Что касается Шоу, то он никогда не отказывался сопроводить свою пьесу еще и статьею; он печатал ее параллельно с пьесой, а то и в виде предисловия, и зачастую оно не уступало по размерам и значению самой пьесе, называя своими именами вещи, которые в пьесе не могли быть названы с той же критической прямотой[101]. И, по-моему, досадной промашкой, ненужным элементом эссеистики в драме является то, что в четвертой картине «Святой Иоанны;» Кошон и Варвик определяют ересь Иоанны, да и всякую ересь вообще, терминами «протестантизм» и «национализм». Хотя по своему содержанию эти выражения для пятнадцатого века, возможно, и не были анахронизмами, но как словообразования они являются ими, нарушая форму и стиль. Их место в статье, где они и стоят; в драме нужно было обойтись без них и ограничиться перифразой[102].
Подобное обстоятельство, и даже тот факт, что в «Святой Иоанне», как и в других его пьесах, ария подчас превращается в передовицу, не мешает этой «Драматической хронике» быть самым теплым и поэтически-трогательным, наиболее трагедийным в высоком смысле слова, произведением Шоу, — творением подлинно гениальной справедливости, вполне достойным своей мировой славы, в котором чистый разум выросшего из восемнадцатого и девятнадцатого века esprit fort1[103] склоняет голову перед святыней. Единственная пьеса, которую я мог бы поставить рядом с нею, а может быть, даже выше ее, — это «Heartbreak House»2, поэтический итог первой миро-
450
вой войны, пьеса, за которую не пришлось бы краснеть ни Аристофану, ни Мольеру, ни Ибсену, превосходнейшая комедия с искристым диалогом и курьезнейшими действующими лицами, очень смешная и вместе с тем сурово осуждающая, проникнутая предчувствием социальной катастрофы во всемирном масштабе.
Если считать все одноактные пьесы — а среди них есть такие как «Екатерина Великая» и «The Shewingup of Blanco Posnet»1 то Шоу написал больше пьес, чем Шекспир, и если они столь же неравноценны, как пьесы его великого предшественника, с которым он имел дерзость равнять себя; если некоторые из них уже тронуты временем и, как он предвидел, устарели по своей проблематике, то, кроме пьес, названных выше, сохранили свое значение такие вещи как «Цезарь и Клеопатра», «Человек и сверхчеловек», «Пигмалион», «Андрокл и лев», а также проницательная политическая сатира «The Applecart»2 — вещи, которые, отчасти благодаря их мудрости и дидактичности, отчасти благодаря их окрыленной остроумием поэтичности, выдержали и еще долго будут выдерживать натиск времени. А если к тому же вспомнить о бесконечном потоке комментирующей, критически всеохватывающей, ессеистики, в которой с неизменной художественной легкостью, эстетической привлекательностью и зани- мательностью отражены поистине энциклопедические знания Шоу в области естественных наук, истории религии, теологии, всемирной истории и в особенности политической экономии, то мы увидим перед собою творчество масштабов поразительных — результат пронесенной им через всю жизнь радостной просветленности ума и никогда не ослабевавшего желания трудиться. Этот человек, подобно Ибсену и Вагнеру, жил исключительно своим творчеством: он ревновал, выражаясь словами Заратустры, не о своем счастье,
451
а о своем деле. Он никогда не знал праздности, — она более всего на свете казалась ему антиобщественной, и по его собственному признанию никогда не был юным в том смысле, какой вкладывает в это слово обыватель, чья юность уходит на то чтобы «перебеситься». Именно поэтому он остался юным на всю жизнь, а в своем творчестве — озорным как жеребенок вплоть до глубокой старости. Он был антибуржуа до мозга костей, с марксистски-революционным лозунгом: «Антибуржуа всех стран, соединяйтесь», но его моральный облик, его образ жизни были сугубо буржуазные, даже пуританские[104]; он говорил, что в любой момент мог бы забросить литературу и стать респектабельным сыроторговцем ничего не меняя в своем домашнем обиходе. Антагонистом буржуа для него был не представитель богемы, а социалист. Мир, говорил он, в котором люди распивают по вечерам шампанское с актрисами, натурщицами и балеринами, для него чужой, и он удивляется, как могут жить в нем его несчастные жертвы; более того, он сомневается, существует ли подобный мир в действительности, потому что все его знакомые актрисы и балерины — порядочные женщины, вся жизнь которых проходит в неустанном труде, он и сам работал много и рационально, не полуночничал над своими драмами, разыгрывая гения, а отводил для тщательно продуманного литературного труда время между завтраком и обедом, ложился спать до полуночи, зато утром вставал со свежей, ясной и трезвой голо вой. Богемная жизнь претила ему, ибо он просто не был создан для нее; порок наводил на него скуку, а что касается опьянения, то он вкладывал в уста старого капитана в «Heartbreak House» следующие слова: «Больше всего на свете я боюсь напиться допьяна. Быть пьяным — это значит грезить, размякнуть, поддаться любому соблазну, любому обману. Попасть в когти к женщинам».
Как видим, под «опьянением» он подразумевает также — и прежде всего — эротический угар, который был ему неведом. Это не значит, что он был
452
женоненавистником, напротив, его,
как Ибсена, можно назвать певцом женщины. В его пьесах женщины сплошь и рядом
превосходят мужчин природной смекалкой, здравым смыслом, умением посмеяться — посмеяться
над мужчинами. Но вместе с тем он любил цитировать слова Наполеона о том, что
женщины — это утеха лодыря, а от себя добавлял, что у мужчины, занятого
серьезным делом, на амуры не остается ни времени, ни денег. Святым Антонием он
не был: того одолевали искушения, а стеклянной натуре Шоу плотское воздержание
давалось, по-видимому, так же легко, как и воздержание от мяса. Он не делал из
этого догмы, он говорил: что одному хлеб, то для другого отрава. Но «восстание
против тирании секса» (как он выражался) было одним из пунктов его
социально-этической и художественной программы, и в его пьесах мы не найдем
страсти, упоения, чувственного угара, знаменитого «C
Если бы задать ему вопрос, который принц настойчиво задает королеве в шиллеровском «Дон Карлосе»: «Неужели вы никогда не любили?» — ответом, вероятно, было бы веселое: «Нет», — веселое, несколько стеклянное, но все же: «Нет». Невозможно представить себе, чтобы Шоу написал что-либо похожее на «Мариенбадскую элегию» с этой ее начальною строкою: «Приносит страсть страданье», чтобы он увлекся так, как семидесятилетний Гете увлекся Ульрикой фон Леветцов, — причем сам он, в отличие от нас, видел в этом свое несомненное достоинство. Он обладал замечательной жизнестойкостью, однако его жизни при всей ее масштабности недостает полнокровия, и это в какой-то мере мельчит ее. Мне нравятся плотные обеды Лютера, Гете и Бисмарка, и я, пожалуй, даже нахожу вкус в том, как пьет и курит Уинстон Черчилль. В облике Шоу, не только физическом, но и духовном, есть что-то суховатое, вегетариански-бесстрастное, что не вполне согла-
463
суется с моим представлением о величии. Оно всегда ассоциируется у нас с мыслью о личной трагедии, страданиях, жертве. Отчаянная борьба, физически ощутимое моральное напряжение Атланта — Толстого, Стриндберг, чья жизнь была адом, мученическая смерть Ницше на кресте мысли внушают нам глубочайшее благоговение. У Шоу ничего этого нет. Поднялся он выше или не достиг этого? Одну из своих пьес он назвал: «Легкая игра с серьезными вещами». Он мог бы назвать так любое свое произведение, и меня берет раздумье, не есть ли это определение искусства будущего и не был ли Шоу смеющимся пророком человечества, освобожденного от всего темного и трагического. В то же время я спрашиваю себя, не слишком ли легко давалась ему эта легкость и был ли он вообще способен принимать всерьез серьезные вещи.
Время решит, был ли он легкомыслен или серьезен. А пока что одно очевидно: для той ясности, жизнерадостности, непринужденности, заразительного озорства, в которых проявилась его натура, требовались салатная диета и трезвость, и было бы более чем несправедливо видеть в его холодности всего-навсего бессердечие. Смеясь над всем и вся, он отнюдь не был мефистофельствующим нигилистом, который «животворной могучей силе всеблагой грозит коварною рукой». Ибо тот же капитан Шотовер в «Heartbreak House», говорит: «Старики — народ опасный. Им безразлично, что будет с миром». Шоу же никогда, даже в девяносто четыре года, не было безразлично, что будет с миром. И священник, читавший отходную у его смертного ложа, был совершенно прав, заявив: «Нет, этот человек не был атеистом». Он не был таковым, ибо благоговел перед животворной силой, затеявшей на земле великий эксперимент с человеком, и искренне хотел, чтобы этот эксперимент богу несмотря ни на что удался. Убежденный в том, что искусство, эстетическое наслаждение является эффективнейшим средством образования и просвещения, он неутомимо сражался своим блестящим насмешливым словом против силы, которая бо-
454
лее всего ставит под угрозу этот
эксперимент, — против глупости. Он делал все что мог для того чтобы устранить гибельный
разрыв между правдой и действительностью и помочь человечеству подняться на
новую ступень социальной зрелости. Осмеивая человеческие слабости, он никогда
не смеялся над человеком. Он был другом человечества, и таким, я уверен, он
будет жить в его памяти, в его сердце.
1950
Ганс Мюлештейн, на долю которого выпало
немало справедливых похвал за перевод на немецкий язык отрывков из
«Божественной комедии», опубликовал в серии «Вечные памятники поэзии
Возрождения», выпускаемой издательством «Quos ego» (Челерина),
томик поэтической исповеди Michael
Angelus Bonarotas (так гласит надпись, окружающая портрет автора), —
причем перевод дается параллельно с оригиналом. Книга эта глубоко потрясла меня
своей стихийной мощью, своей неукротимой страстностью, нередко граничащей с отчаяньем[105].
Это буйно рвущаяся из души поэзия, и я бы даже сказал, что, хотя, как правило,
автор повсюду выдерживает обязательную форму сонета, это не столько стихи,
сколько непосредственное выражение муки, горечи, любви и тоски, переживаемых
великой, беспредельно великой душой, которая, страдая, стремится к прекрасному,
а через прекрасное— к богу. Короткую любовную жалобу: «C
456
эстетики, обнаженной человеческой силой; и нужно признать, что переводчик пережил эти стихи необычайно глубоко и почти всюду воссоздал в верных и столь же прекрасных образах.
Какая бездна страсти, говорящей о титанической и истерзанной жизни, сосредоточена здесь в слове! Он, «отдавшийся искусству до конца», для искусства рожденный и «пылающий искусством как любовью», изливает свою гражданскую ярость и тоску в сонетах, он, видящий гибель республики и диктатуру Медичи, близок к самоубийству, ибо его «втоптали в землю нищета и рабство». Он мечет громы и молнии на Флоренцию, что породила Данте и его самого, а затем подло, неблагодарно, позорно изгнала поэта, вызывающего безграничное его восхищение. Здесь в переводе прорывается интонация Платена, у которого вдали от покинутой им Германии накипает злоба против родины, в чем, без сомнения, можно видеть признак сильнейшего влияния лирики Микеланджело:
Да, легче клясть народ, изгнавший Данте,
Чем восхвалять отечество поэта.
Неблагодарность —таково горькое обвинение,
предъявляемое им Юлию И, святейшему владыке, — труд его и преданность его
придали ослепительный блеск папскому престолу, а папа «ни на грош» не тревожится
о его существовании — «del mio
tempo non ti incresce о dole!» Как мерзок, подл и безбожен весь мир! Если
господа трогает людская нищета, как поступит предвечный судия с этой страной,
«где воинство и смерть ограбили людей»? Ибо он нищ и жалок в сей земной юдоли[106]
и как правоверный христианин убежден в святости страдания. «На небеса, — сказал
он однажды, — я буду вознесен за то, что здесь страдаю». Ведь это небеса
«отказывают в мудрости земле», и по их воле он «вкушает ныне плод сухого
древа». Погруженный в глубокую печаль, какой урожай собрал он своими могучими руками!
«La mia alle-
457
grezz’ è la maninconia»1, — написал он однажды, и мы с
благоговейным трепетом читаем сонет, созданный им во время работы над «Страшным
судом», видимо, на лесах, — в котором он славит влекущую его ночь, «благой
прообраз смерти», ночь, последнюю обитель тяжких вздохов. С трудом можно
понять, как всепобеждающая скорбь, как его мечта заснуть, и ничего не видеть,
ничего не слышать, не человеком быть, а камнем, «затем, что полон мир
позором и бедой» [107],
— как все это сочетается с неукротимым творчеством, чья безмерная
напряженность, через край бьющая мощь и есть выражение его угрюмости. Но откуда
эта угрюмость? Откуда эта всеобъемлющая скорбь у гиганта, на которого с небес
снизошла благодать неиссякаемой творческой силы? Мне думается, что ответ — в
той титанической и гнетущей чувственности, которая вечно порывается к чистоте,
к духовности, к богу и неизменно оборачивается трансцендентной тоской. «От
низшего, земного, — говорит он, — к высшим сферам влечет меня мечта моя во
сне». Эта мечта — любовь, вовеки не иссякающая, через всю жизнь пронесенная
влюбленность в пластический образ, в живое совершенство, в человеческую
красоту, — сила любви и способность любви, ставшие блаженством и мукой, как это
бывало и у других чувствительных и могучих натур, подавлявших свою
чувственность —у Гете, у Толстого, Большинство стихотворений Микеланджело,
вернее, почти все — это любовные песни, и создавались они на протяжении многих
десятилетий: начиная с 1504 года до середины века и много позже. Он, всегда
одержим любовью, всегда влюблен и она глубоко трогательна, эта бессмертная
одержимость гения, уже давно перешагнувшего возраст любви, одержимость волшебством
человеческого лица — красотой ли цветущего юноши или прелестью царственно
величавой женщины; глубоко трогательна негаснущая его чувствительность к «La forza d'un bel viso»2, — в этой силе он видит
458
единственное счастье, даруемое жизнью; ее он, бесконечно сетуя на жестокость бога любви и проклиная эту жестокость, называет благодатью, которая при жизни возносит его к сонму блаженных, ибо ничто не дарит ему подобного счастья!
«Возможно ль, что опять я сам не свой?» Не удивительно ли, что этот вопрос задает человек, которому уже пора (близится 1546 год) вернуть земле больное бренное тело, утомленное долгой дорогой, но для которого еще не кончились муки и блаженство любви, «терзающей чресла» (какое мощное выражение!). Впрочем, подобная самозабвенность его сладостного обожания весьма сомнительна, ибо он говорит и так:
Я сам себе стократ дороже стал,
С тех пор как ты в мое вступила сердце.
Так возвышение его «я» в любви уравновешивает для Микеланджело чувство стыда, которое он испытывает от сознания того, что, дожив до седых волос, все еще дает любви дурачить себя.
Но если его пленяет «прекрасное», то есть каким-то несказанным образом волнующее, лицо, при котором тело как бы только некое дополнение, то в лице его прежде всего неизменно чаруют глаза — «Occhi, mia vita»1
La memoria degli occhi e la
speranza,
Per cui non sol son vivo, ma
beato…
О Dio, e son pur begli!2
Этот мотив неизменно повторяется; и первенствующая роль, которую играют глаза, взгляд, в его страстной влюбленности с самого начала сообщает[108] ей высокодуховный чувственно-сверхчувственный характер, который лежит в основе развития поэтической мысли Микеланджело и позволяет отнести его любовные песни к классическим образцам поэзии платонического эротизма. С отдаленнейших звезд нисходит сияние —
459
у нас на земле оно называется любовью. На ее крылах дух возносится к небесам, от земного к божественному, и он презирает тех, для кого любовь и страсть — достояние одной только чувственности… Тем самым он опровергает измышления «бесстыдно глупых злых клеветников» (здесь, надо думать, имеются с виду его отношения с Томмазо Кавальери[109]). Он восторженно утверждает, что бессмертная и ангелоподобная душа, просветляющая тело, «зажгла во мне священный огнь любви, — душа твоя, не только лик твой светлый» — «il tuo volto sereno». Он полон этой высокой любви, полагающей свою надежду отнюдь не в том, что обречено тлению, — и в то же время ничто с такой полнотой не раскрывает ему милосердие божие, вечную красоту и добро, ничто не наполняет его более чистым благоговением, чем эта бренная оболочка, эта земная прелесть, и перед нею он преклоняет колени как перед образом божества.
Да будет нам стыдно, если мы усомнимся в истинности, или, точнее, в высокой правдивости его понимания любви.
Когда умру, умру за красоту…
Это его излюбленная мысль, он много раз высказывал ее и воспевал проникновенно и пылко, и нет сомнений, что святая вера Микеланджело в нетленность его страсти неразрывно связана с его бессмертным творческим гением. Сугубо натуралистическая, более близкая нам, мысль о том, что, быть может, самое трогательное человеческое свойство — сознательно отдать свою любовь летучему и прекрасному мгновению бытия, тому, что обречено тлению, как и самая наша любовь, которая все же сохранится в сокровищнице воспоминаний до конца наших дней, — ему эта мысль чужда. И когда его чувственность «идет по ложному пути», оказываясь во власти недостойного порыва, когда она увлекает его за собой в бездну, лишая его духовного и человеческого достоинства, тогда трудно понять его платонизм, его веру в красоту как личину божества, в земную нежность как в некое подобие любви всевышнего.
460
В его поэзии встречается женщина, которую он называет «La Donna bella e crudele»1, — какое проклятье! К этой женщине, к этой «язычески прекрасной оболочке», о которой он сам знает и говорит, что она «унции не стоит ни единой», пылают его чувства греховным пламенем; он забыл о боге, забыл о чести и пожираем лишь одним страстным, непреодолимым желанием — пасть с этой женщиной, низвергнуться с нею в ад, пожертвовав небесами, на которых ему «уготовано место». Это сущая напасть.
Когда бы я побольше знал о ней,
Быть может, я терзался бы сильней.
Вероятно, это так. Но, хотя он и знает, что красота ее насквозь
лжива, хотя он видит пропасть, зияющую между ее внешностью и душой, он все же
молит: «О, подари мне сладость заблужденья! Дай поверить моей неложной любви в
то, что отражается в обманчивых чертах любимого лица! Позволь вкусить обман!
Сиянье глаз (снова глаза!) женщина эта похитила в раю, и пусть она пошла,
ветрена, бессердечна — он и здесь готов верить, что красота ее не достоянье
смертных, что она живет среди нас как посланница небес!»
Великое страждущее неукротимо страстное сердце! Я ничего не знаю о Томмазо Кавальери, которому оно принадлежало целое десятилетие. Ученым, вероятно, кое-что известно о нем. Видимо, он был молодым дворянином или патрицием (разумеется, с красивыми глазами), потому что Микеланджело постоянно именует его «господин», «Signor mio», «Signor mio caro»2, и в этом, очевидно, следует видеть не только преданность влюбленного, но и обычную форму обращения к мужчине. Хочу верить, что Томмазо был славный доброжелательный мальчик, со- знававший, какую честь оказал ему гений, отдав ему свое сердце. Нет сомнений, что он ни единым словом
461
не выдал себя, но в пятьдесят восемь
лет великий ваятель, уже изнуренный титаническим трудом, считал возможным, что
…более; чем я осмелюсь верить,
Твой дух, который это пламя зрит,
Меня немой взаимностью дарит.
Взаимностью? Микеланджело никогда не любил ради взаимности, никогда не хотел и не мог в нее верить. Для него, истинного платоника, божество обитает в любящем, а не в любимом, который всего лишь источник божественного вдохновения, и как бы страстно ни томился он по тому блаженному дню, несбыточному и обетованному, когда солнце остановится на своем извечном пути и когда он — недостойный! недостойный! — навсегда заключит в объятия «господина своих желаний», — день этот не более чем химера, равно как и всякая «взаимность», ибо эротика Микеланджело, по всей видимости, принципиально основана на противоположности красоты и безобразной старости, которая любит и которой нечего ожидать в ответ, разве что чуточку «сострадания», доброты, милости.
В самом деле, почти все свои любовные стихи он создал на
склоне жизни, — он писал их, даже когда перешагнул за седьмой десяток[110],
— и в них все снова и снова повторяется одна и та же мысль: его безобразная
старость должна еще выше вознести красоту избранного им существа. Таким было
его отношение к «Donna crudele»,
а, обращаясь к Кавальери, он говорит прямо: единственным утешением ему то, что
темная ночь его (ночь души и тела[111])
служит любимому зеркалом, что благодаря ей еще ярче сияет солнце, которое «в
спутники ему дано рожденьем» — «Che
a voi fu dato al nascer per c
462
мирующему значению она очень похожа на отношения, существовавшие между Гете и Шарлоттой фон Штейн; в одном из сонетов, обращенных к Виттории, Микеланджело говорит, что родился на свет дважды: в первый раз лишь как набросок самого себя, исполненный в скверной глине, а затем, вновь созданный в мраморе, он стал совершенным творением, — ее доброта обуздала и укротила его изначально дикую натуру, дополнив ее тем, чего ему не хватало, стесав то, что в нем было грубым и излишним. Правда, веймарский поэт был молод и податлив, когда позволил рукам женщины формировать свой характер, меж тем как создатель «Ночи» в капелле Медичи, «Моисея» и «Страшного суда» был уже почти стариком, и это придает его «благодарному утверждению» нечто иллюзорное, фантастическое, не вполне правдоподобное. Все же несомненно, и об этом говорят сокровеннейшие поэтические свидетельства, что любовь к женщине, в которой он не видит «ни одного порока», которую избрал «душой и сердцем бренной жизни» своей, что эта страстная преданность, встретившая целомудренное и великодушное ответное чувство, окрылила его, дала ему гармоничное единение чувственного с духовным и вечным, — то счастье, которого жаждала его гордыня, стремившаяся не к земле, а к небесным сферам. Чем больше он бежит самого себя и себя ненавидит, тем сильнее влечет его к ней, «владычице его страстей и вздохов»,
Чтоб небо мне позволило обресть
Все то, что мне сулило в этом лике,
В прекрасных и спасительных глазах.
Опять — глаза, pien d’ogni salute!1 Он должен их видеть, он не может насмотреться на них, ибо — увы! —видеть их слишком редко или не видеть со всем — это «почти забвенье». Почти? О, не видеть больше, жить в разлуке, лишиться возможности чувтвенного созерцания — это и есть забвение, и он познает — например, в то время, когда Виттория пре-
463
дается умерщвлению плоти в монастыре Витербо — все бессилие жалкого воображения, неспособного воспроизвести неповторимую, улавливаемую лишь взглядом прелесть любимого лица. И для него нет ничего ненавистнее этого бессилия, ибо оно — забвение, умирание чувства, и потому он молит далекую святую, которая столь же могущественна на небесах, сколь и здесь на земле, чтобы она сделала из его тяжелого бессмертного тела одно большое око — del mio corpo tutto un occhio solo — и он мог бы вечно лицезреть ее.
Эти стихи говорят о том, что́ красота сообщает страданью, какое блаженство несет с собою непостижимое их единство. В этих строках живут и вдохновенные мысли об искусстве, которое неизменно правит его жизнью в союзе с влюбленностью, в слиянии с нею; искусство — «подлинно вековечный наследник» уходящего времени, оно мстит за судьбу смертных созданий природы, обреченных на то чтобы пасть жертвой времени. Ваятель, познавший единоборство с камнем, постиг, что время и смерть побеждаются трудом. Как у Гете, искусство здесь — тоже природа, и художник, ее дитя, сообщает мимолетному такую долговечность, что его творение и через тысячи лет будет свидетельствовать о том,
Как вы прекрасны, как я безобразен…
И мир поймет, что не был я глупцом,
Вас увенчав моей любви венцом.
Никогда не забыть мне строк:
Ch’all’ alte cose nuove
Tardi si viene e poco poi si
dura, —
где говорится о том, что мы слишком
поздно, после бесчисленных поисков и попыток, обретаем высокую цель, и на этом
кончается наш путь. Сколько вдохновенной страстности и мистического ужаса в
этой мысли, которую шестидесятивосьмилетний старик выразил в своем лучшем, быть
может, стихотворении, написанном около 1543 года: природа искала и заблуждалась
много веков, «пока твое не создала лицо», исполнила свое призвание и после
этого, состарившись, клонится
464
к смерти! Нельзя
представить себе ничего более противоречивого, более благоговейно-боязливого,
чем чув- ство, с каким он созерцает ее лицо, — это сочетание величайшей радости
с ощущением конца, достигнутой цели, гибели вселенной.
Когда Виттория умирает, он, стремящийся к вечной жизни более всех людей на свете, черпает утешение лишь в том бессмертии, которое она обрела в своих поэтических творениях. Никакое забвение, даже его собственное — ибо забвение неизбежно, раз он больше не увидит ее никогда — не уничтожит того, что написано ею, — «пленительных святых стихотворений». Несмотря на всю боль расставания, на все клятвы верности, не означает ли его вера в то, что она бессмертна лишь благодаря ее собственным творениям, — не означает ли это какого-то отказа от жизни, от уже стареющей, но исполински цепкой жизни, нет ли здесь какого-то обращения к смерти? Этот великий любовник любит самое любовь больше, чем то, на что она обращена.
Теперь, когда небо похитило у него великое пламя, питавшее его, он сравнивает себя с углем, тлеющим под пеплом. Нет, он не пепел, — он тлеет; и он уверяет, что, если новая любовь не раздует гаснущий в нем огонь, он не сможет больше высечь из себя ни единой искры.
Да, в семьдесят два года он думает о новой любви, тянется к
ней, ждет ее. Удивительно ли, что она вновь им овладевает, что «снова юность
вспыхнула огнем» и что он, после того как смерть порвала его союз с Витторией,
любил еще несметное число раз: юных Томмазо, donne crudele и alte donne1 отдавая, пожалуй, предпочтение
тем, у кого в лице божественным, как ему казалось, образом сливались
мужественная сила и женственная прелесть[113],
как на удивительном наброске,
сделанном им с Виттории Колонны: одухотворенный, от полноты переживания
потемневший, взор и чувственные роскошно очерченные губы. Можно сказать, что
более нигде в его созданиях и даже
465
в стихах не выражен с бо́льшим совершенством сверхчувственный характер его эротизма, уходящего корнями в титаническую чувственность.
Для нас несущественна вся та меланхолическая риторика его стихов, по законам которой он, отделяя любовь от себя самого, приписывает ей демонические свойства, называет ее своей мучительницей и гонительницей, винит ее в том, что она переполняет ему сердце жаркими слезами, вопрошает, зачем она избрала себе в жертву утомленного старца, зачем ей снова понадобилось обугленное полено — его опаленное страданием сердце:
Ты, бабочка-волшебница, опять
Меня завлечь стремишься в сеть соблазна,
С которой мудрецу не совладать?
Но когда же он был мудрецом? Любовь, в чьем царстве он, по собственному признанию, «всю жизнь провел», не какой-то вне его существующий злобный демон, которого он мог бы призвать к ответу, любовь — глубочайшая сущность его натуры, и она не только не позволяет ему умалять достоинство любимого человека, но, напротив, трогательно возвышает объект его любви над всем человеческим, хотя сплошь и рядом объект этот — весьма заурядное человеческое существо; и любовь его иссякает только вместе с жизненной силой. Да, она иссякает лишь в последние жалкие годы жизни вместе со страстью к искусству, которую он «ставил так высоко» и которая довела его до «этого» — до бедности, духовной опустошенности и ничем не согретой старости.
Зачем с тобой мне мучиться, резец,
Когда я смерть найду в гнилом болоте,
Как переплывший океан пловец?
Это строки одного из его поздних сонетов, страшного
стихотворения, с беспощадной прямотой описывающего страдальческую жизнь
Микеланджело в Maчель де Корви, его жилище в Риме; это гнусная дыра, вокруг
стоит смрад человеческих испражнений и падали, гниющей в сточной канаве, и
тут-то и проводит
466
дни и ночи оборванный старик — привидение, которого он сам страшится; он постоянно кашляет и не может уснуть от шума в ушах и одышки. Здесь наконец он написал: «В душе моей огонь любви погас», — и добавил, что большее зло, немощь плоти, изгоняет меньшее и заглушает его. Он всегда проклинал любовь как некое зло, как тяжкое испытание и сладостную отраву и при этом был привержен ей, как никто другой. Она была основой его творческой мощи, вдохновлявшим его гением, пламенной движущей силой его сверхгероического, почти сверхчеловеческого труда, и рассказывают, что сооружением купола святого Петра — его страшило это предприятие — мы обязаны неустанным уговорам, слетавшим с прекрасных губ Томмазо Кавальери, — тех самых губ, которыми он наделил мужественно-женственный образ святой Виттории.
Он сознавал эту свою приверженность красоте, влюбленности и творчеству и величественно поведал о ней в стихе, который так превосходно удался и в переводе, и который я — может быть оттого, что он относится к его поэзии, а не к его ваянию — навсегда заключил в сокровенных глубинах моего сердца:
Nel vostro fiato son le mie
parole.
Ваш тяжкий вздох мое рождает слово,
1950
ВОСПОМИНАНИЯ О МЮНХЕНСКОМ
ПРИДВОРНОМ ТЕАТРЕ
Многоуважаемый господин интендант, примите мои уверения в том, что ваше письмо, сообщающее о предстоящем в этом году открытии воспрянувшего из руин придворного театра, вызвало во мне живейшее сочувствие. Это подлинный праздник для всего Мюнхена, особенно для многочисленных друзей искусства, литературы и театра, которые в нем еще уцелели,— событие, предвещающее новую жизнь, новые радости многострадальному городу, и его бывший гражданин шлет вам из своего далека искренние пожелания счастья.
Вы поступили весьма разумно, отказавшись от реставрации
старого зала-рококо, как бы прелестен он ни был, от попытки вернуться к «это
было однажды», воссоздать картину, выглядевшую почти так, будто бы ничего не
случилось. Идея построить на груде щебня нечто совсем новое, решительно
современное, без сентиментальности, весело и смело заглянуть в светлое будущее
— гораздо благороднее. Слава долгого блистательного пути, пройденного театром
по стезе искусства, не померкнет и в новых стенах. Когда я во времена
регентства приехал в Мюнхен, властителем дум театральной жизни был до смешного
одаренный человек, в афишах скромно фигурировавший как «господин Поссарт»,
во всем же своем должностном великолепии именовавшийся ге-
468
нерал-директором, профессором, доктором и кавалером Эрнстом фон Поссартом. Не был он только «превосходительством», как ни стремился к тому. Старый Луитпольд его недолюбливал. Однако Поссарт был более превосходителен, чем все прочие «превосходительства», и в торжественных случаях ордена покрывали его от короткой шеи до самого низа живота. Я уже никогда не увижу человека, похожего на него. Комедиант высокого стиля, дипломат, царедворец, ловкий, понаторевший администратор, он — с его подсахаренным цинизмом, его просветленной вкрадчивостью, звучащим медью голосом, его лощеной идеальной реалистичностью, таким совершенным искусством речи, что каждое слово «попадало в цель», — поистине незабываем. Если Поссарт желал чтобы его театр был набит до отказа, до последнего места на галерке, было достаточно объявить, что он сам будет играть в этой пьесе: в «Банкротстве» ли Бьернсона, например, или в «Клавиго», или же в таком старье, как «Приказ короля» Тепфера, где уже одному его гриму Фридриха Великого неизменно аплодировали во время действия. В «Madame Sans-Gêne» при поднятии занавеса Поссарт-Наполеон в знаменитом артиллерийском мундире, с прядью черных волос на лбу и желтым, как айва, лицом, сидел на кушетке ампир у самой рампы, тогда как в глубине сцены робко теснились его генералы и придворные. Он с нарочитой яростью читал .«London Times», добытую Шюлером, преемником Аккермана, на Максимилиан-трассе, и под конец — грубо комкал газету. Медью звучал его голос. «Рустан!» — «Сир?» — «Время?» — «Два часа, сир». — «Кофе!» Это было бесподобно! И столь же непревзойденным по «меткости попадания» каждого слова звучало его обращенье к сонму склоняющихся в реверансе придворных дам: «Сударыни, советую вам сделать то, что уже сделала императрица, — ступайте спать!»
В его эффектных взлетах порою прорывались интонации еврейского жаргона, прекрасно отделанные, конечно и, как все у него, идеально благозвучные, меткие и до крайности впечатляющие.
469
Несмотря на то что внешностью он был так же мало похож на Наполеона, как и на Фридриха Великого, актерский гений позволял ему воплощаться в историческую фигуру столь достоверно и полно, что и потом трудно было представить себе императора иначе, чем в облике Поссарта, иначе, чем играл его он. Еще сегодня образы, созданные великим артистом, сохраняют для меня свою убедительность.
Совершенство дает радость, — его воздействие надолго остается в памяти, особенно когда воспоминания о столь щедром мастерстве приправлены изрядной толикой веселья. Пожалуй, самой совершенной ролью Поссарта был Карлос в «Клавиго», — ведь там он мог разговаривать не играя, то есть холодно, забавно, с умудренным светским цинизмом.
До удивления явственно, пятьдесят лет спустя, звучат у меня в ушах его интонации, его голос, когда он насмешливо говорит: «Глупец, это твоя вина! Я не могу жить без женщин, но мне они ни в чем не помеха». Но не менее явственно слышу я, как он, адвокат Берент, отказывается от гаванны обанкротившегося оптового торговца: «Вообще-то я друг хорошей сигары, но у меня сегодня нет охоты курить. Спасибо!» — Это пробирало до мозга костей, а придворный артист Шнейдер, игравший оптового торговца, избыточно изображал свою подавленность.
Казалось бы, речь Поссарта неподражаема. Тем не менее она вызывала неудержимое желание подражать, и немало людей в Мюнхене умели блестяще воспроизводить ее, в особенности артисты придворного театра, скажем Базиль или Путшер, но забавнее всех — Вальдау, женившийся на артистке фон Гаген, почему Поссарт, когда он немного смаразмировал, неизменно величал его «Милейший Гаген». Я помню одну репетицию, на которой Вальдау, к великой радости коллег, все время говорил, как Поссарт; эту чрезмерную резвость могущественный Поссарт внезапно пресек: «Ну, что ж, — резко отчеканил он, — если все утро копировать господина интенданта, вечером, разумеется, будешь ни на что не годен!» Должно быть, он и сам этому не верил. Вальдау и по вечерам
470
бывал способен кое на что, даже на очень многое, и одним из самых незабываемо-прекрасных спектаклей, виденных мною в придворном театре, была восхитительная комедия Гофмансталя «Трудный характер» при участии Вальдау, который в роли Ганса-Карла Бюля был поистине бесподобен.
Но все это было позже. В ту пору несравненный causeur1 Вальдау еще не принадлежал к старой гвардии придворных артистов, окружавших Поссарта. Возможно, этот ансамбль кажется мне столь блистательным только в воспоминании, — ведь вся моя юность протекала в восторженном удивлении, — и все же, думается мне, столько замечательных артистов редко соединялись в одно благородное, стройно-согласованное целое[114]. Шнейдера и Базиля я уже называл. Но там были еще Гойсер и Кеплер, Вольмут и Зуске, Штури, Ремон (великолепный император во второй части «Фауста» и превосходный ангел в «Глупце и смерти» Гофмансталя), изящная Геезе, красавица Дандлер, обворожительная Ида Гофман, игравшая гауптмановскую Ганнеле. Несколько позже в театр пришел и столь счастливо одаренный уроженец рейнского края Лютценкирхен, за взлетом и падением звезды которого я усердно следил на протяжении десятилетий. Годы шли, времена менялись, но и после первой мировой войны такие превосходные артисты, как Альберт Гейне и Штейнрюк, еще стояли на овеянных ароматом воспоминаний подмостках, достойно хранивших вечную юность искусства.
Я и не думал тогда, что и сам буду стоять на этих подмостках, когда двадцати — двадцатипятилетним юношей сидел в глубине маленького нарядного зала, и, учась, восхищался, и, наслаждаясь, внимал отточенной дикции исполнителей, их доведенной очистительной силой искусства до совершенства самобытностью, всецело отдаваясь тому, что всю жизнь интересовало меня пламенно, больше всего на свете — искусству выразительного слова. Лишь через двадцать пять лет, когда отмечали мое пятидесятилетие, до-
471
велось мне стоять на этих подмостках. Фриц Штрих, ныне ординарный профессор литературы в Берне, но тогда еще читавший лекции в Мюнхенском университете, произнес столь же умную, сколь и проникновенную речь, и прежде чем я успел открыть рот, я увидел себя — изумленный Парсифаль —в окружении прелестных юных цветочниц, и одна из них даже пыталась увенчать мое чело лавровым венком, что ей, впрочем, не удалось.
Это тоже одно из воспоминаний о «старом придворном театре»,
мое личное теплое праздничное воспоминание, и я не мог умолчать о нем. Едва ли мне знаком хоть один из
артистов, которые будут теперь играть на этой новой, по-современному
оборудованной, сцене. Но из своего далека я сердечно желаю им всем радостного
творчества, хороших пьес, хороших ролей, полных сборов, благоволения муз,
светлой победы духа над мучительно трудным временем, словом: ни пуха ни пера!
1950
«Художник и общество!» Всем ли ясно, спрашиваю я себя, в какое щекотливое положение ставит меня эта тема? Полагаю, что это ясно даже тем, кто делает при этом невинное лицо. А почему бы уж сразу не назвать эту тему «Художник и политика»? Ведь за словом «общество» прячется политическая сущность. И прячется она очень плохо, ибо художник, выступающий в роли критика общества, — это уже проникшийся политикой и вмешивающийся в политику, или, если договаривать все до конца, морализирующий художник. Итак, правильнее было бы назвать эту тему: «Художник и мораль», но какая это каверзная постановка вопроса! Ведь нам хорошо известно, что не моральное, а эстетическое начало лежит в основе натуры художника, что главный его творческий импульс— это стремление к игре, а не к добродетели, и что если даже в наивности своей он осмеливается играть проблемами и антиномиями морали, то игра эта носит лишь словесно-логический характер…
Я вовсе не хочу принизить роль художника, констатируя, что
он не имеет непосредственного отношения к морали, а, значит, и к политике, и
тем самым в конечном счете к общественным вопросам. Никогда не стал бы я
бранить художника, который заявил бы, что исправление мира в нравственном
смысле — не дело его и ему подобных, что художник «исправляет» мир не с помощью
уроков морали, а совсем по-иному —
473
тем, что закрепляет в слове, в образе, в мысли свою жизнь, а через нее и жизнь вообще, осмысляет ее, придает ей форму и помогает духу, то есть тому, что Гете назвал «жизнью жизни», постигнуть сущность явлений. Никогда не стал бы я возражать ему, если бы он настаивал на том, что только оживотворение — в любом смысле — и не что иное, есть задача искусства. Гете, которого я так охотно цитирую, потому что он умеет находить самые верные и в то же время самые изящные слова о большинстве вещей на свете, пишет об этом просто и ясно: «Вполне возможно, что произведение искусства имеет нравственные последствия, но требовать от художника, чтобы он ставил перед собой какие-то нравственные цели и задачи — это значит портить его работу». Слово «работа» звучит здесь как-то особенно скромно, а то, что именно скромности художник в какой-то мере обязан своей боязнью морализировать, видно еще яснее из другого высказывания Гете. Уже в старости он говорил: «Мне никогда не было свойственно ратовать против общественных институтов: это всегда казалось мне высокомерием, и я, быть может, действительно слишком рано стал учтивым. Короче говоря, мне это никогда не было свойственно, и потому я всегда лишь вскользь касался подобных вещей». Морально-политический, общественный критицизм художника охарактеризован здесь с достаточной очевидностью как превышение его полномочий, как отказ от скромности. А разве последняя не естественна для художника?
Она в высшей мере естественна для него, и это связано с его отношением не только к действительности и ее «институтам», но и к самому искусству, перед лицом которого каждый или почти каждый художник настолько проникается чувством собственного ничтожества, что перестает верить в какую бы то ни было причастность свою к величию искусства. Подумать только! Ведь искусство — это важнейшая и серьезнейшая область жизни, высокая миссия человеческой культуры, и даже правительства и целые государства оказывают ему официальные почести. В сознании людей оно занимает такое же почетное
474
место, как наука или даже религия. Короче говоря, оно приравнивается к высшим духовным интересам человечества. Философия зашла так далеко, что состояние эстетического наслаждения — как в процессе творчества, так и в процессе восприятия — вообще объявила наивысшим состоянием человека, поскольку оно означает постижение идеи в явлении и освобождение воли благодаря спокойно-радостному созерцанию, откуда следует, что художник является величайшим благодетелем рода людского, а его творчество — единственно полным отражением человеческого гения! Все это могло бы вселить в носителя искусства, в того, через кого оно проявляется, в художника — дерзновенное чувство собственного превосходства, могло бы лишить его способности трезво оценивать самого себя, наполнить его душу опьяняющей гордостью. Но в действительности все обстоит иначе.
В действительности, проявляясь и приобретая индивидуальный отпечаток, искусство каждый раз начинает все с самого начала и, прикрываясь наивностью, не осознавая, не познавая, или вернее, не узнавая само себя, заново вступает в жизнь, ощупью отыскивая свою собственную, еще никем не проторенную тропу. Всякий случай его проявления — особый, сугубо специфический для каждой личности, и тому, с кем это происходит, бывает трудно поставить его в связь с великой и общей идеей искусства, и даже не приходит в голову это делать. Для иллюстрации расскажу вам небольшую историю.
Зимою 1929 года, в Стокгольме, я сидел за завтраком в доме издателя Бонье рядом с Сельмой Лагерлеф, великой писательницей, лауреатом Нобелевской премии по литературе, членом Шведской академии. Это была простая, скромная женщина, несколько озабоченная своей работой, но полная дружелюбия; на лице ее вовсе не лежала печать гениальности, у нее не было великолепно-чеканного профиля, а в ее манере держаться не было и тени рисовки. Мы заговорили о ее самом популярном произведении — всемирно известной «Саге о Йёсте Берлинге», об удивительном пути этой книги сквозь все языки и через все границы
475
«Бог мой! — сказала она. — Все это в самом деле так, но не подумайте, пожалуйста, что я строила большие планы, когда делала эту вещь. Я писала ее для своих маленьких племянниц и племянников. Все это было просто забавы: ради. Нам казалось, это будет смешно». Меня привели в восхищение ее слова, ибо точно такое же случилось со мной (и я сказал об этом своей соседке), когда я писал книгу, сыгравшую в моей писательской жизни такую же роль, какую «Сага о Иёсте Берлинге» играла в ее жизни, — «Будденброки». И они были вначале всего-навсего домашним делом, семейной забавой, чуть ли не шутовской писаниной несколько неуравновешенного двадцатилетнего юноши, которую я читал своим родичам и над которой мы хохотали до слез. То, что и другие люди найдут в этом нечто для себя, или, выразимся иначе, что этот роман, если дозволено будет его так назвать, явится причиной того, что я окажусь в будущем здесь, в Стокгольме, за одним столом с автором «Саги о Иёсте Берлинге», не могло прийти в голову никому из нас в те дни, когда мы смеялись над «Будденброками»[115].
Мы обменялись с Седьмой Лагерлеф нашими историями, а теперь я рассказываю об обоих случаях вам, чтобы привести примеры того как не узнает себя наше славное искусство в своих индивидуальных проявлениях и как оно, напротив того, каждый раз так или иначе видит в себе новую, диковинную игрушку для узкого круга лиц, которая не имеет никакого отношения к великому и высокочтимому делу всего человечества и никоим образом не рассчитывает стать предметом общественного внимания и почитания. Тот, кто устраивает себе подобную забаву, и думать не думает о том, будто эти его занятия достойны всеобщего признания. По его мнению, в котором он, кстати сказать, долгое время бывает не одинок, это просто шалости, с помощью которых он необычным и недозволенным образом потешается над серьезностью жизни. При столь легкомысленных занятиях потребности человеческого общества обычно не принимаются
476
в расчет, а потому он как сочлен этого общества вряд ли может похвастать чистотою своей совести. Иными словами, я говорю о богемных настроениях художника, ибо с психологической точки зрения богема ведь и есть не что иное как социальная беспорядочность, как нечистая совесть (нечистая — по отношению к гражданскому обществу со всеми его требованиями), растворенная в легкомыслии, в юморе, в склонности иронизировать над самим собой.
Однако характеристика богемного состояния, которое никогда не покидает художника до конца, не будет полной, если умолчать об испытываемом им чувстве духовного и даже морального превосходства над разгневанным обществом, превращающим это состояние в переходное между первоначальной бессознательной игрой одного индивидуума и постижением сверхличного величия искусства, величия, приобщиться к которому этот индивидуум отваживается. Таким образом, богемная ирония приобретает по меньшей мере двойственный характер, являясь иронией художника как по отношению к самому себе, так и по отношению к гражданскому обществу в одно и то же время. Преобладает, однако, первая, и такое преобладание, возможно, будет существовать долго, быть может, даже всегда, ибо для этого имеются достаточно веские основания. В художнике, который постепенно и непроизвольно начинает лично приобщаться к сверхличному величию искусства, живет инстинктивное желание с насмешкой отвергать все, что называется успехом, все светские почести и связанные с успехом выгоды, и он отвергает их из приверженности к тому еще совершенно индивидуальному и бесполезному раннему состоянию искусства, состоянию легкой и свободной игры, когда искусство еще не ведало, что оно является «искусством», и смеялось над самим собой. Собственно говоря, художник стремится удержать его в этом состоянии. Пусть искусство, думает он, никогда не перестает смеяться над собою. Ему, художнику, во всяком случае всегда хочется делать именно это, вместо того чтобы с серьезной миной при-
477
нимать различные почести, изменяя тем самым своей неприкаянной одинокой юности. Его охватывает страх перед возвеличиванием его особы, — я бы сказал, страх стыдливый, ибо он есть не что иное как стыд, испытываемый художником перед лицом искусства.
И этот стыд легко поддается объяснению. Ведь они очень отличаются друг от друга, художник и искусство! Разница между искусством в целом и каждым особым случаем удивительно-неповторимо-неполноценного и почти неприметного проявления его сущности в одном человеке очень велика, и хотел бы я знать, какой художник не покраснеет внезапно, увидев перед собою творение подлинного мастера. Происходит это оттого, что в искусстве любой труд означает новое, уже само по себе весьма искусное, приспособление личного и индивидуально обусловленного к искусству вообще и каждый индивидуум, сравнивая свои произведения, даже удачные и получившие всеобщее признание, с шедеврами другого художника, вправе спросить себя: «Можно ли вообще сравнивать мою стряпню с такими вещами?» — «Можно ли?» — вот вопрос, продиктованный скромностью художника, его трезвой оценкой искусства. И почему она должна иссякнуть, эта естественная скромность, когда речь заходит не о той области, в которой он трудится, не об искусстве, а о действительности, о сосуществовании людей, о гражданском обществе?
Необходимо хотя бы вкратце коснуться здесь своеобразного единства искусства и критики. Известно, что многие художники одновременно являются критиками, можно даже сказать, берут на себя смелость быть судьями искусства, несмотря на кажущееся противоречие, которое заключается в том, что некто, ощущающий собственное ничтожество перед лицом искусства, нисколько этим не смущаясь, позволяет себе выступать в роли его компетентного судьи. На самом же деле критический элемент является врожденным свойством всякого искусства; по-настоящему дисциплинированное творчество не может обойтись без него, и он, следовательно, лежит в основе требовательности
478
художника к самому себе, но зачастую бывает склонен и к тому чтобы где-то вовне подыскивать себе объекты эстетической критики, эстетических исследований и оценок. Как ни странно, в сфере поэтического, литературного искусства чаще всего и в наиболее яркой форме подобные склонности обнаруживает лирика, эта, казалось бы, самая нежная и зыбкая форма его существования. Лирика явно намного сильнее связана с критикой, чем драматическое и повествовательное искусство, и это, по-видимому, проистекает из ее субъективности и прямолинейности, из той непосредственности, с какой в лирической поэзии слово становится носителем чувств, настроений, взглядов.
Слово! Разве уже сама по себе не является критикой эта трепетная стрела, посланная могучей тетивою Аполлонова лука, попадающая в цель, с жужжанием и свистом впивающаяся в нее? Уже в песне — и в песне, пожалуй, даже больше чем где-либо, — слово является критикой, — критикой жизни, которая, в сущности говоря, никогда не была угодна миру. Надеюсь, меня не осудят за то, что, прослеживая отношение художника к обществу, я в первую очередь думаю о художнике слова, о художнике в образе поэта, литератора, и здесь нельзя не отметить, что бытие такого художника, именно потому, что он служит слову, неразрывно связано с несколько оппозиционным его положением по отношению к действительности, к жизни, к обществу. Судьба писателя всегда зависела от позиции, которую он как мыслящий человек занимал по отношению к косной вздорно-дурной людской натуре и которая коренным образом определяла его мироощущение. «С высоты разума, — писал некогда Гете, — вся жизнь представляется злым недугом, а мир — сумасшедшим домом». Так может сказать лишь настоящий писатель, выражая свое болезненное недовольство человеческой жизнью, ту особого рода раздражительность, стремление уйти в себя, о которых я здесь говорил. Какие же принципы определяют сущность поэта, литератора? Принципы эти — познание и форма, то и другое
479
одновременно. Особенное состоит здесь в том, что для него они органически сливаются в единое целое, так что одно обусловливает, вызывает, требует другое. В этом единстве для него все: интеллект, красота, свобода. Там, где его нет, вступает в свои права глупость, будничная человеческая глупость, проявляющаяся и в отсутствии формы, и в отсутствии познания, и он даже не может точно сказать, что больше действует ему на нервы — первое или второе.
Если где-нибудь вообще можно найти корни того чувства духовного и, как я уже говорил, даже морального превосходства художника над гражданским обществом — чувства, которое, несмотря на его ироническое отношение к самому себе, уже на ранних порах развивается у него, то искать их следует именно здесь. Что это чувство, выходя за пределы эстетики, притязает также и на сферу нравственности, может создать самое невыгодное впечатление нескромности. И все-таки не подлежит сомнению, что врожденному критицизму искусства свойственно нечто моральное, проистекающее, очевидно, из идеи «добра», нашедшего себе приют в обеих этих сферах: эстетике и нравственности. Ведь поистине всякое искусство охватывается двузначностью слова «доброе», в котором встречаются, смешиваются, сливаются друг с другом эстетическое и этическое добро и смысл которого, выходя за пределы чистой эстетики, распространяется на все, что вообще достойно одобрения — вплоть до высшей, всемогущей идеи совершенства.
«Доброе» и «злое» — «хорошее» и «плохое». Какую психологическую возню поднял Ницше вокруг этой пары противоположных понятий! Но разве, спросим мы, «плохое» и «злое» действительно столь различные вещи, как это ему казалось? Ведь в мире искусства все злое, жестокое, издевательски-враждебное по отношению к человеку вовсе не обязательно является плохим. Если это сделано добротно, то это уже «хорошо». В мире же обыденной жизни, в человеческом обществе все плохое, глупое и ложное — это уже зло, ибо оно недостойно человека и пагубно для него, и как только критицизм искусства подыскивает себе
480
объекты вовне, как только он приобретает общественный характер, он становится и моральным, — художник превращается в социального моралиста.
В этом качестве мы знаем его уже давно. В наши дни роман — господствующий жанр литературного искусства, преобладающая форма последнего, и чуть ли не по природе своей, чуть ли не eo ipso1 он является романом социальным, социально-критическим. Таким он был и продолжает оставаться повсюду, где он достиг расцвета: в Англии, во Франции, в России, в Америке, а также в Италии и скандинавских странах. И только в Германии дело обстояло несколько иначе. То, что немец обозначает словом «Innerlichkeit»2, заставляет его отворачиваться от всего общественного, и наряду с европейским социальным романом Германия, как известно, создала более интроспективный жанр романа воспитания и развития. До какой степени, однако, и этот жанр, являющийся облагороженной формой наивного жанра авантюрного романа, связан с изображением общества, лучше всего свидетельствует его классический пример, гетевский «Вильгельм Мейстер»: насколько легко и свободно идея самовоспитания личности, переживающей различные приключения, переходит в область педагогики и, как бы помимо воли автора, смыкается с социальным и даже политическим, показывает именно это великое произведение. Гете не имел интереса к политике и готов был обвинить в высокомерии художника, подвергающего критике социальные учреждения. А если порою он изменял своему правилу, — как например, в той неистовой, так никогда и не вылившейся в стихи, прозаической сцене из «Фауста», где охваченный гневным отчаянием писатель бичует жестокость общества по отношению к падшей девушке, — то в дальнейшем он охотно обуздывал себя. Но отказать ему в общественном инстинкте, в интересе к социальным проблемам и, более того, в глубоком знании судеб общества, ему, который в «Годах
481
странствий»[116] своим необычайно острым, поистине ясновидческим взором заглянул в социально-экономическое развитие XIX столетия и увидел индустриализацию старых культурных стран с аграрными традициями, господство машины, технизацию жизни, подъем организованного рабочего класса, классовые конфликты, демократию, социализм и даже американизм со всеми духовными и воспитательными последствиями, вытекающими из этих преобразований, — отказать ему во всем этом никак не возможно. Что же касается политики…
Да, что касается политики, то и сам Гете, как он ни предостерегал от нее художника, не был в состоянии разорвать неразрывное и уничтожить узы, неизменно соединяющие искусство и политику, политику и дух. Здесь сказывается просто-напросто цельность всего человеческого, которую никоим образом нельзя отрицать. Взять хотя бы борьбу Гете против романтиков, против их игры в патриотизм и католицизм, против культа средневековья, против лицемерия поэтических тартюфов и рафинированных мракобесов всех мастей, — чем иным была она, как не политикой? И пусть даже она выступала в эстетически-литературном обличье, но в основе своей это была политика pur sang1[117], и она была ею уже хотя бы потому, что объект его нападок, романтизм, сам был политикой, а именно — контрреволюционной. Можно, конечно, попытаться вывернуться с помощью таких понятий как культурная или духовная политика, якобы отличная от политики в «собственном», «узком» смысле слова. Но все это только подтверждает неделимость проблемы гуманизма, которая нигде и никогда не имеет «узкого смысла», а, наоборот, включает в себя все сферы. Эстетическое, моральное, общественно-политическое сливаются в ней воедино.
И тут благодаря этому единству мы замечаем поразительное отсутствие единства и противоречивость духа в его отношении к проблеме гуманизма. Ибо дух многолик, и для него возможна любая позиция по
482
отношению к человеку, даже такая, которую можно было бы назвать негуманизмом или антигуманизмом. Дух вовсе не образует некоей цельной, монолитной силы, стремящейся лепить мир, жизнь и общество по образу и подобию своему. Предпринимались, правда, попытки провозгласить солидарность всех деятелей духовной культуры, но все они были несостоятельны. Между носителями различных форм духа, между различными выразителями его воли существует глубочайшее полное презрения и ненависти взаимное отчуждение, которое не имеет себе равных. Есть нечто произвольное в представлении будто дух в силу своей природы стоит — воспользуемся общественно-политическим термином — «на левом фланге», что он, иными словами, преимущественно связан с идеями свободы, прогресса и гуманизма. Это предрассудок, многократно опровергнутый жизнью. Дух может точно так же и даже с большим блеском примыкать и к «правому» крылу. Сент-Бев говорил, что у гениального реакционера Жозефа де Местра, автора книги «Du pape»1, «от писателя был только талант». Сказано неплохо, причем в словах этих отражается предвзятое мнение будто служение литературе совпадает с прогрессивностью, и одновременно признается, что можно, обладая величайшим талантом, блеском и остроумием, быть певцом антигуманизма, виселиц, костров, инквизиции, короче говоря, всего того, что прогресс и либерализм именуют царством тьмы.
Возьмем в качестве критерия такое общественно-политическое событие как французская революция. Какая глубокая пропасть в отношении к ней разделяет, например, Мишле и Тэна, с его чрезвычайно меткой критикой якобинства, или, скажем, Эдмунда Бёрка, автора «Reflections on the Revolution in France»2, которые были переведены на немецкий язык Фридрихом фон Генцем, этим романтиком от политики, и оказали огромное влияние на целые поколения; я сам во время первой мировой войны, то есть
483
в ту пору своей жизни, когда я находился в плену консервативно-националистических и антидемократических настроений, с увлечением их цитировал. Это действительно первоклассная книга, и если доказательством правоты какого-либо дела является то, что в защиту его пишут хорошо[118], то дело Бёрка — поистине правое дело.
Вспомним также, что социально-критические устремления такого творца великих эпических полотен, как Бальзак, шли преимущественно «справа», хотя, например, барон Нусинген, этот продукт буржуазно-капиталистического общества, может подвергаться критике не только с правых, но и с крайне левых позиций. Да и в наши дни убедительный пример консервативной или, если хотите, реакционной социальной критики, сочетающейся с утонченнейшей художественной прогрессивностью, дал недавно скончавшийся Кнут Гамсун, отступник либерализма, сформировавшийся под влиянием Достоевского и Ницше, полный ненависти к цивилизации городской жизни, индустриализму, интеллектуализму и тому подобным вещам, заклятый враг Англии, настолько приверженный ко всему немецкому, что с приходом Гитлера к власти он с великой радостью отдал себя на службу национал-социализму и стал одним из тех, кого называют изменниками родины[119]. Того, кто был хорошо знаком с его творчеством, творчеством великого писателя, не могли удивить ни его духовный путь, ни личная его судьба. Достаточно вспомнить, с каким комизмом, с какой злой иронией высмеивал Гамсун в своих ранних книгах таких исторически типичных представителей либерализма, как Виктор Гюго или Гладстон. Но то, что в 1895 году означало всего лишь оригинальную, парадоксальную эстетическую позицию, то, что было тогда изящной словесностью, в 1933 году обернулось политической злобой дня и тягчайшим, трагичнейшим образом омрачило мировую славу писателя.
Случаю с Гамсуном аналогичен случай с Эзрой Паундом — другой волнующий пример глубокой раздвоенности духа в отношении к общественным проблем-
484
мам. Смелый художник, авангардист в лирике, он тоже бросился в объятия фашизма, пропагандировал его во время второй мировой войны как активный политический деятель и проиграл свою игру благодаря военной победе демократии. Когда он был уже арестован и осужден как предатель, жюри, состоящее из весьма заслуженных англо-американских писателей, присудило ему высокую литературную награду, премию Боллинджена, продемонстрировав тем самым пример величайшей независимости эстетического приговора от политики. А может быть, в действительности этот приговор был не так уж далек от политики, как кажется на первый взгляд? Не сомневаюсь, что я не одинок в своем желании узнать, присудили бы эти весьма заслуженные члены жюри премию Эзре Паунду, если бы он вдруг стал не фашистом, а как раз наоборот…
Что касается меня лично, то именно фашизм, сначала своими победами, а затем своим поражением, которое далеко не всех обрадовало и которое, как выясняется, может вскоре оказаться неполным, толкал меня на левый фланг социальной философии, временами превращая меня в какого-то странствующего поборника демократии, и даже в те времена, когда я всей душою, страстно, как никогда, желал Гитлеру гибели, я не мог не замечать комизма своей роли. Нельзя ведь отрицать, что в политическом морализировании художника всегда есть нечто комическое, что пропагандирование гуманистических идей почти всегда граничит (и не только граничит) для него с пошлостью. Мне пришлось постигнуть это[120], и если выше я характеризовал общественно-реакционные устремления писателя как парадокс, как известное противоречие между его миссией и способом ее осуществления, то я прекрасно сознавал, что в этой парадоксальности и противоречивости может таиться высший духовный соблазн, что в духовном отношении они благодарнее политической добронравности и представляют собою несравненно более надежную защиту от банальности. Можно еще спорить, или, вернее, едва ли можно спорить о том, кто духовно интереснее
485
как политический писатель, Жозеф де Местр или Виктор Гюго. Но если этот вопрос споров не вызывает, то напрашивается другой: что важнее, когда речь идет о политике, о человеческих потребностях, — занимательность или доброта?
«Almost too good to be true»1, — такими словами некто Филип Тойнби, английский критик, охарактеризовал политическую позицию, которую я занимал за последние тридцать лет. Он сделал это в статье «The Isolated World Citizen»2, напечатанной в «Observer». В ней не более семисот слов, представляющих собою самое справедливое из всего, что было когда-либо сказано в Англии, да и вообще где-либо, о моей персоне. Молодой Тойнби прав: немало сомнений вызывает эта позиция, сомнительно в ней все, что связано с оптимизмом, демократизмом, гуманизмом и верой в человечество, и даже мое world citizenship3 не является неоспоримым. Ибо книги мои — это безнадежно немецкие книги[121], и все, что есть в них от социально-политических проблем, — результат преодоления не только естественной скромности, но и пессимизма ума, прошедшего школу Шопенгауэра, ума, в сущности, мало способного принимать благородно- гуманную позу. Скажем прямо: во мне не очень много веры, и не столько в веру я верю, сколько в доброту, которая и без веры легко обходится и даже может являться продуктом сомнения.
Лессинг говорил о своей драме «Натан Мудрый»: «Меньше всего это будет сатирическая пьеса, с язвительным смехом покидающая поле боя. Это будет такая же трогательная пьеса, какие я писал всегда». Вместо «сатирическая» он мог бы сказать: «нигилистическая», если бы это слово тогда уже существовало, а вместо «трогательная» — «добрая», чтобы о нем, боже упаси, не подумали, что коль скоро он скептик, то, значит, и злобно ухмыляющийся ниги-
486
лист. Каким бы суровым обвинением ни
являлось искусство, как ни горько сетует оно на гибель мироздания, как ни
далеко оно заходит в иронизировании над действительностью и над самим собой, —
не в его натуре «с язвительным смехом покидать поле боя». Жизни, для
одухотворения которой оно создано, оно не грозит кощунственной рукой. Оно
предано добру, и сущность его — доброта, которая сродни мудрости, но еще более
близка любви. И если оно охотно смешит человечество, то не издевательский смех
вызывает оно у него, а радостное веселье, избавляющее от ненависти и глупости,
освобождающее и объединяющее людей. Воздействие его, каждый раз заново
рождающееся из одиночества, приносит единение. Оно и не думает строить себе
иллюзии о своем влиянии на судьбу человечества. Презирая все плохое, оно
никогда не могло воспрепятствовать победе зла: все осмысляя, оно никогда не
преграждало дорогу самой кровавой бессмыслице. Искусство не сила, а лишь
средство утешения. И все же эта игра всерьез, этот критерий всякого стремления
к совершенству с самого начала был дан в спутники человечеству, и оно никогда
не сможет отвратить своего омраченного виною взора от невинности искусства.
1952
ГЕРХАРТ[122]
ГАУПТМАН
…Музыка и самое слово усопшего: этим, собственно, и
следовало ограничиться, отмечая бессмертие гения в торжественный час траура,
радости и любви. К чему было вызывать меня, чтобы я где-то между тем и другим —
между великой музыкой и словом великого поэта — пристроил собственное словцо о
«признании заслуг» (ведь так, кажется, принято это называть), в незначительности
которого я сам наперед уверен? Но поскольку этого пожелали, поскольку— и это
главное — высокочтимая вдова оказала мне честь просьбой присутствовать среди
вас и обратиться к вам с речью — как же я мог, в самом деле, пренебречь этим и
не выразить своего благоговения перед памятью Герхарта Гауптмана, перед его
вечно ощутимым бессмертием? Мы празднуем девяностолетие со дня его рождения.
Через десять лет, снова собравшись здесь и повсюду в Германии, отметят
юбилейные недели постановкой его драм, созерцая его жизнь, жизнь,
благословенную истинным творчеством, чтобы вновь и вновь убедиться в его
бессмертии. И затем в следующие двадцатипятилетия, когда истечет сто лет со дня
его столетнего юбилея, другие поколения немцев будут делать то же самое в честь
праздника жизни, над которой не властна бренная плоть и которую не в силах
поглотить могильная земля, потому что она, эта жизнь, — явление духа!
488
В свое время увлекались (хоть это и было праздным, неразумным занятием) противопоставлением духа и жизни и даже объявляли дух противником жизни. Как будто бы сам дух не является жизнью, не есть выражение ее силы, как будто бы не в нем состоит более сильное, высокое и осмысленное ее проявление, как будто бы дух не животворен в буквальном, то есть биологическом, значении слова! Одно время после первой мировой войны среди писателей-экспрессионистов было принято отрицать духовное начало в творчестве Гауптмана. И все же нет ничего более впечатляющего, чтобы не сказать — интересного, в этой большой, много охватившей, всегда плодотворной и величественно возвышающейся над подобной критикой, жизни, чем живительные притоки духа, питавшие ее и превратившие когда-то узкогрудого и бледного, предрасположенного к чахотке и по-сектантски воздержанного юношу в широкоплечего, коренастого и гордого жизнью мужчину, в бодрого кутилу, хорошего едока, в крепкого, как дуб, и по-королевски величественного старца, который, вопреки незнатному происхождению, всем своим обликом наталкивал на великие воспоминания, воплощая своим невозмутимым достоинством поэтическую Германию.
Я был на тринадцать лет моложе, и потому не знал его в годы юности. Я был мальчиком в 1899 году, когда «Перед восходом солнца» потрясло бюргерскую публику — публику, не желавшую отказаться от эпигонства, столь доступного ее пониманию, не принимавшую и высмеивавшую, как нечто враждебное поэзии, новые проблемы, волновавшие тогдашнюю литературу, новый язык, которым она пользовалась. Лишь слабый отзвук исторической победы, одержанной «Ткачами» на театральных подмостках, коснулся четыре года спустя слуха восемнадцатилетнего юноши, пытавшегося в это же время освободиться от пут своего родного города. Мой путь вел в Мюнхен, а не в Берлин, где разыгрывались те сражения. И хотя моя любовь и ранние привязанности уже тогда принадлежали эпосу, европейскому роману, а не драме, тем не менее растущее творчество Гауптмана, разумеется,
489
постоянно привлекало мое внимание и в южнонемецкой столице, помогая воспитанию моей юности и глубоко затронув мою восприимчивость этикой социальной солидарности, столь много познавшей человечностью и —чтобы не забыть! — своим словесным искусством, тайным и явным. Но вот что поразительно: на литературной повестке дня стоял тогда натурализм, и Герхарт Гауптман по праву считался его знаменосцем, ибо действительно принадлежал ему частью своего поэтического «я», а вместе с тем нечто совсем другое уже включалось в движение и волю времени; это новое имело мало общего с грубым воспроизведением натуры, и даже напротив — было его прямой противоположностью. Вспомним призрачные внушения поздних ибсеновских драм; идущее от французского Парнаса эзотерическое языковое новаторство Стефана Георге, по-своему революционное и столь же эпатирующее буржуа, как и пу́гало натурализма; ранние символические драмы Метерлинка с их тревожным языком сновидений; насыщенное культурой юношеское и повенски хрупкое искусство Гуго фон Гофмансталя; патетически морализующий сексуальный цирк Франка Ведекинда; Рильке — с его столь новым, столь обольстительным лирическим звучанием. Все это, появляясь одновременно, было выражением воли этого бурного времени, в котором разнообразные течения, столь отличные друг от друга и тем не менее отмеченные общей печатью эпохи, сливались друг с другом, взаимно перекрещивались и переходили одно в другое.
И разве в конце концов сам я не взялся писать роман, семейную хронику со всеми несомненными признаками натурализма, но с точки зрения своей эпической формы и художественной направленности невольно отставшую от него и в то же время его обогнавшую? И разве мог я, при всей своей ученической восторженности перед более родственным мне по жанру, устоять, не пойти на выучку к уже созревшему творчески, столь славному современнику, в труде жизни которого слилось так много литературных течений того периода, — неоромантизм обернулся реализмом,
490
воинствующее разоблачение действительности пере- елось с поэзией, а распад изживших себя форм недвусмысленно повлек за собой новые обязательства. Здесь все было правдой и ритмом, ниспровержением и искусством, — или, как писал старик Фонтане своей дочери по поводу «социальной драмы» «Перед восходом солнца»: «Он показывает жизнь такой, какова она есть на самом деле, со всеми ее ужасами; он ничего не прибавляет, но и ничего не убавляет. При этом (в чем и состоит главная хитрость и что особенно меня восхищает) там, где профаны видят всего-навсего копирование жизни, — столько искусства, что больше просто невозможно себе представить».
Нет[123], с самого начала творчество Гауптмана не было калькой действительности, натуралистическим санкюлотством; оно было искусством, причем таким искусством, сквозь модернистский и диалектный покров которого рано стала просвечивать его вневременная классическая сущность. Тот, кто в преклонном возрасте стал автором «Ифигении в Дельфах и Авлиде», драм об Агамемноне и Электре, в расцвете сил — в тридцать шесть лет — пишет «Возчика Геншеля», аттическую трагедию в грубом облачении простонародно-реалистической современной действительности. Ежедневно к рукописи прибавлялось всего по нескольку строк, рассказывал он, «так он и создавался, этот классический шедевр», — добавлял старик с хорошо знакомой нам хитрой усмешкой.
Рихард Демель первый указал ему и нам на тайную организованность его якобы натуралистического силезского народного языка, он увидел в нем мастера ритма, который часто, как, например, в конце «Михаэля Крамера», при почти полном отсутствии мыслей или их крайней расплывчатости опирается исключительно на язык. Как я любил последний акт с гробом Арнольда Крамера в сиянии свечей, когда смерть облагораживает и возвышает этого мерзкого человека,— смерть, этот «самый милосердный вид жизни, это творение вечной любви». Едва слышно слетают эти слова с губ отца, полные характерного для гауптмановской поэзии чувства — чувства непостижимости
491
космическо-метафизической судьбы человека. «Куда пристать? Куда нас тянет?.. Почему мы иногда ликуем неизвестно отчего? Мы — ничтожные, затерянные в необъятном… Будто мы знаем, зачем все это». (К маске Бетховена): «И ты радовался… А что ты познал? От земных радостей ничего не осталось. Но и на небе нет радостей тоже! И этого нет, и того нет. Но что же, что же будет в конце концов?»
Часто, присутствуя на его спектаклях, я думал о Гоголе, который свой великий роман-гротеск «Мертвые души», эту горькую, жесточайшую сатиру на русскую действительность, назвал «поэмой» — и вполне оправданно, ибо над ярким комизмом действительности постоянно возвышается торжественная, как гимн, полная мелодии поэзия. Так же[124] гауптмановский реализм и натурализм с самого начала был насквозь пропитан и ритмизован поэзией, которая потрясает нас своей жалостью в «Шлюке и Яу», когда несчастный ставший жертвой мистификации пьяница начинает бредить о бочке с водкой: «Боже, сколько водки, — тут пир для многих тысяч мотыльков»; мрачной мелодраматической поэзией, которая царит в «Крысах», в сцене, когда Бруно Мехельке рассказывает в воскресное утро под звон колоколов о совершенном им убийстве: «Я, значит, чуточку веселый был, и тогда все это и случилось, так вот — взяло и случилось». И неземные видения бедной Ганнеле вовсе не мыслятся им, вопреки мнению жестокосердной критики, как спекулятивный контраст социальным страданиям, — в ее грезах пение ангелов, уносящееся от серой прозы действительности, преисполнено сочувствия к прославляемому им страданию:
От ног наших светит зеленый
Свет нашей родины дальней;
И вечный град отразился
В наших глубоких глазах1
Каким великолепным белым стихом шествует драматическая поэма, в которой самый гордый из мужей,
492
господин над миром и любимец богов унижен отвра- тительной болезнью, превратившей его в жалкого урода, в пугало для людей:
…Если кто
сказал, что Генрих вел себя, как турок,
и в шелковых тюрбанах щеголял,
что конь его — арабской чистой крови —
ступал, бряцая знаком Магомета,
нося на сбруе месяц золотой,
и что господь его Алеппским знаком
столь щедро наградил, — сказавший это
не очень лжет…1
Мне не надо было заглядывать в текст — стихи сами слетают с языка, — ведь они сопровождают меня сквозь десятилетия. Они принадлежат одновременно к старой и новой сокровищнице красоты, хотя и чуждой мне чеканки, — стихи, которые я всегда готов декламировать, потому что несу их в себе, и позже, когда я лично познакомился с чародеем слова, который к тому времени уже был убелен сединами, я сказал ему, что из всех его вещей «Бедный Генрих» — эта поэма о блеске, падении и возрождении — наиболее дорог моему сердцу.
Но это случилось много позднее. А пока я наблюдал, как он шествует, возвышаясь над всеми нами, по своему жизненному и творческому пути, — наблюдал всегда с почтением, порою недоумевая, порою слишком мало восхищаясь им, но всегда с презрением в сердце относясь к литераторам, упрекавшим его в «антиинтеллектуализме». Этим словом они, в сущности, сами того не понимая, обозначали нечто достойное уважения, впечатляющее в нем: его великолепное поэтическое косноязычие и тот иррационализм, который с годами усиливался по мере того, как биологическое начало в нем крепло, становилось здоровее, величественнее; особенно ярко проявилось оно в его позднем фрагменте «Великий сон», который поражает одновременно своей законченностью и незавершенностью, а также формальным совершенством терцин, в которых настолько сильна власть бьющих ключом
493
видений, что автор порою не в силах совладать художественными средствами с их наплывом. Перед нами жизненный труд невероятного масштаба, в котором как раз по причине его огромности далеко не все окончательно отделано и прояснено, не все, что составляло духовное богатство этого человека, получило творческое выражение. Переизбыток грез, заставлявший его, как известно, кричать во сне, требовал поистине нечеловеческих сил для их укрощения, пусть даже он и оставлял без внимания все неудачное и сомнительное. И тот, кто действительно, по-настоящему уважает его, вовсе не должен превозносить эпос «Тиль Уленшпигель», написанный гекзаметром как художественно-цельное произведение; по-моему, просто неблагородно по отношению к перенесенным им страданиям с легким сердцем прославлять величие этого эпоса. Примером такого наплыва иррациональных видений может служить картина города, над которым не взошло солнце (восьмое приключение); это в высшей степени величественное и вместе с тем жуткое зрелище свидетельствует о ночных страхах, о космическом ужасе, который жил в нем и нашел свое потрясающее выражение в одном маленьком стихотворении 1934 года:
Как тяжек тоски и тревоги гнет,
Как невыносимы страданья!
Всю долгую ночь, всю ночь напролет
Мне грудь разрывают рыданья!
............................
О, выдержи, вынеси эту ночь,
Иначе — пиши пропало,
Иначе — в последний раз вчера
Ты видел, как солнце вставало.
Яростным криком у солнца моли
Радость освобожденья,
Иначе — тебя опутает ночь
Черной паучьей тенью.
«Гауптман — поэт социального сострадания» — это общее место я также вынужден повторить. Однако же слова: «Бедная, сколько ей пришлось выстрадать!» — выражают не сострадание, составляющее душу его столь чтимого нами творчества, а, скорее, само стра-
494
дание, смертную муку его кошмарных видений, порой достигающую мощной образности благодаря всепобеждающей силе поэзии. Но из-за чего все эти страдания? Из-за людской мерзости, из-за демонически-загадочного жребия человечества и прежде всего из- за тех пыток и горя, которые оно само себе уготовило. Об этом свидетельствуют, это выдают грандиозные пассажи, — особенно из «Великого сна», — пассажи, где чудовищные страдания воплощаются в образах — законченных художественных образах, бок о бок с которыми опять-таки уживается сомнительное и неудачное; и, на мой взгляд, нет ничего удивительного в том, что в его последних, написанных в старости драмах сороковых годов полновластно господствует страдание, ибо все эти четыре пьесы — не что иное как бегство из мертвой немоты гитлеровского режима к маскам кровавого мира Атрид.
А послушать только палача Герга в драме из эпохи инквизиции «Магнус Гарбе», подсчитывающего свои барыши: «За облитого маслом и сожженного еретика — двадцать четыре флорина, за четвертование живым — пятнадцать флоринов тридцать крейцеров, за отсечение головы мечом и последующее колесование — десять флоринов, за четырех еретиков, сожженных живыми — тридцать флоринов». В известном смысле Гауптман как поэт и человек нес в себе всю кровавую историю человечества, в частности немецкую, мучаясь и страдая во плоти как никто другой. Михаэль Крамер: «Видите, здесь лежит сын, рожденный матерью. Люди — жестокие звери… Вы так же поступили с сыном божьим, вы так же поступаете с ним и теперь…» Недавно во время новой постановки этой драмы немецкая пресса сделала неожиданное «открытие»: она вдруг обнаружила, что задолго до Теннеси Вильямса (и других его современников) существовал Герхарт Гауптман. Мы, со своей стороны, добавим: с совсем иной, чем у них, хваткой и страстностью сердца. Страдания, кровь, ночные страхи, — и вытекающая из них тесно с ними переплетающаяся жажда прекрасного, жажда света и «солнечной радости освобождения».
495
Отсюда, рядом с этим — любовь к греческой весне, в которой он столь публично и вместе с тем трогательно признался в семьдесят один год, в момент присуждения ему звания члена-корреспондента Афинской Академии: «С юных лет я был страстно привязан к Афинам». Привязанность к Афинам, к Греции, к светлой красоте, жажда телесного оздоровления, свободной чувственности, роскошной женственности, все сильнее проявляющиеся в позднем периоде его творчества, и в самом деле были у него «страстными», то есть родились из страдания, и его эротика живет этим двуединством мученичества и жажды красоты. Мы находим у него и христиански нежных, малокровных, как бы прозрачных в своей духовности девушек— Ганнеле, Оттегебе, Эльзалиль из «Зимней баллады», и чувственных, как Ева, богоподобных женщин вроде Агаты в «Соанском еретике», с одуряющей сладостью ее почти презрительно изогнутых губ, ее затылком, ее плечами — «против них нет защиты, нет оружия» — ее волнующейся грудью, освященной ужасами жизни. «Она поднялась из самых глубин мира и, пройдя мимо удивленных, продолжает подниматься в бесконечность, как та, в чьи беспощадные руки передоверена власть над небом и адом». Какой дурман чувств! Какое упоение величием чувственности! А ведь это далеко не единственный в его поэзии пример восторженного поклонения вечной телесности, глубочайшего увлечения ею. Распятый на кресте и Дионис, гефсиманский страстотерпец и языческий жрец, подбирающий в сакральном танце свое платье, мифологически сплелись в его душе, так же как и в душе Ницше…
Но не процитировал ли я на этот раз уже не его, а самого себя? Нет, — все-таки его, как некогда я цитировал, вернее сказать — заклинал его в романе, который не одной своей забавной сценой обязан моему личному знакомству с ним. И сегодня, более четверти века спустя, я нисколько не жалею о содеянном, как бы меня ни чернили за это. И вот сейчас я должен его чествовать. Но разве однажды, пусть даже недозволенным образом, я не почтил его память долговечнее
496
в этом своем романе? Ибо лишь художественным, а не аналитическим словом можно достойно трактовать об иррационально-поэтическом. Об этом моем злодеянии, совершенном, я бы сказал, из чувства преклонения перед ним, в свое время много сплетничали и злословили, — так почему бы и мне не поговорить об этом, тем более что меня простила его великая милость. Как я уже сказал, мы близко сошлись с ним, когда он был еще полон сил. Мне было сорок восемь, ему — шестьдесят один год. Это было осенью 1923 года, в Больцано-Гриесе, где он работал над «Великим сном» и «Островом великой матери», а я — над «Волшебной горой». До этого мы уже виделись несколько раз, но это были мимолетные, поверхностные встречи. Теперь же, почти на вершине моей жизни и уже на склоне его жизни, волею случая мы встретились под крышей гостиницы-пансиона, из которого открывался вид на горы «Сада роз», и при всей угнетенности тогдашними своими писательскими заботами — работа над романом у меня не клеилась — я, как и он, от всего сердца благодарил судьбу за эту встречу. Мы вместе проводили вечера; наши жены нашли общий язык. Он сблизился со мной, охотно брал меня собутыльником в боценские питейные заведения и от всего сердца смеялся всякий раз, когда после холодного вина, которое я пил лишь ради него, я отводил душу за горячим кофе. Его, некурящего, очень забавляло, что я охотнее наслаждался своей сигарой, чем даром Бахуса, который его подкреплял и освежал. «Он курит!» — произносил он на своем приятном силезском диалекте, довольный, по-видимому, тем, что и у меня была своя страстишка. Охотники за автографами протискивались к нам, обкладывали его своими альбомами и листами, естественно, совершенно не интересуясь мною. Меня это вполне устраивало, но не его. Никогда не забуду, как он, по доброте сердечной, ни за что не хотел мириться с тем, что мною так пренебрегали, что я как бы исчезал рядом с ним, больше того —это смущало и озадачивало его…
— Господа, — говорил он, поднимая палец. —Вы, по-видимому, понятия не имеете о том, кто здесь
497
еще… Короче говоря, вы рискуете упустить возможность…
— Ах, оставьте же, — просил я, но он не успокаивался до тех пор, пока и мне не стали протягивать записные книжки и клочки бумаги.
Когда нас наконец оставляли в покое, он начинал заигрывать с официанткой и, смешно изображая отчаяние, жаловался, что — «нет, нет, — она его не любит по-настоящему!» Официантка была довольно невзрачна на вид, но он, в котором было столько от бога, в каждой женщине видел Елену. Мне не забыть также, с каким достоинством он держался, когда, возвращаясь домой, проходил мимо подобострастно улыбавшихся служащих гостиницы.
И вот я встречался с ним каждый день, всматривался в него, ловил каждое его слово, каждый жест, и голос внутри меня говорил: «Это он!» Напомню: мое повествование застряло, я отыскивал образ, композиционно давно уже предусмотренный; пора было вводить его в роман, но я его не видел, не слышал, — его у меня не было. Беспокойным и озабоченным прибыл я в Больцано, и то, что там со мною случилось, было прозрением. Другого слова не подберешь. Только не думайте, что я подсматривал за ним, предательски задумав списать с него портрет. Нет, все это делается иначе, — не так мелочно и низко. Можно ли приказать «наблюдать» глазам, которые упорно хотят лицезреть? Не к нему, моему благосклонному, великому другу, относились слова: «Это он!», а к чудесно-трагическому образу мингера Пепперкорна — неистового витии у оглушительно грохочущего водопада, иррациональной «личности» поистине царственного «масштаба», рядом с которым интеллектуальные болтуны и педагоги, эти диалектические петухи из воспитательного романа, кажутся карликами. Сегодня, когда я готовился к своему выступлению, эта книга неожиданно вновь попала мне в руки, — один ее почитатель прислал мне ее с просьбой об автографе. Я прочел три главы, в которых когда-то совершил преступную измену, и был потрясен неимоверной точностью этого портрета-фантазии. Это вовсе не злая карикатура,
498
а славословие, и как проникновеннейший загляд в глубины человеческой личности, который мне когда-либо удавался, оно больше расскажет будущим поколениям об этом человеке, о его скорбной торжественности, нежели все критические монографии о нем, Я сказал, что его окружала торжественность — этого человека, полного высокого достоинства, человека, который безраздельно посвятил себя творчеству и все свои противоречивые силы подчинил искусству создания образа, возвысив их до festivitas1. Он любил это слово, я часто слышал его от него. Новогодние праздники, календарные торжества мало значили в его жизни. Для поэта, говорил он, каждый день. — праздник, и это звучало бы сентиментально и напыщенно, если бы не было сказано им. Но произнесенные его устами — устами мученика грез, скорбного дионисийца — это великие слова. И в Германии, к которой он был привязан, как сын к матери, которую он любил даже в годы самого мрачного ее помешательства, — в Германии его труд, ей посвященный, будет отмечен высокой festivitas — навсегда.
1952
ПРОЩАЛЬНЫЕ ПИСЬМА
ЕВРОПЕЙСКИХ БОРЦОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Каждый раз, когда я перечитываю эти письма обреченных на смерть людей, мне вспоминается один рассказ Льва Толстого, написанный великим писателем на склоне лет, в 1905 году, и носящий заглавие «Божеское и человеческое». Действие его происходит в России семидесятых годов прошлого столетия, «в самый разгар борьбы революционеров с правительством», и в нем с необычайной глубиной описаны последние дни кандидата Новороссийского университета Светлогуба, который благодаря своему патриотизму и благородному безрассудству оказался вовлеченным в политический заговор и был приговорен к смертной казни через повешение. Мы переживаем все, что переживает герой рассказа: неспособность юной, полной жизненных сил души понять смысл зачитанного приговора и поверить в то, что его уничтожат, что люди в самом деле приведут в исполнение произнесенные ими роковые слова; упреки, которыми он осыпает себя, думая о том, какое горе он причинит своей бедной матери; гордость, охватывающую его несмотря ни на что при мысли о стойкости и мужестве, которые он проявил, упорно отказываясь назвать имя человека, давшего ему найденный при обыске динамит. Мы переживаем все это и еще многое другое: его мучительные мысли о том, что такое смерть, и о том, что будет затем; тошноту, которую он испытывает, когда его приводят на место казни и взору его вдруг откры-
500
ваются столбы с перекладиной и слегка раскачиваемая ветром веревка; его последние встречи с людьми на помосте: со священником, с палачом… Все это великий, знаток человеческой души делает нашим достоянием, и приходится только удивляться, как много подтверждений безошибочности его психологического чутья можно найти в тех подлинных документах, которые мы предлагаем сейчас вниманию читателей.
«Милая, родная! — пишет своей матери юный Светлогуб, и по щекам его текут слезы. — Прости меня, прости за все горе, которое я причинил тебе. Заблуждался я или нет, но я не мог иначе. Об одном прошу: прости меня… Не тужи обо мне… Немного раньше, немного позже… разве не все равно? Я не боюсь и не раскаиваюсь в том, что делал. Я не мог иначе. Только ты прости меня. И не сердись на них, ни на тех, с которыми я работал, ни на тех, которые казнят меня… Прости им, они не знают, что творят. Я не смею о себе повторять эти слова, но они у меня в душе и поднимают, и успокаивают меня. Прости, целую твои милые сморщенные старые руки!» — «Я плачу, — добавляет он после того как «две слезы одна за другой капнули на бумагу и расплылись на ней», — я плачу, но не от горя или страха, а от умиления перед самой торжественной минутой моей жизни и оттого, что люблю тебя… Смерти я не боюсь. По правде сказать, не понимаю ее, не верю в нее».
«Прости меня, милая мамочка, — писал в ноябре 1942 года за несколько часов до своей казни австрийский борец сопротивления Миттендорфер, — за то, что я вынужден причинить тебе эту боль. Я часто раздумываю над тем, было ли все это необходимо и не должен ли был я поступить иначе, но я прихожу к выводу: нет, иначе поступить я не мог… Я не раскаиваюсь, — в жизни своей я шел прямой и честной дорогой, и таким же я умираю теперь. Милая мамочка, я знаю, каким тяжелым ударом явится для тебя моя смерть, мне понятны муки матери, хоронящей свое дитя, которому она отдала столько любви и забот, часов, дней и ночей… Что же делать? Так уж, видно повелось, что дети, приносят заботы родителям.
501
Малышами они приносят малые заботы, но чем больше они вырастают, тем больше растут и эти заботы. Мне не пришлось, милая мамочка, еще раз повидать тебя, но я по-прежнему вижу твое лицо и чувствую тебя близко-близко от себя. С мыслью о тебе расстанусь я с миром. Благодарю еще раз за добро и любовь, которые ты дарила мне, и прошу тебя только об одном: будь ради меня и дальше такой же мужественной и сильной…»
Мы восхищаемся искусством, когда оно умеет говорить языком
жизни. Но нас еще больше захватывает жизнь, когда она, сама того не зная,
говорит языком подлинного искусства. И по-французски все это звучит так же,
когда Фернанда Вольраль из Шарлеруа пишет: «Ma petite Maman, je vous demande pardon à tous de vous causer de la peine,
mais je sais que vous me pardonnerez. La cause que je défends est juste, elle
est sacrée. Que mes camarades sachent que je n’ai jamais douté de son tri
502
них долго, зверски пытали, чтобы заставить их заговорить, но они молчали, и сердца их наполнялись гордостью, ибо мысль о том, что они выдержали страшное испытание и память о них сохранится навсегда, облегчает муки смерти.
«Дорогой папа, дорогая мамочка, — пишет девятнадцатилетний Ги Жак, расстрелянный в Льеже в 1944 году, — на допросе в комендатуре меня пытались заставить говорить. Меня избивали, привязав к столу. Удары сыпались градом. Ни разу, ни разу не вырвалось у меня ни одно имя. Я мог бы спасти свою жизнь, но я не хотел изменять родине ни словом, ни делом. Теперь вам станет ясно, что у меня хватит мужества пойти на расстрел. Это, впрочем, мелочь по сравнению с тем, что мне пришлось вынести. Многие будут мне благодарны за то, что я не назвал их имен. И теперь я могу гордиться собою, ибо я выстоял и спас не одну жизнь». Затем подпись: «Ги Жак, до конца оставшийся бельгийцем, умерший за родину». И словно потому, что героическое не может обойтись без трогательно-смешного, — правдоподобия ради, и сам Толстой мог бы украсить таким образом историю своего мученика, — юноша, уже подписавшись, вновь берется за перо и настойчиво повторяет: «Еще одно последнее слово. Хочу сказать вам, что, несмотря на многочисленные удары плетью, которыми хотели заставить меня заговорить, я ни на кого не донес, никого не обвинил. Много раз имел я возможность спасти свою жизнь. Но я предпочел смерть измене. И вот я умираю как честный человек, гордый самим собою. Ги Жак».
Главным источником их стойкости является вера, которой они гордятся и которая вовсе не обязательно[125] носит религиозный характер в собственном, узком смысле слова. Некоторые из них набожны. Порою это полушутливая набожность, — например, они обещают обеспечить своим родным «хорошее местечко на небесах». Порою же они видят в религии и хорошее средство утешения для других, в котором сами они не нуждаются, и советуют своим близким: «Молитесь за нас. Это вам поможет». Автор одного письма просто и убежденно говорит о встрече на небесах: «Nous nous
503
--------------------------retrouverons tous les quatre, bientôt, au ciel»1 Прекраснейшее свидетельство истинной христианско-католической веры дает нам немец Герман Данге, капеллан, в своем письме, посланном родителям перед казнью: «Если вы спросите меня, каково мне сейчас, я смогу ответить только так: во-первых, я радостно взволнован, во-вторых, я полон великого ожидания. Отныне для меня не существует никаких горестей, никакой скорби земной, — “и отрет господь бог слезы со всех лиц”. Сколько утешения, сколько чудесной силы проистекает из веры в Христа, в смерти своей опередившего нас. В него я верил всегда, но сегодня вера эта стала еще крепче, и я не посрамлю себя… Что может еще статься с сыном божьим, чего еще мне следует бояться?.. Глядите, смерть не может разорвать узы любви, нас соединяющие. Вы будете вспоминать обо мне в молитвах своих, и никакие границы во времени и в пространстве не помешают мне всегда быть с вами…»
«Всегда быть с вами…» Эта мысль пронизывает и письма тех,
кто безразлично, либо вовсе отрицательно относится к религии и заявляет, как
уже упомянутая мною Фернанда, в свой последний час: «J’ai gardé toujours mes convictions, je suis
toujours restée athée»2. Как ни
странно это прозвучит, создается впечатление, что именно те, кто не говорит о
боге и загробной жизни, находят наиболее высокие, задушевные и поэтичные слова
для выражения идеи посмертного существования. «Сегодня, в этот майский день, я
умру. Нас четверо в камере, и мы ждем часа прощания… Я буду с вами, буду среди
вас, вместе с вами буду сидеть на садовой скамейке, дух мой всегда будет с вами…
Вам буду я улыбаться с приходом утренней зари, вас буду целовать в вечерние
сумерки. Пусть любовь, а не ненависть владеет миром… Я только маленькая частица
бытия, имя мое будет скоро забыто, но мысли, жизнь, чувства, меня наполнявшие,
будут продолжать жит. Ты будешь встречать их повсюду — на деревьях весен-
504
ней порою, в людях на пути твоем, в чьей-нибудь мимолетной доброй улыбке. Ты встретишься с тем, что было для меня дорого, ты будешь это любить и не забудешь меня». — «Я буду расти и зреть, буду жить в вас, чьи сердца я завоевал, и вы тоже продолжите свою жизнь, ибо будете знать, что я впереди, а не позади вас, как, может быть, ты был склонен думать… Я не стар, мне еще рано умирать, и однако все кажется мне таким простым, само собой разумеющимся. И только внезапность ухода пугает меня на первых порах. Времени мало, а мыслей много. Душа моя, сам не знаю почему, спокойна…»
Одно из этих писем написано молодым чехом, другое — датским
партизаном. А дополнением к ним служит следующий образ, нарисованный одним
молодым французом, расстрелянным гестаповцами без суда и следствия после
страшных пыток, образ, глубоко запавший мне в душу: «C
Он явно ошибается, этот молодой француз, говоря: «c
505
прекрасно — умереть в надежде на
лучшее будущее всего человечества!» — «Je crois qu’après cette guerre une vie de bonheur va c
Мы живем в мире злейшей реакции, сочетающей суеверную ненависть и нетерпимость с паническим страхом. Мы живем в мире, которому, несмотря на его интеллектуальную и моральную неполноценность, судьба доверила оружие страшнейшей разрушитель- ной силы, и это оружие накапливают безумцы, грозящие, «если уж на то пошло», превратить землю в окутанную ядовитыми парами пустыню. Духовный упадок, загнивание культуры, равнодушие к злодеяниям юстиции, поставившей себя на службу политике, самоуправство чинуш, безрассудное стяжательство, отмирание понятий «преданность» и «вера», — все это, порожденное и, во всяком случае, стимулированное двумя мировыми войнами, плохое средство для предотвращения третьей войны, которая была бы равнозначна гибели цивилизации. Роковое стечение исторических обстоятельств подтачивает демократию и толкает ее в объятия фашизма; можно подумать, что она нанесла ему поражение для того только, чтобы помочь поверженному вновь подняться на ноги, для того только, чтобы топтать ростки добра повсюду, где их можно найти, и покрывать себя позором бесчестных союзов.
Так неужели же вера, чаяния и готовность к самопожертвованию европейской молодежи, носившей чудесное имя «Résistance», интернационально-единодушное сопротивление надругательству над их странами, позору подчинения Европы Гитлеру, страшной угрозе завоевания Гитлером всего мира, — неужели эти устремления молодежи, которая, однако, мечтала о чем-то большем, нежели об одном только сопротивлении, чувствовала себя провозвестником лучшего че-
506
ловеческого общества, отвергнуты
жизнью и оказались напрасными? Как напрасны, ни к чему их мечты и их смерть?
Этого не может быть. Еще не было такого случая, чтобы идея, за которую с чистым
сердцем боролись, страдали и умирали люди, — погибла. Такие идеи всегда
осуществлялись. И пусть даже они носили на себе грязные следы действительности,
но жизнь их завоевывала. Только девятнадцатилетний юноша мог наивно полагать, «qu’près cette guerre une vie de bonheur va
c
1954
Лиону Фейхтвангеру, «нашему Лиону» (произносится это имя без французского носового звука1), как называет писателя его верная, заботливая и расторопная Марта, которая вечно думает о том, чтобы он получал хорошую порцию салата (ведь говорят, что салат так полезен!), итак, нашему Лиону исполняется семьдесят лет. Это — торжественное событие, и я не могу не принять в нем участия, хотя разделяющее нас расстояние и лишает меня возможности присутствовать на birthday party2 там, за океаном, в его домерили в каком-нибудь другом, а может быть, даже, как легко можно себе представить, в University of Southern California3, где будет произнесена не одна прекрасная речь. У него по-прежнему немало друзей на тех солнечных берегах, хотя столько товарищей по эмиграции, некогда поселившихся в тех краях, умерло или уехало. Верфеля, Бруно Франка, Альфреда Неймана уже нет в живых, а нас, как и многих других, вновь приняла к себе Европа, и если я в какой-то мере жалею об этом, то не в последнюю очередь потому, что потерял возможность общаться с этим милым интересным человеком. Я вспоминаю о том, что было двадцать с лишним лет назад. С огромным удовольствием читал я тогда
508
в Мюнхене его большой сатирический роман «Успех». Это был душевный бальзам для всех, кто страдал от все более распространявшейся страшной заразы, от не поддававшейся истреблению политической мерзости, удивительный пример того, как может искусство смеха приносить утешение тому, кто изнывает от пошлости, хотя для него самого, да и вообще ни для кого, не является секретом, что оно в состоянии лишь обнаружить и блестящим образом изобличить эту пошлость, но не преградить ей путь к победе. И с каким поразительным легкомыслием действует в данном случае служитель искусства! Он не заблуждается, когда думает примерно так: «Если то, что я здесь высмеиваю, придет — а это почти несомненно — к власти, то мое же детище сломает мне хребет; житья мне здесь не будет, и я должен буду спасаться бегством, если только смогу». И тем не менее, словно из озорства, он вполне сознательно собственными руками роет себе яму. Он не может поступить иначе, — таково веление ума, не признающего самосохранения и держащего страх в узде.
В те времена Фейхтвангер был в расцвете славы. И «Еврей Зюсс» был уже создан, и «Безобразная герцогиня», — эти эпические произведения, в которых он предстает таким, каким оставался в дальнейшем: солидным и вместе с тем занимательным, серьезным и вместе с тем readable, как говорят англичане, то есть доступным, интересным, увлекательным[126] и вовсе не тяжеловесным, несмотря на всю основательность исторического фундамента его романов. Уже тогда его ценили настолько высоко, если не в Америке, то во всяком случае в Англии, что он служил мерой для всего, приходящего из других стран. Высшей похвалой, которой мог удостоиться писатель, было: «It’s pearly like Feuchtwanger»1. И как при этом произносилась его фамилия! Она звучала примерно так: «Фуштвеншер». Ни одно имя не было столь знаменитым и столь трудным для произношения.
509
Он был сыном Мюнхена, где я прожил сорок лет своей жизни, но, как это ни странно, мы едва были знакомы. Время от времени мы, разумеется, встречались, но дружеского контакта у нас не было. Такой контакт установился лишь в Санари-сюр-мер, куда я приехал в 1933 году после длительного пребывания в Лугано. Как хорошо было там! Собралось интереснейшее общество — немецкие эмигранты, группировавшиеся вокруг Рене Шикеле, и среди них — Юлиус Мейер-Грэфе, Арнольд Цвейг, мой брат Генрих. Там можно было встретить Олдоса Хаксли и беседовать с Полем Валери, убеждаясь каждый раз в том, насколько непонятно осталось западному эстетизму то, что заставило нас покинуть Германию. Валери восхищало, что нацисты так презирают интеллект. «Немного ума никогда не повредит», — возражали мы. И этот неожиданный довод приводил Валери в воехищение. «Ah, ça c’est très bien!»1 — восторженно восклицал он.
Во время чаепитий в садовых беседках члены литературной колонии доверительно читали друг другу свои новые вещи. Мы жили в маленькой вилле на «colline»2 с ее красноватыми скалами, нависшими над голубым морем, — впервые в собственном жилье после долгого мыканья по отелям. Но разве можно было сравнивать ее с великолепным домом, в котором, прибыв сюда раньше нас, обосновался дочиста ограбленный Фейхтвангер? Когда он показал нам его, у меня явилось желание, чтобы доктор Геббельс приехал сюда и увидел своими глазами, что не только в Германии можно недурно устроиться. Он знает толк в жизни, «наш Лион», любит сочетать прилежание с уютом и умеет повсюду находить самый красивый дом в самом красивом месте, чтобы окружить комфортом свое неутомимое трудолюбие, — ведь ради него, в сущности, все это и делается. Так было и позднее, в Калифорнии, так там и сейчас. Оно похоже на сказку, обиталище, которое он себе создал,
510
настоящий замок на берегу моря, среди живописных холмов, спускающихся к бухте Санта-Моника, с великолепным видом; и в просторных залах этого замка хранится и все разрастается ценнейшее собрание книг. Что же касается расположенной в верхнем этаже рабочей комнаты, которую скорее можно назвать залом, то по своей меблировке и оборудованию — это самая практичная литературная мастерская, какую я когда-либо видел. Там он работает с помощью своей секретарши своеобразным, я бы сказал даже — странным, методом, о котором пойдет речь ниже[127]. В неустанном непрерывном труде были созданы здесь «Гойя» и столь оригинальная по замыслу «Мудрость чудака». А теперь, засиживаясь здесь до сумерек, он диктует (как обычно, после основательной подготовки) свою «Испанскую балладу». Эта работа, в которой ему пригодилось приобретенное благодаря «Гойе» знакомство с историей и национальной атмосферой Испании, спорится, о чем я могу судить по его письмам.
В Штаты мы прибыли раньше его, — ему ведь с огромным трудом
удалось бежать из Европы. Как боялись мы тогда за него! А порою мы даже
начинали верить слухам о том, что его уже нет в живых. Как и некоторые другие,
он слишком долго оставался во Франции, дождавшись там начала войны, принесшей
столько бед и опасностей немецким эмигрантам. Вместе с Голо, моим младшим
сыном, который с самыми лучшими намерениями, — желая бороться за общее дело
союзников, — поспешил из Швейцарии во Францию, его посадили в концентрационный
лагерь. Затем американский консул принял в нем участие и, если я не ошибаюсь,
прятал его некоторое время у себя. И вот (это было, по-моему, в августе 1940
года), при содействии рузвельтовского «Presidential Emergency Advisory C
511
возобновилось мое дружеское общение с ним, начало которому было положено в Санари и которого мне сейчас так недостает. Не один вечер провели мы вместе у него или у нас, предаваясь серьезным или непринужденным беседам, воспоминаниям, рассуждениям о судьбах мира и читая друг другу то, над чем мы тогда работали. Что до него, то он отнюдь не ограничивался этими интимными застольными беседами: время от времени он собирал в своем кабинете всю «немецкую Калифорнию» и, стоя за высоким пультом, читал час, а то и полтора, давая нам возможность заглянуть в создающееся произведение. Манера чтения у него ровная и спокойная, без всякой театральности и аффектации, но не оставляющая сомнения в том, насколько он дорожит чистотой и правильным звучанием слова.
Я говорил уже, что свои книги он диктует[128]. Но этого мало. Он диктует их даже тогда, когда они находятся еще только в эмбриональном состояний, диктует отдельные мысли и соображения, наброски образов, сюжетные линии, которые он пробует, в вы- боре которых колеблется. Стенограммы отражают всю историю возникновения и развития книги, превращаются в какой-то творческий монолог. Наполовину это уже произведение, наполовину — еще только замысел его, и когда дело подходит к концу, то все они скапливаются вокруг него, эти различные варианты повествования, записанные черным по белому, или, вернее — по пестрому, ибо пишутся они на синих, зеленых, коричневых, красных листках бумаги. К тому же он нумерует их, чтобы обозначить последовательность стадий, которые прошла диктуемая книга, причем каждая из них должна внести свою лепту теперь, в этот решающий момент, когда произведение приобретает свою окончательную форму.
Я никогда не сталкивался с более странным способом работы. Мне такой метод чужд, — диктовка сама по себе противна моей натуре, а думая над романом, я уж, конечно, никак не потерпел бы в комнате стенографирующего медиума[129]. Но нельзя не признать его оригинальности, и студентам, изучающим
512
историю литературы, будет небезынтересно услышать о нем.
Я очень люблю «маленького маэстро», как мы часто его называли. Многому можно поучиться у этого в высшей степени образованного человека, ученого, филолога, прекрасного знатока истории. О чем бы он ни говорил, — будь то литература, политика или просто обыденная жизнь, — слушать его уютный мюнхенский говорок всегда приятно и поучительно, смех его согревает и заражает, а в его суждениях о жизни и людях, пожалуй, больше юмора, чем строгости. Больше всего я любил слушать его, когда он говорил о самом себе: о своей личной жизни, о своих издательских делах, о переводах своих книг, о своих громких успехах, а он и в самом деле говорил об этом часто и обстоятельно. Другой бы давно уже утомил собеседника подобными речами, но он с таким подкупающим наслаждением отдается своим рассказам, что слушаешь его с истинным удовольствием и задаешь все новые вопросы, чтобы он не уходил от темы.
Немало перьев заработают сейчас, в дни юбилея, во всех концах земли, и это закономерно, — ведь его творчество услаждало, волновало и обогащало тысячи и тысячи людей во многих странах. Я шлю ему свои сердечные пожелания, шлю их в нашу, ставшую за последнее время что-то не очень гостеприимной, Америку, которую я вынужден убедительно просить проявить благоразумие и оставить его в покое вместе с его книгами, с цветами его сада и с его трудом, которым он оказывает честь стране, где этот труд свершается.
1954
В 1904 году, когда в Баденвейлере умер от туберкулеза Антон Чехов, я был еще молод и едва вступил в литературу с несколькими рассказами и одним романом, который был очень многим обязан русскому повествовательному искусству XIX века. Тщетно пытаюсь я теперь припомнить, какое впечат- ление произвело на меня известие о смерти русского новеллиста, бывшего пятнадцатью годами старше меня. Память ничего мне не подсказывает. Само собой разумеется, событие это нашло отклик и в немецкой печати, но меня оно, должно быть, мало тронуло, а то, что писалось о Чехове, видимо, почти не располагало к тому, чтобы усилить во мне ощущение, какой ушел из жизни человек, слишком рано для России, слишком рано для всего мира. Надо полагать, некрологи свидетельствовали о том же невежестве, каким определялось и мое отношение к жизни и творчеству этого писателя и которое лишь с годами постепенно рассеялось. Чем же объясняется это невежество? Что касается меня лично, то известную роль сыграла моя ослепленность великими творениями, «долгим дыханием», эпическим монументом, созданным и завершенным в могучем терпении, обожествление столь великих созидателей, как Бальзак, Толстой, Вагнер, подражать которым, хотя бы в малой доле, было моей мечтой. Чехов же, как и Мопассан, которого
514
я знал, впрочем, гораздо лучше, был мастером «малой формы», короткого рассказа, не требующего героического долготерпения на протяжении лет и десятилетий; ведь рассказ можно написать, будучи вертопрахом в искусстве, за несколько дней или недель. Вот почему я в известной мере пренебрегал этим литературным жанром, не сознавая того, какую внутреннюю емкость, в силу гениальности, могут иметь краткость и лаконичность, с какой сжатостью, достойной, быть может, наибольшего восхищения, такая маленькая вещь охватывает всю полноту жизни, достигая эпического величия, и способна даже превзойти по силе художественного воздействия великое гигантское творение, которое порой неизбежно выдыхается, вызывая у нас почтительную скуку, И если в более поздние годы жизни я понял это лучше, чем в молодости, то обязан этим главным образом знакомству с повествовательным искусством Чехова, которое, несомненно, принадлежит ко всему самому сильному и самому лучшему в европейской литературе.
Вообще говоря, многолетняя недооценка Чехова на Западе и даже в России связана, как мне кажется, с его необычайно трезвым, критическим и скептическим отношением к себе, с его неудовлетворенностью всем трудом своей жизни, одним словом, с его скромностью, чрезвычайно привлекательной, но не внушавшей миру почтения и всем служившей, так сказать, дурным примером. Ибо наше мнение о нас самих, несомненно, отзывается на представлении, которое другие составляют о нас; оно накладывает на него отпечаток и при известных обстоятельствах даже искажает его. Чехов был долго убежден в незначительности своего дарования, в своей художнической неполноценности; медленно, нелегко давалась ему вера в себя, столь необходимая для того, чтобы другие верили в нас; до конца жизни в нем не было ничего от литературного вельможи и еще меньше от мудреца или пророка, каким был Толстой, который ласково взирал на него как бы сверху вниз и, по выражению Горького, видел в нем «прекрасного», «тихого», «скромного» человека.
515
Есть что-то тягостное в этой похвале гиганта, по своей нескромности не уступавшего Вагнеру. Надо полагать, Чехов ответил на нее тихой вежливой иронической улыбкой, ибо вежливость, возведенная в долг почтительность и легкая ирония — вот что определяло его отношение к всесильному из Ясной Поляны, причем порой не в непосредственном общении с этой подавляющей личностью, а в письмах к другим, ирония перерастала в открытый бунт. После возвращения из сопряженной со многими жертвами поездки в ад, на каторжный Сахалин, Чехов пишет: «…Какой кислятиной я был бы теперь, если бы сидел дома. До1 поездки «Крейцерова соната» была для меня событием, а теперь она мне смешна и кажется бестолковой…» Деспотическое — и притом сомнительное — проповедничество раздражало его. «Черт бы побрал философию великих мира сего! — пишет он.— Все великие мудрецы деспотичны, как генералы, и невежливы и неделикатны, как генералы, потому что уверены в безнаказанности». Это было сказано по поводу ругательной оценки Толстым докторов как невежественных мерзавцев. А Чехов был врачом, страстно любил свою профессию, был человеком науки и верил в нее как в прогрессивную силу и великую противницу мерзостей жизни, просветляющую умы и сердца людей. Мудрость же «непротивления злу» и «пассивного сопротивления», презрение к культуре и прогрессу, которое позволял себе этот великий мира сего, казались ему, в сущности, реакционным юродством. Нельзя трактовать важные проблемы с позиций невежды, будь ты хоть семи пядей во лбу — вот в чем упрекает он Толстого. «…Толстовская мораль, — пишет он, — перестала меня трогать, в глубине души я отношусь к ней недружелюбно… Во мне течет мужицкая кровь, и меня не удивишь мужицкими добродетелями. Я с детства уверовал в прогресс… Расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и в воздержании…»
516
Другими словами, Чехов — позитивист из скромности; он всего-навсего слуга очистительной правды, ни на секунду не претендующий на патент величия. Однажды по поводу «Ученика» Бурже он выступил весьма недвусмысленно против тенденциозного принижения научного материализма. «Подобных походов я, простите, не понимаю… Воспретить человеку материалистическое направление равносильно запрещению искать истину. Вне материи нет ни опыта, ни знаний, значит, нет и истины».
Длительное неверие в себя как художника переросло у Чехова, как мне кажется, масштабы его личности и распространилось на искусство, на литературу в целом, существовать с которой «в четырех стенах» ему претило. Ему казалось, что работа в этой области требует дополнения в виде энергичной общественно-полезной деятельности в окружающем мире, среди людей, в гуще жизни. Литература была, по собственному выражению Чехова, его «любовницей», наука же, медицина, — его «законной женой», перед которой он чувствовал себя виноватым за измену с другой. Отсюда и предпринятое им изнурительное, опасное для его подорванного здоровья путешествие на Сахалин и его нашумевший отчет об ужасающих условиях тамошней жизни, следствием которого действительно явились кое-какие реформы. Отсюда наряду с литературной работой его неутомимая деятельность в качестве земского врача, заведование земской лечебницей в Звенигороде, под Москвой, и борьба с холерой, которую он вел в Мелихове — своем маленьком имении, где он добился постройки новых бараков; к тому же он был еще и попечителем сельской школы. При этом слава Чехова как писателя все росла, но он относился к ней скептически, она смущала его совесть. «Не обманываю ли я читателя, — спрашивал себя Чехов, — не зная, как ответить на важнейшие вопросы?»
Ни одно из его высказываний не поразило меня так, как это. Именно оно побудило меня подробнее ознакомиться с биографией Чехова, трогательнее и
517
привлекательнее которой вряд ли сыщется в истории литературы. Чехов родился в Таганроге, захолустном городке на юге России, у Азовского моря; отец его, богомольный мещанин, сын крепостного крестьянина, держал бакалейную лавку и всячески тиранил жену и детей. Он бездарно писал иконы, самоучкой играл на скрипке, питал пристрастие к духовной музыке и основал церковный хор, в который прочил певцами и своих мальчиков. Скорее всего, эти побочные увлечения и явились причиной того, что еще в школьные годы Антона Павловича отец его разорился и вынужден был бежать от кредиторов в Москву. Тем не менее в его ханжески-мещанской ограниченности крылись зачатки художнического дарования, которым дано было проявиться и полностью раскрыться лишь в одном его отпрыске. Хотя из старших братьев Чехова один стал публицистом — незначительным публицистом, а другой — художником, оба утопили свой талант, если он у них был, в водке, и Антон, единственно стойкий из братьев, призванный к жизни и творчеству, тщетно пытался поддержать эти слабые, болезненные натуры.
На первых порах мальчики должны были помогать отцу в лавке, бегать по его поручениям, а под праздники вставать в три часа утра и отбывать повинность на спевках церковного хора. Ко всему этому — школа, Таганрогская гимназия, бездушная казарма, предназначенная властями для того, чтобы глушить всякую свободную мысль в преподавателях и учениках. Жизнь — принудительная работа, скучная и удручающе пустая. Но, у одного из многих, тайно отмеченного судьбой, у Антона обнаруживается своеобразное противоядие, способность все возмещать веселостью и насмешливостью, клоунадой и шутливым лицедейством, питаемым наблюдательностью и воплощающим виденное в карикатурно-наглядных образах. Мальчуган умеет до того смешно и жизненно правдиво изобразить простоватого дьякона, отплясывающего на балу чиновника, зубного врача, шествующего в церковь полицмейстера, что все поражаются и требуют: «А ну-ка, еще разок. Скажите на
518
милость! Мы ведь сами видели все это, только у него, негодника, все выходит куда потешнее, и, должно быть, так оно и было, раз мы себе животики надрываем, когда он всех передразнивает. Виданное ли дело, чтобы кто-нибудь из нас умел выкидывать такие штуки и представлять все натуральнее, чем оно было на самом деле. Ха-ха-ха, вот это ловко! Ну, хватит непотребничать, негодник! Только покажи-ка еще раз, как полицмейстер идет в церковь!»
Вот она, явственно проступающая примитивная, обезьянья первооснова искусства, талант к подражанию, скоморошеская страсть и способность развлекать, которая позже обратится к совсем иным средствам, выльется в совсем иные формы, породнится с разумом, морально облагородится, от чисто увеселительного возвысится до потрясающего, но никогда, даже в самых серьезных, горьких ситуациях не утратит чувства смешного, навсегда сохранит многое от талантливого пародирования полицмейстера или отплясывающего чиновника…
Итак, отец вынужден закрыть лавку и бежать в Москву, между тем как шестнадцатилетний Антон Павлович еще на три года остается в Таганроге, чтобы продолжать учение. Гимназию необходимо окончить, иначе не осуществится его заветнейшее желание— посвятить себя медицине. Он окончил ее, одолел три последние класса гимназии, получая крохотную стипендию и подрабатывая репетиторством в частных домах, получил аттестат зрелости и последовал за родителями в Москву, чтобы поступить в университет.
Счастлив ли он жизнью в большом городе, бежав от
провинциальной затхлости? Дышит ли он полной грудью? Русская жизнь того времени
никому не давала дышать полной грудью. Это была задавленная, беспросветная,
подобострастно-покорная жизнь, жизнь пресмыкающаяся, запуганная и забитая
грубой авторитарностью, мелочно регламентированная, оцензурованная, послушная
окрику свыше. Вся страна изнемогала под гнетом самодержавно-реакционного режима
519
уныния. В уныние в буквальном смысле слова впали многие тонко организованные натуры из окружения Чехова, задыхавшиеся без живительного озона свободы. Уделом Глеба Успенского, честно изображавшего жизнь русского крестьянства, было помрачение рассудка. Гаршин, чьи меланхоличные рассказы Чехов высоко ценил, покончил самоубийством. Попытку покончить с собой сделал в отчаянии и художник Левитан, с которым Антон Павлович состоял в дружеских отношениях. Водка приобретала все большую притягательную силу в среде интеллигентов. Пили от беспросветности. Оба брата Чехова тоже пили и быстро опускались, несмотря на то что младший умолял их взять себя в руки. Может статься, они пили бы и не будь Победоносцева, но, к сожалению, они могли сослаться, среди прочих, и на милейшего поэта Пальмина, также приятеля их брата: Пальмин тоже пил.
Антон Павлович не запил, не надломился духовно, не сошел с ума. Во-первых, он ревностно изучал медицину, которая обходилась без вмешательства господина Победоносцева; а что касается всеобщего уныния, то Чехов противился ему на тот же веселый лад, как когда-то в Таганроге противился пустоте и убожеству жизни: он балагурил, подражал полицмейстеру, глупому дьякону, чиновнику на балу и им подобным, но уже не мимически, а на бумаге. В квартире своих родителей, которую он делил с ними и где вечно стоял шум и беспорядок (он привез с собою из Таганрога двух пансионеров), Чехов писал для юмористических листков, пробавлявшихся осторожной сатирой, маленькие смешные вещички, коротенькие, бегло набросанные анекдоты, диалоги, забавные безделки, обыгрывающие слухи, заметки, в которых высмеивались мещанские свадьбы, пьяные купцы, сварливые или неверные жены, унтер в отставке, по старой памяти одергивающий всех и вся, писал так, что люди восклицали, как в свое время в Таганроге: «Скажите на милость! И как ловко у него все получается! А ну-ка, еще разок!» И он писал не переставая свои искрящиеся выдумкой рас-
520
сказы, неистощимый в своей способности наблюдать мелочи быта и забавно пародировать их, хотя ему, молодому студенту, нелегко было совмещать занятия медициной, требовавшие упорного труда, с общественным скоморошеством[130]. Ведь как-никак над всеми этими пустячками надо было работать, оттачи вать и отделывать их, а на это всегда уходит много духовных сил, и поставлять их надо было в огромном количестве, чтобы из мизерных гонораров не только покрывать расходы на обучение, но и оказывать сколько-нибудь серьезную помощь семье, ибо отец почти ничего не зарабатывал. В девятнадцать лет Антон стал опорой семьи. Как поставщик юмористических листков он именует себя «Антоша Чехонте»…
И тут происходит нечто удивительное, характерное для литературы в целом: ее дух, ее собственное «я» заявляет о себе, и мы видим какие сюрпризы ожидают всякого, кто, с какой бы то ни было целью — корысти, развлечения или шутки ради, начинает заниматься ею. Она «хлопает по совести»; балагур Антоша Чехонте сам говорит об этом. В одном из своих писем он рассказывает, как в квартире своих родителей, где кричат дети, постоянно толпятся посетители, играет музыкальная шкатулка, а в соседней комнате отец громко читает вслух, он сидит за столом, занятый своей литературной работой, «хлопающей немилосердно по совести»1. Это — подвох с ее стороны, — ведь для него она всего лишь безделушка, предназначенная для увеселения мещан. Но как раз это-то и есть здесь самое удивительное, характерное и неожиданное: мало-помалу, в сущности помимо его воли и без его ведома, в маленькие литературные поделки Чехова проникает нечто такое, с чем эти поделки поначалу не имели ничего общего, что идет от совести самой литературы и в то же время от совести автора, нечто, хотя все еще веселое и занимательное, но вместе с тем и горькое, печальное, обвиняющее и разоблачающее жизнь и общество, выстраданное,
521
критическое, короче говоря — литературное. Ибо непосредственно с самой работой над произведением, с формой, с языком связано то, что пронизывает его короткие рассказы: критическая грусть и строптивость. А это ведь и есть стремление к какому-то лучшему бытию, к более чистой, правдивой, красивой, благородной жизни, к разумно устроенному человеческому обществу, и стремление это находит свое отражение в языке, в обязательстве творчески работать над словом, — «немилосердном» обязательстве, вытекающем из всего того, что пронизывает теперь легковесные писания Антоши Чехонте. И пятнадцать лет спустя Горький приходит к выводу: «Как стилист Чехов недосягаем, и будущий историк литературы, говоря о росте русского языка, скажет, что язык этот создали Пушкин, Тургенев и Чехов».
Это было сказано в 1900 году. А пока мы говорим о 1884—1885 годах. Двадцати четырех лет Чехов оканчивает университет и поступает практикантом в земскую больницу под Воскресенском, где он занимается также вскрытием трупов самоубийц и людей, умерших при подозрительных обстоятельствах. За всем тем он не оставляет и юмористики, — писательство уже вошло у него в привычку. Среди прочих вещей он пишет такие, как «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Злоумышленник», работа над которыми доставила ему невиданное наслаждение, хотя большинству читателей они вряд ли пришлись по душе, ибо юмор их горек; но кое-кто, прочитав их, был удивлен и обрадован, как, например, Д. В. Григорович. Кто знает Дмитрия Васильевича Григоровича? Я его не знаю. Должен признаться, что до того как я решил вплотную познакомиться с биографией Чехова, мне не приходилось слышать об этом писателе. И тем не менее в свое время он был широко признанным писателем, представителем большой литературы, снискавшим честь и уважение своими романами из жизни крепостных. От него-то, из Петербурга, и пришло письмо молодому доктору Чехову, жившему в Воскресенске, под Москвой, — очень серьезное письмо, ставшее в жизни Чехова, быть мо-
522
жет, самым трогательным, самым поразительным, если не эпохальным, событием. Знаменитый, уже престарелый, писатель, — он дружил еще с Белинским, затем с Тургеневым, Достоевским и умер в 1889 году, — писал ему: «У Вас настоящий талант… Талант, выдвигающий Вас далеко из круга литераторов нового поколения… Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных, истинно художественных произведений. Вы совершите великий нравственный грех, если не оправдаете таких ожиданий. Для этого вот что нужно: уважение к таланту, который дается так редко».
Это было написано черным по белому, а в конце — имя большого человека. Антон Павлович прочел и был до того взволнован, поражен, потрясен, как, по всей вероятности, никогда больше в жизни. «Я едва не заплакал… и теперь чувствую, что оно [письмо] оставило глубокий след в моей душе… Я как в чаду. Нет у меня сил судить, заслужена мною эта высокая награда или нет… Если у меня есть дар, который следует уважать, то, каюсь перед чистотою Вашего сердца, я доселе не уважал его… Чтоб быть к себе несправедливым, крайне мнительным и подозрительным, для организма достаточно причин…1 Доселе относился я к своей литературной работе крайне легкомысленно, небрежно, зря… Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги1 и которые я бог знает почему берег и тщательно прятал».
Так писал он старому Григоровичу в своем ответном благодарственном письме, ставшем известным гораздо позднее, а написав письмо, отправился в земскую больницу — на вскрытие или к тифозному больному: последнее вероятнее всего, если вспомнить о поручике Климове, сыпнотифозном больном, герое рассказа «Тиф», в котором Антон Чехов со столь совершенным мастерством раскрыл перед нами его мысли и чувства. После письма Григоровича он больше не называл себя Антошей Чехонте.
523
Ему был дан короткий срок жизни. Первые признаки туберкулеза[131] появились у него уже в двадцать девять лет, а он был врачом и знал, чем это грозит. Вряд ли он льстил себя надеждой, что его жизненные силы позволят ему достигнуть патриаршего возраста Толстого, и мы невольно задаемся вопросом: не привело ли сознание того, что ему недолго суждено пробыть гостем на земле, к развитию в нем своеобразной скептической, бесконечно обаятельной, тихой, скромности, которая определяла весь его духовный и художнический настрой? Подсознательно эта скромность стала отличительным качеством его художнического облика, отметила его существо удивительным обаянием. Двадцать пять лет, не больше, было дано ему для всех творческих исканий, всех свершений, и, право же, он использовал этот срок сполна. Около пятисот рассказов написано им, многие размером с «long short story», и среди них — такие шедевры как «Палата № б», где врач из отвращения к глупому нищему миру нормальных людей, настолько тесно сходится с занятным сумасшедшим, что этот мир объявляет врача умалишенным и изолирует его. Хотя этот рассказ, написанный в 1892 году, никого прямо не обвиняет, он столь жутко-символичен для безнадежно прогнивших порядков тогдашней России, для унижения человеческого достоинства в последние годы самодержавия, что молодой Ленин сказал по поводу «Палаты № 6» своей сестре: «Когда я дочи- тал вчера вечером этот рассказ, мне стало прямо-таки жутко, я не мог оставаться в своей комнате, я встал и вышел. У меня было такое ощущение, точно и я заперт в палате № 6»[132].
Но если уж приводить примеры и хвалить, то непременно следует назвать «Скучную историю», рассказ, которым я дорожу у Чехова больше всего; это совершенно необыкновенная, чарующая вещь, во всей литературе не сыскать ничего похожего на нее, — такая она печальная и странная. Эта история, именующая себя «скучной», а на самом деле потрясающая, удивительна своим глубочайшим проникновением в психологию старости, тем, что она вложена в уста
524
старика молодым человеком, которому не было еще и тридцати лет. Ее герой, ученый с мировым именем и генеральским чином, «его превосходительство», в своих излияниях то и дело величает себя: «мое превосходительство», желая сказать этим: «подумаешь, важность какая!» Ибо, хотя он и стоит куда как высоко на иерархической лестнице, он не утратил способности к критике и самокритике, не оскудел духовно настолько, чтобы не видеть всю смехотворность своей славы и того почтения, которое ему оказывают, и не отчаяться в глубинах своей души, обнаружив, что в его жизни, при всех его заслугах, не было духовного центра, «общей идеи», что по существу он прожил бессмысленную жизнь, жизнь пропащего человека. «Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, — говорит он, — и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе… даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей, или богом живого человека. А коли нет этого, то значит, нет и ничего…1 Ничего же поэтому нет удивительного, что последние месяцы своей жизни я омрачил мыслями и чувствами, достойными раба и варвара, что теперь я равнодушен… Когда в человеке нет того, что выше и сильнее всех внешних влияний, то, право, достаточно для него хорошего насморка, чтобы потерять равновесие… И весь его пессимизм или оптимизм с его великими и малыми мыслями в это время имеет значение только симптома и больше ничего. Я побежден. Если так, то нечего же продолжать еще думать, нечего разговаривать. Буду сидеть и молча ждать, что будет».
«And my ending is despair»2, — эти слова Просперо из шекспировской «Бури» невольно приходят на ум, когда читаешь подобные признания престарелой знаменитости. «Не люблю я своего популярного имени, — говорит Николай Степаныч.— Мне кажется, как будто оно меня обмануло». Антон Чехов не был стариком, напротив, он был молод, когда писал этот
525
рассказ; но жить ему оставалось недолго, и, очевидно, потому-то он и смог столь невероятно, до жути глубоко, проникнуться настроением старости. В уста своего старого умирающего ученого он вложил многое от себя, и прежде всего это: «Не люблю я своего популярного имени». Ведь и сам он не любил своей растущей популярности, ему было «по неведомой причине боязно». Не обманывает ли он читателей, ослепляя их своим талантом, но «не зная, как ответить на важнейшие вопросы»?[133] Зачем он пишет? Какова его цель, его вера, «бог живого человека»? Где «общая идея» его жизни и творчества, «без которой нет ничего»? «Осмысленная жизнь без определенного мировоззрения, — писал он своему другу, — не жизнь, а тягота, ужас».
Знаменитого ученого спрашивает его воспитанница Катя — неудавшаяся актриса, единственное существо, к которому он еще привязан и питает скрытую стариковскую нежность, — спрашивает растерянная, в тяжелую минуту своей жизни: «Николай Степаныч!.. Ради истинного бога… что мне делать?» И он вынужден ответить: «Ничего я не могу сказать тебе, Катя… По совести, Катя: не знаю». Тогда она его покидает.
«Что делать?» Вопрос этот, с нарочито беспомощной растерянной интонацией то и дело проскальзывает в чеховских рассказах и едва ли не компрометируется той чудаковатой напыщенно неловкой манерой, в какой чеховские персонажи обсуждают его, распространяются о смысле жизни. Не помню уже, в каком рассказе, одна дама заявляет: «…Надо чтобы жизнь проходила как бы сквозь призму, то есть, другими словами, надо чтобы жизнь в сознании делилась на простейшие элементы… и каждый элемент надо изучать в отдельности». Подобного рода разглагольствований не счесть в его рассказах и пьесах. Отчасти это просто подтруниванье над безграничной страстью русских к бесплодному философствованию и опорам, какое можно встретить и у других авторов, но у Чехова это имеет весьма своеобразную подоплеку, особую, предельно комическую художествен-
526
ную функцию. Рассказ «Моя жизнь», ведущийся от первого лица, к примеру, сплошь состоит из таких диспутов. Его главный герой — никчемный человек, по прозвищу «Маленькая польза», социальный идеалист, ополчающийся на существующий общественный строй, убежденный в необходимости физического труда для всех: он порывает со своим классом — классом образованных — и избирает безрадостный тяжелый незавидный удел пролетария. Грубая действительность новой жизни приносит ему много мучительных разочарований. Своим экстравагантным поступком он сводит в могилу отца, воспитанного в сословных предрассудках, а сестра по его вине вступает на ложный путь и попадает в беду. И вот некто доктор Благово говорит ему: «Вы — благородная душа, честный возвышенный человек!.. Не находите ли вы, что если бы силу воли, это напряжение, всю эту потенцию вы затратили на что-нибудь другое, например, на то, чтобы сделаться со временем великим ученым или художником, то ваша жизнь захватывала бы шире и глубже и была бы продуктивнее во всех отношениях?..» Нет, отвечает «Маленькая польза», — «нужно чтобы сильные не порабощали слабых, чтобы меньшинство не было для большинства паразитом …нужно чтобы все без исключения — и сильные и слабые, богатые и бедные — равномерно участвовали в борьбе за существование, а в этом отношении нет лучшего нивелирующего средства, как физический труд в качестве общей, для всех обязательной повинности». — «А не находите ли вы, что если все, в том числе и лучшие люди, мыслители и великие ученые, участвуя в борьбе за существование каждый сам за себя, станут тратить время на битье щебня и окраску крыш, то это может угрожать прогрессу серьезною опасностью?» Это сказано сильно, но не настолько чтобы не вызвать еще более сильное или по крайней мере столь же сильное возражение. Ведь если уж речь зашла о прогрессе, то как тут не заговорить и о его целях? По мнению Благово, пределы и цели общечеловеческого, мирового прогресса — в бесконечности, и говорить о каком-то прогрессе, ограниченном нашими
527
нуждами или воззрениями эпохи — признак ограниченности.
Какая аргументация! Если пределы прогресса в бесконечности,
то и цели его неопределенны. «Жить и не знать определенно, для чего живешь!1 — Пусть! Но это “не знать” не так скучно, как ваше “знать”. Я иду по лестнице, которая называется
прогрессом, цивилизацией, культурой, иду и иду, не зная определенно, куда иду,
но, право, ради одной этой чудесной лестницы стоит жить; а вы знаете, ради чего
живете, — ради того чтобы одни не порабощали других, чтобы художник и тот, кто
растирает для него краски, обедали одинаково. Но ведь это мещанская кухонная
серая сторона жизни, и для нее одной жить
— неужели не противно?..
Надо думать о том великом иксе, который ожидает все человечество в отдаленном
будущем».
Хотя Благово говорит горячо, истово, тем не менее видно, что
он все время думает о чем-то другом. «Должно быть, ваша сестра не придет, —
говорит он, посмотрев на часы. — Вчера она была у наших и говорила, что будет у
вас». Ага, стало быть, он и пришел-то лишь затем чтобы встретиться с сестрой
«Маленькой пользы», в которую влюблен, и говорил-то лишь в ожидании ее прихода.
И вот благодаря этому, прикрытому словами, но явственно проступающему у него на
лице корыстному побуждению все, что он говорит, обесценено иронией и насмешкой.
Радикальная перемена в жизни «Маленькой пользы» обесценена или, во всяком
случае, поставлена под сомнение теми мерзкими разочарованиями, которые он
испытывает, и тою виною, которую он на себя взваливает; диалектические
теоретизирования гостя саморазоблачают себя в наших глазах тем, что они затеяны
лишь в ожидании прихода девушки. Жизненная правда, к которой прежде всего
обязан стремиться писатель, обесценивает идеи и мнения: она по природе своей
иронична, и это часто приводит к тому, что писателя, который превыше всего це-
628
нит истину,
упрекают в беспринципности, равнодушии к добру и злу, отсутствии идей и
идеалов. Чехов протестовал против такого рода упреков: он доверяет читателю,
пусть тот сам восполнит отсутствующие в рассказе скрытые, «субъективные», то
есть касающиеся авторского отношения к описываемому элементы, сам догадается о
том, какую моральную позицию занимает автор. Откуда же тогда его «боязнь»,
неприятие своей славы, опасение, что он талантливо обманывает своих читателей,
поскольку у него нет ответа на важнейшие вопросы? Откуда эта пугающая
способность забираться в душу отчаявшегося старца, сознающего, что в его жизни
не было «общей идеи», «без которой вообще ничего нет», и на вопрос
растерявшейся девушки: «Что мне делать?» отвечающего — «По совести: не знаю»?
Если правда жизни по природе своей иронична, то искусство,
видимо, по природе своей нигилистично? А ведь оно основано на трудолюбии! Оно,
так сказать, труд в чистом, наиболее отвлеченном виде, парадигма труда, труд в
себе. Чехов любил работать, как никто другой. Горький сказал о нем, что «не
видел человека, который чувствовал бы значение труда как основания культуры так
глубоко и всесторонне, как Чехов». И в самом деле, он работал непрерывно и без
устали, невзирая на хрупкость своей конституции, невзирая на болезнь,
подтачивавшую его силы, — работал изо дня в день, до последнего вздоха. Более
того, он проделывал эту героическую работу, не переставая сомневаться в ее смысле,
испытывая постоянные угрызения совести оттого, что ей недостает центральной «общей
идеи», что на вопрос: «Что делать?» — у него нет ответа и что этот вопрос он бездумно
обходит, описывая одну только неприкрашенную жизнь. «Мы пишем жизнь такою, какая
она есть, — говорил он, — а дальше — ни тпрру ни ну…» Или: «При таких условиях
жизнь художника не имеет смысла, и чем он талантливее, тем страннее и непонятнее
его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного не-
529
чистоплотного животного, поддерживая
существующий порядок».
«Существующий порядок» — это нетерпимый порядок девяностых годов в России, при котором жил Чехов. Но его скорбь, его сомнения относительно смысла работы, ощущение странности и непонятности его роли как художника носят вневременный характер и не могут быть связаны исключительно с тогдашними русскими условиями. «Условия» — я хочу сказать, неблагоприятные условия, знаменующие роковой разрыв между правдой и реальной действительностью, существуют всегда; и в наши дни у Чехова есть братья по мукам душевным, которые не рады своей славе, ибо им приходится «забавлять гибнущий мир, не давая ему ни капли спасительной истины» — так, во всяком случае, принято говорить; они с таким же успехом могут поставить себя на место убеленного сединами героя «Скучной истории», не умевшего дать ответ на вопрос: «Что делать?»; они тоже не могут сказать, в чем смысл их работы; они тоже несмотря ни на что работают, работают до последнего вздоха.
И все же в нем что-то есть, в этом удивительном «несмотря ни на что», в нем должен быть какой-то смысл, а вместе с ним должна обрести смысл и работа. Не кроется ли в ней самой, хоть она и кажется порой пустою забавой, нечто нравственное, полезное, социальное, нечто такое, что ведет в конечном счете к «спасительной истине», к которой так тянется наш растерянный мир? Я уже говорил выше о том, что у литературы также есть свое собственное «я», о вытекающих отсюда неожиданных последствиях и о том, как дух ее помимо воли и без ведома молодого Чехова проник в его юмористические безделки, нравственно облагородив их. Этот процесс можно проследить на протяжении всей его писательской жизни. Один из биографов Чехова свидетельствует, что для его развития примечательно постоянное изменение его отношения к своей эпохе по мере овладения им мастерством формы. Это не только определяет выбор материала, развитие сюжета и характеристику пер-
530
сонажей, но и явствует из всего этого, нередко получая сознательное отражение в речи героев, что свидетельствует о безошибочном чутье и способности видеть, какие силы скоро отойдут в прошлое и какие приметы времени следует отнести к будущему. Что особенно заинтересовало меня в данном высказывании, это констатация связи между достигнутым мастерством формы и возросшей морально-критической чувствительностью к духу времени, иными словами, все более углубляющимся пониманием того, что обществом отвергнуто и уже отмирает и что должно прийти на смену ему, — следовательно, констатация связи между эстетикой и этикой. Ибо не она ли, эта связь, и сообщает трудолюбию искусства достоинство, смысл и полезность, не здесь ли следует искать объяснения тому, что Чехов вообще столь высоко ценил труд и осуждал всех бездельников и тунеядцев, все более недвусмысленно отрицал жизнь, построенную, по его собственным словам, на рабстве?
Это суровый приговор буржуазно-капиталистическому обществу, которое кичится своей гуманностью и слышать ничего не хочет о рабстве. Чехов-новеллист проявляет поразительную проницательность, высказывая сомнение, действительно ли после освобождения крестьян гуманность и общественная мораль в России сделали шаг вперед — положение, которое в известной мере можно наблюдать повсюду.
«Рядом с процессом постепенного развития идей гуманных, —
говорит его “никчемный
человек”, — наблюдается
и постепенный рост идей иного рода. Крепостного права нет, зато (он мог бы
вполне сказать: как раз поэтому) растет капитализм. И в самый разгар освободительных
идей… большинство кормит, одевает и защищает меньшинство, оставаясь само
голодным, раздетым и беззащитным. Такой порядок прекрасно уживается с какими
угодно веяниями и течениями, потому что искусство порабощения тоже культивируется
постепенно1. Мы уже не дерем на
конюшне наших лакеев, но мы придаем рабству утон-
531
ченные формы, по крайней мере, умеем находить для него оправдание в каждом отдельном случае. У нас идеи — идеями, но если бы теперь, в конце XIX века, можно было взвалить на рабочих еще также наши самые неприятные физиологические отправления, то мы взвалили бы и потом, конечно, говорили бы в свое оправдание, что если, мол, лучшие люди, мыслители и великие ученые станут тратить свое золотое время на эти отправления, то прогрессу может угрожать серьезная опасность».
Вот яркий пример того как Чехов высмеивает самодовольство буржуа эпохи прогресса. Как врач он с нескрываемым пренебрежением относится к паллиативным средствам, с помощью которых «прогрессивный буржуа» пытается лечить социальные болезни, и нет ничего комичнее разглагольствований гувернантки из дома богатого фабриканта, за стерлядью и мадерой на все лады расписывающей прелести паллиатива (рассказ «Случай из практики»). «Рабочие нами очень довольны, — говорит она. — На фабрике у нас каждую зиму спектакли, сами рабочие играют, ну чтения с волшебным фонарем, великолепная чайная и, кажется, чего уж. Они нам очень приверженные, и когда узнали, что Лизаньке хуже стало, заказали молебен. Необразованные, а ведь тоже чувствуют». Ее собеседник, однако, ординатор Королев, случай из практики которого описывается в рассказе, он же — Антон Чехов, только качает головой, слушая ее. «Глядя на корпуса и на бараки, где спали рабочие, — продолжает автор, — он опять думал о том, о чем думал всегда, когда видел фабрики. Пусть спектакли для рабочих, волшебные фонари, фабричные доктора, разные улучшения, но все же рабочие, которых он встретил сегодня по дороге со станции, ничем не отличаются по виду от тех рабочих, которых он видел давно, в детстве, когда еще не было фабричных спектаклей и улучшений. Он как медик, правильно судивший о хронических страданиях, коренная причина которых была непонятна и неизлечима, и на фабрики смотрел как на недоразумение, причина которого была тоже неясна и не-
532
устранима, и все улучшения в жизни фабричных он не считал лишними, но приравнивал их к лечению неизлечимых болезней». А если уж лечить, говорит он, то не болезни, а причину их. «…Медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки, при существующих условиях, служат только порабощению… — вот вам мое убеждение». При этом не следует забывать, что, придерживаясь такого убеждения, Чехов строил в своем уезде школы и больницы, хотя это и не приносило ему успокоения. И чем дальше он жил и писал, тем больше приходил к выводу: «Главное — перевернуть жизнь, а все остальное не нужно».
Но как это осуществить в столь непреложно «данных» условиях, в мире, где все свершается в силу какой-то неотвратимой необходимости? Как ответить на вопрос: «Что делать?» Озабоченность этим вопросом отличает многих персонажей чеховских новелл. В только что упомянутом «Случае из практики» Чехов находит для нее удивительное обозначение: «почтенная бессонница». Перед нами умная несчастная девушка, наследница фабриканта-миллионера, к которой пригласили доктора Королева, так как она плохо спит и страдает частыми нервными припадками. «Мне кажется, — говорит она, — что у меня не болезнь, а беспокоюсь я и мне страшно, потому что так должно и иначе быть не может». Королеву ясно, что ему следовало бы сказать ей: «Поскорее оставьте пять корпусов, и миллион… оставьте этого дьявола!» Ему ясно также, что она сама так думает и лишь жаждет услышать подтверждение своих мыслей от человека, которому она могла бы верить. Но как сказать ей это? «У приговоренных людей стесняются спрашивать, за что они приговорены; так и у очень богатых людей неловко бывает спрашивать, для чего им так много денег, отчего они так дурно распоряжаются своим богатством, отчего не бросают его, даже когда видят в нем свое несчастье; и если начинают разговор об этом, то выходит он обыкновенно стыдливый, неловкий, длинный». И Королев, при всей своей откровенности, щадит ее чувства: «Вы в положении владелицы фабрики и богатой наслед
533
ницы недовольны, не верите в свое право и теперь вот не спите, это, конечно, лучше, чем если бы вы были довольны, крепко спали и думали, что все обстоит благополучно. У вас почтенная бессонница1; как бы ни было, она хороший признак. В самом деле, у родителей наших был бы немыслим такой разговор, как вот у нас теперь; по ночам они не разговаривали, а крепко спали, мы же, наше поколение, дурно спим, томимся, много говорим и все решаем, правы мы или нет. А для наших детей или внуков вопрос этот, — правы они или нет, — будет уже решен. Им будет виднее, чем нам. Хорошая будет жизнь лет через пятьдесят…»[134]
Будет ли? Поневоле напрашивается мысль, что человек — неудавшееся создание природы. Его совесть, духовное начало в нем, очевидно, так никогда и не удастся полностью примирить с его натурой, его бытием, его общественным положением, и те, кто по каким-то неясным причинам чувствуют себя ответственными за судьбы людские, всегда будут страдать «почтенной бессонницей». И если кто-либо мучился бессонницей, то прежде всего сам Чехов, и все творчество его было «почтенной бессонницей», поисками верного, спасительного ответа на вопрос: «Что делать?» Найти его было трудно, почти невозможно. Одно лишь он знал твердо, что ничего нет хуже праздности, что надо работать, ибо бездельничать — это значит заставлять работать на себя других, эксплуатировать и угнетать. «Поймите же, — говорит в одном из поздних его рассказов («Невеста») студент Саша, который, как и Чехов, болен чахоткой и должен умереть, девушке Наде, также страдающей бессонницей, — поймите же, ведь если, например, вы и ваша мать, и ваша бабулька ничего не делаете, то, значит, за вас работает кто-то другой, вы заедаете чью-то чужую жизнь, а разве это чисто, не грязно?.. Милая, голубушка, поезжайте! Покажите всем, что эта неподвижная, серая, грешная жизнь надоела вам. Покажите это хоть себе самой!.. Клянусь вам, вы не
534
пожалеете и не раскаетесь. Поедете, будете учиться, а там пусть вас носит судьба. Когда перевернете вашу жизнь, то все изменится. Главное — перевернуть жизнь, а все остальное не нужно. Итак, значит, завтра поедем?» И Надя действительно уезжает. Она покидает семью, бросает пустышку-жениха, отказывается от брака и бежит. Это — бегство от гнета классовых предрассудков, от изживших себя, ложных, «грешных» форм бытия; оно типично для героев многих рассказов Чехова, это то самое бегство, на которое в последнюю минуту, в глубокой старости, решился Лев Толстой[135]. Когда Надя, сбежавшая невеста, навещает свой родной дом, ей кажется, «что в городе все давно уже состарилось, отжило и все только ждет не то конца, не то начала чего-то молодого, свежего». Она уверена, что рано или поздно это случится. «Ведь будет же время, когда от бабушкина дома, где все так устроено, что четыре прислуги иначе жить не могут, как только в одной комнате, в подвальном этаже, в нечистоте, — будет же время, когда от этого дома не останется и следа…» Это сказал ей бедный Саша: «От вашего города тогда мало-помалу не останется камня на камне, — все полетит вверх дном, все изменится точно по волшебству. И будут тогда здесь громадные великолепнейшие дома, чудесные сады, фонтаны необыкновенные, замечательные люди… и каждый будет знать для чего он живет…»
Это — одно из эйфорических прозрений будущего, которые писатель изредка позволяет кому-нибудь из своих героев или даже самому себе, хотя и знает, что «жизнь — это бесперспективная проблема». Им свойственна некоторая лихорадочная приподнятость, характерная для легочных больных, взять хотя бы место, где говорится «о том времени, быть может, уже близком, когда жизнь будет такою же светлою и радостной, как это тихое воскресное утро». Контуры его картин будущего[136], его идеального общественного устройства, весьма расплывчаты. Это картины основанного на труде союза правды и красоты.
535
Но нет ли в его мечте о «громадных великолепнейших домах, чудесных садах и фонтанах необыкновенных», которые поднимутся на месте отжившего, ожидающего своего конца города, чего-то от пафоса строительства социализма, которым современная Россия несмотря на весь вызываемый ею страх и враждебность столь сильно впечатляет Запад?
Чехов не имел никакого отношения к рабочему классу и не изучал Маркса. Он не был подобно Горькому пролетарским писателем, хотя и был поэтом труда. Однако он напел такие мелодии социальной скорби, которые брали за душу его народ, как, например, в «Мужиках», — величественно-горькой картине нравов, изображающей религиозный праздник, во время которого из деревни в деревню носят «живоносную» икону. Громадная толпа народу — местных и пришлых — шумно пылит по дороге навстречу иконе, и все простирают к ней руки, не сводят с нее глаз, причитают: «Заступница, матушка!..» — «Все как будто вдруг поняли, что между землею и небом не пусто, что не всё еще захватили богатые и сильные, что есть еще защита от обид, от рабской неволи, от тяжкой невыносимой нужды, от страшной водки. Заступница, матушка!.. Но отслужили молебен, унесли икону, и все пошло по-старому, и опять послышались из трактира грубые, пьяные голоса»[137]. Это — доподлинный Чехов: он и тронут, и ожесточен тем, что все идет по-старому, и я не удивлюсь если мне скажут, что своею популярностью, столь неожиданно для всех проявившейся после его смерти, на похоронах в Москве, он обязан именно подобным описаниям. В связи с этим одна из верноподданнических газет сочла возможным заметить, что Антон Павлович также, по-видимому, принадлежал к «буревестникам революции».
Он не был похож ни на буревестника, ни на мужика, ставшего гением, ни на бледного преступника Ницше. С фотографий на нас глядит худощавый мужчина, одетый по моде конца XIX века, в крахмаль-
536
ном воротничке, в пенсне на шнурке, с острой бородкой и правильным несколько страдальческим меланхолически приветливым лицом. Черты его выражают умную сосредоточенность, скромность, скепсис и доброту. Это лицо и вся манера держаться свидетельствуют о том, что он не терпит вокруг себя никакой шумихи. В нем нет ни капли претенциозности. И если даже проповедничество Толстого казалось ему «деспотическим», а романы Достоевского «хорошими, но нескромными, претенциозными», то можно себе представить, как претила ему напыщенная бессодержательность. В обличении ее он достигает вершин комизма. Несколько десятилетий назад мне довелось увидеть в Мюнхене одну из его пьес, которые все звучат приглушенно и проникнуты ощущением того отмирающего, изжившего себя, существующего фиктивно, что было характерно для жизни помещичьего класса; я видел пьесу, в которой все драматические эффекты восполняются глубочайшим тончайшим лиризмом — настроением конца и прощания, — пьесу «Дядя Ваня». В ней выведена дряхлая знаменитость, карикатура на героя «Скучной истории», профессор и отставке, тайный советник, пишущий об искусстве, в котором он ничего не смыслит, и тиранящий семью старческим брюзжанием, своею мнимой значимостью и своей подагрой — нуль, убежденный в своем величии. Прощаясь с ним, одна хорошая женщина целует его и говорит: «Александр, снимитесь опять и пришлите мне вашу фотографию. Вы знаете, как вы мне дороги»[138]. Всякий раз, когда впоследствии я вспоминал это «Александр, снимитесь опять», мне неудержимо хотелось смеяться, и Чехов виноват в том, что иногда я думал кое о ком: «этому тоже следовало бы сняться!» Впрочем, и сам Чехов снимался порою, когда это было так уж необходимо, и на фотографиях он — сама скромность. Они не свидетельствуют о том, что он прожил бурную жизнь, как будто и для страсти он был слишком скромен. В его жизни не.
537
было всепоглощающей любви к женщине[139], и его биографы склонны думать, что он, так хорошо умевший рассказывать о любви, сам никогда не испытал эротического экстаза. На даче в Мелихове в него безрассудно влюбилась Лидия Мизинова — красивая темпераментная девушка, часто бывавшая там, и он вступил с ней в переписку[140]. Но говорят, что его lettres d’amour1 выдержаны в ироническом тоне и полны опасения перед более глубоким чувством, что, возможно, объясняется его болезнью. Мизинова не скрывает, что была дважды отвергнута им[141], после чего удовольствовалась Потапенко (который, между прочим, был женат), тоже часто гостившим в Мелихове. Но если к Чехову никак невозможно было подступиться, сам-то он знал, что можно сделать из всего этого, и вплел этот эпизод в пьесу «Чайка», пользующуюся у нас наибольшей популярностью.
Однако, за три года до своей смерти, он все же женился, чему немало способствовали его тесные отношения с Московским Художественным театром и дружба со Станиславским; избранницей его была одаренная актриса Ольга Книппер[142]. Нам известны его письма к ней, но и в них он весьма сдержан в проявлении своих чувств, приглушая их шуткой и иронией.
Последние годы, проведенные Чеховым в Крыму, в Ялте, где он вынужден жить из-за болезни и где его в полном составе навестил Художественный театр чтобы сыграть перед ним его пьесы, возможно, были самыми счастливыми в его жизни благодаря женитьбе, дружбе с Горьким и общению с Толстым, который временно после тяжелой болезни проживал под Ялтой. Он был по-детски обрадован когда его избрали почетным членом Петербургской Академии Наук по разряду изящной словесности, однако два года спустя, когда правительство запретило избрать Горького в академики ввиду его радикальных взглядов, он — вместе с Короленко — в виде протеста отказался от этого почетного звания. Его последним
538
рассказом была «Невеста» (1903), его последней пьесой «Вишневый сад» — творения человека, который спокойно ждет развязки и не устраивая истерик ни по поводу своей болезни, ни по поводу близкого конца у края могилы утверждает надежду. Все его творчество — отказ от эпической монументальности, и тем не менее оно охватывает необъятную Россию во всей ее первозданности и безотрадной противоестественности дореволюционных порядков. «Наглость и безделье сильных, невежество и звероподобное состояние слабых, кругом страшная бедность, притеснение, вырождение, пьянство, ханжество, лживость…» Но чем ближе конец, тем трогательнее просветляется эта мрачная картина его верой в будущее, тем блистательнее предстает любящему взору художника гордое свободное деятельное содружество людей грядущего, «новый, высокий и разумный, строй жизни, в преддверии которого мы, возможно, уже стоим и который мы порой чувствуем»[143].
«Прощай, милый Саша!» — шепчет Надя-невеста покойнику, который некогда уговорил ее порвать со своей старой, «грешной» жизнью. «И впереди ей рисовалась жизнь новая, широкая, просторная, и эта жизнь, еще неясная, полная тайн, увлекала и манила ее». Это написал умирающий, это последнее, что он написал, и не о тайне ли смерти, ее влекущей, манящей силе, идет здесь речь? Или же мечта художника в самом деле способна преобразить жизнь?
Должен сказать, что эти строки я писал с глубокой симпатией. Творчество Чехова очень полюбилось мне. Его ироническое отношение к славе, его сомнение в ценности и смысле своего труда, неверие в свое величие уже сами по себе полны тихого, скромного величия. «Недовольство собой, — говорил он, — основа всякого подлинного таланта». Здесь скромность все же оборачивается самоутверждением. Это означает — будь доволен своим недовольством; тем самым ты докажешь, что ты выше самодовольных
539
и, быть может, даже велик[144]. Но по существу это не меняет искренности его сомнений и недовольства, остается работа, неутомимая работа, которой верен до конца, — даже сознавая, что у тебя все равно нет ответа на последние вопросы, даже угрызаясь совестью, что ты, может быть, обманываешь читателя, остается пресловутое «несмотря ни на что». Так уж повелось: забавляя рассказами погибающий мир, мы не можем дать ему и капли спасительной истины. На вопрос бедной Кати «Что мне делать?» можешь дать лишь один ответ: «По совести: не знаю». И несмотря на все это, продолжаешь работать, выдумываешь истории, придаешь им правдоподобие и забавляешь нищий мир в смутной надежде, в чаянии, что правда в веселом обличье способна воздействовать на души ободряюще и подготовить мир к лучшей, более красивой, более разумно устроенной жизни.
1954
К стопятидесятилетию со дня смерти с любовью посвящаю
его памяти.
В небесной выси буйное движенье.
Свирепый ветр кружит на башне флюгер.
И быстро идут тучи. Рог луны
Дрожит. Сквозь мрак неясное мерцанье
Проносится…1
В такую ночь, в беззвездную майскую ночь, сто пятьдесят лет тому назад, по спящим, словно вымершим улицам Веймара, по Эспланаде, через рыночную площадь и по Якобгассе — к старому кладбищу при церкви Св. Иакова несли бренные останки Шиллера. Не было мрачного полночного звона, разносящего глухие тяжкие удары. Колокола молчали. Молчал Колокол его объемлющей человеческую жизнь песни, чьи скорбные звуки провожают сурово в путь последний странника земного. Слышались только усталые шаги людей, время от времени опускавших на землю свою ношу — дешевый грубо сколоченный гроб, — для отдыха или смены. В сущности доставить гроб на кладбище по старому обычаю должны были за плату ремесленники. На очереди для такой работы
541
оказался портняжий цех. Но в последнюю минуту человек тонкой души, с юных лет восторженный поклонник Шиллера, воспротивился тому чтобы невежды бездумно выполнили порученное им дело. Секретарь комитета Швабе спешно созвал группу людей умственного труда — ученых с академическими званиями, судейских чиновников, кое-кого из деятелей искусства, среди которых, как это ни странно, не было представителей театра, — дабы они с любовью и печалью оказали покойному поэту эту последнюю услугу, — всего человек двадцать; восемь из них по очереди несли гроб, остальные следовали позади. Других провожающих не было.
Так они дошли до старого кладбища, к стене которого справа, у самого входа, примыкал так называемый «казенный склеп» — серое ветхое строение без окон, с островерхой черной крышей; решетчатые ворота вели в мрачное помещение, где находился склеп. Назывался он так потому, что строение принадлежало областной казенной палате. Когда могильщик и его подручные подняли гроб, на него упал свет луны, выглянувшей на одно мгновение из-за быстро несущихся туч. Ветер шумел в листве деревьев, громыхал железом на кровле кладбищенской церкви. Вероятно, господа, провожавшие тело, шли за гробом до самой могилы, поскольку это было возможно на тесной площадке перед люком. Он открылся с громким визгом проржавленных петель. Гроб обвязали бечевками и опустили вниз. Когда он нашел опору, застряв среди других гробов или наткнувшись на один из них, над темной пропастью, поглотившей его, задвинули крышку. Была полочь — наступил третий день после кончины Шиллера.
Постояли господа провожающие еще несколько минут, обнажив голову, в молитвенной тишине? Думается, что так. Во всяком случае похороны ничем другим не ознаменовались. Не было ни умиротворяющих звуков музыки, ни прощальных слов из уст священника или друга, ни надгробных венков, ни лавров. Известно, что, согласно обычаю, так, без всяких обрядов, в те времена хоронили в Веймаре, и лишь
542
на другой день церковь давала свое благословенно усопшему. Эта так называемая collecte — заупокойная литургия — состоялась днем двенадцатого мая, но никакой особенной торжественностью не отличалась, поскольку на ней не присутствовали ни герцог, ни Гете, прикованный к постели болезнью, и от которого, видимо, целые сутки скрывали смерть друга. Известно также, что родные, вдова поэта и даже он сам, умирая, настаивали на том, чтобы погребение прошло по возможности тихо и незаметно, а хоронили ночью потому, что состояние тела не позволяло ждать до утра… Как бы там ни было, место захоронения соответствовало общественному положению усопшего — меннингенского герцогства надворного советника[145] фон Шиллер[146].
Только останки важных особ, чьи семьи не имели собственного фамильного склепа, только члены высшего веймарского общества — такие, как фон Коппенфельс, Ридель, фон Пфуль, фон Эглофштейн и прочие, — допускались в казенный склеп. Но надо сказать, что кладбищенский особнячок предоставлял этим господам худшее убежище, чем они нашли бы под зеленеющей землей в любом уголке общедоступного погоста. Над входом в этот склеп вполне уместно было бы начертать двустишье о «гении с опрокинутым светильником».
Как он красиво стоит, опрокинув погасший светильник!
Смерть, государи мои, вовсе не так хороша.
То, что скрывалось в его глубинах, выглядело очень нехорошо. Сквозь пол и стены проникала сырость, быстро разъедала дерево вповалку сброшенных гробов, и там образовалась такая мешанина из трухи и гнили, что впоследствии, когда предстояла очистка склепа, почитателям того или иного покойника лишь с превеликим трудом удавалось выковырять из хаоса разложения нужный череп и соответствующий остов — не полностью, и даже не с полной достоверностью. Провожающие постояли, повздыхали и разошлись. Слышали они, как в шум и скрежет ветра вплетается
543
тихое сладкозвучное пенье — волшебные голоса духов, витающих вокруг могильного склепа?
Лишь над телом властвуют жестоко
Силы гибельного рока,
Но, с косой Сатурна незнаком,
Однодомец духом совершенных
Первообраз там, в кругах блаженных,
Меж богов сияет божеством.
Этот образ уже возник. Избавленный от унизительной власти материи, воплощение мужественной идеальности и воплощенный идеал мужественности, отважный, пылкий и кроткий, со взором Спасителя, обратив к звездам царственный лик, — таким он явлен был уже в час положения во гроб — и навсегда, — преображенный горячей любовью своего народа, умиленной нежностью всего человечества, — бессмертный образ, отмеченный печатью неповторимой жизни, и на челе его, просветленном благородством высокой мысли, как на челе небожителя[147] в его стихах, сияют «мир души и чувственное счастье», — завет художника, который гласит, что прекрасное освобождает нас от тягостного выбора между тем и другим, дарит человеку единство чувственного и нравственного, водворяет мир между нашей земной и духовной природой, перекидывает мост от идеала к жизни; что возвышенное понятие «добра», стремление к нему — присуще обоим мирам — эстетическому и моральному — и что истина и красота сплавляются в искусстве, наставнике рода человеческого.
Почтить этого счастье дарующего гения, легкими стопами идущего стезею света, собрались мы здесь — и как же так? Кто я такой, чтобы говорить во славу его, когда у меня перед глазами целые горы трудов о его жизни и творчестве, воздвигнутые усердием глубоко сведущих ученых за истекшие полтора столетия? Лишь одно может рассеять мои страхи и придать мне бодрости: искренняя вера в духовное родство, в кровное братство, в близость, поощряющую непринужденное общение, которая — невзирая на различье рангов, эпох и темпераментов — объединяет всех творчески
544
деятельных художников[148]. Ни один из них не должен только робеть и смущаться, считать себя вовсе недостойным соучастником торжества в честь этого гения, который был и остается апофеозом искусства. Он возвеличил его в блистательных свершениях, и притом в столь тщательно отобранных, столь предельно точных словах, что и скромнейший из его собратьев со смиренной гордостью узнает в них собственные свои невзгоды, собственные свои радости.
Мертвый камень оживляя смело,
Создает богини тело
Вдохновенья пламенный порыв.
Но художник лишь в борьбе упорной
Побеждает мрамор непокорный,
Разуму стихию подчинив.
Только труд, не знавший отступлений,
Истину постигнет до конца,
И над глыбой торжествует гений
Непреклонностью резца.
Но своим последним мощным взмахом
Он свершает чудо с прахом:
След усилий тщетно ищешь ты.
Массы и материи не стало.
Стройный, легкий сходит с пьедестала
Образ воплощенной красоты.
Как это сказано! С каким пафосом и в то же время четкостью выражены здесь устремления и опыт всякой жизни в искусстве! А в другом месте, в великолепной строфе «Художников», как горячо прославил он детскость искусства, наивысшую земную общедоступность красоты и воспел ту единственную богиню — богиню истины, которая великодушно сошла к нам, смертным.
Она, сверкающая в ореоле,
В котором звезды вечные горят,
На лучезарном солнечном престоле,
Слепящая сияньем смертный взгляд,
Доступная лишь взорам духов чистым,
Урания, прекрасна и страшна,
Рассталась со своим венцом лучистым
И красотой явилась нам она.
Сама — дитя,
бесхитростной, простою
Она пришла, понятна для детей.
Представшая когда-то красотою,
Нам Истиною явится поздней!
545
И кто станет отрицать в самом Шиллере, при всей глубине и огромной прозорливости ума, эту детскость, возвышенную наивность, которая порой вызывает у нас благоговейную улыбку — благоговейную потому, что эта черта неотъемлема от его несравненного, неповторимого величья. Это величие Шиллера мы прежде всего должны видеть и чтить[149] — прирожденное, непроизвольное, верное себе в каждом движении духа, в каждой мысли — то величие, которое не уставал восхвалять в своих беседах престарелый Гете. Именно прирожденность, непроизвольность, с какой оно проявлялось, изумляла его. «Он мог вести себя как угодно, — говорил Гете, вспоминая Шиллера, — но что бы он ни делал, все получалось неизмеримо выше, нежели у самых лучших из молодых; даже когда Шиллер стриг себе ногти, он был выше этих господ».
Не знаю почему, но как раз та вещь, которая была для него мелочью, которая и в самом деле мелочь по сравнению с его крупными произведениями, всегда казалась мне наиболее разительным примером этой естественной тяги к величавости; я имею в виду «Песню о колоколе». Десять, двенадцать страничек коротких, ритмически пестрых стихотворных строчек — что это рядом с блестяще выполненными главными трудами его жизни, с такими драматическими шедеврами, как «Валленштейн», «Телль», как грандиозный замысел «Деметриуса»? И все же — пусть романтики покатывались со смеху, издеваясь над классическим мещанством поэмы, над «добрыми речами», под аккомпанемент которых идет литье колокола, — это добрые речи обо всем, всеобъемлющий канон человеческой жизни, вложенный в бдительные, повелительные звуки церковного колокола, «без сердца, без сочувствия» сопровождающего своим звоном переменчивую игру человеческой жизни на всех ее путях, во всех ее извечно повторяющихся, до чистоты мифа вознесенных перипетиях. И до наглости неприличны были насмешки снобов, чьим луженым мозгам оказалась недоступна величавая простота. Смеяться вместе с ними легко. Верно, что много
546
смешного в этом восторженном гимне золотой середине и благонравию: трудолюбивый муж и добродетельная жена, и «уходит отрок, вдаль влеком», и «вздыхая бродит вслед за нею», и горе, коль «сам народ крушит темницы и цепи разбивает в прах». Здесь трудно удержаться от вопроса: кто же должен разбивать цепи, если народ сам этого не сделает? И все-таки «Песня о колоколе» равна достоинством всему, за что когда-либо брался и что выполнил поэт, она характернейшее проявление его царственного гения, и прав был Вильгельм Гумбольдт, когда писал: «Я не знаю стихотворения ни на одном языке, которое в столь малом объеме открывало бы такой широкий круг, проходило всю гамму глубочайших человеческих чувств и средствами лирики показывало жизнь как заключенный в естественные границы эпос». Потому-то имя Шиллера и в Германии, и во всем мире всегда связывали главным образом с этим стихотворением. Он завоевало огромную популярность чуть ли не с момента его создания, и только ныне, в надвигающейся тьме невежества и потери памяти, эта популярность идет на убыль. Но еще очень недавно простые люди из народа знали его наизусть, от первого до последнего слова, и датчанин Герман Банг писал в одной из своих «Эксцентрических новелл» о придворном актере, выступившем с чтением стихов: «Он был единственным в зале, кто не очень твердо помнил “Колокол”».
Нелегко остановиться, начав говорить о величье Шиллера, величье столь щедром, пламенном, опьяненном вселенским простором и вместе с тем эстетико-воспитательном, но прежде всего — глубоко мужественном, какого нет даже в более мудрой, более земной царственности Гете. И вот за этой почти чрезмерной, почти сверхъестественной мужественностью, страстно приверженной силе воли, свободе духа и явному сознанию, скрывается ребенок, для которого превыше всего на свете игра и который сказал, что из всех существ на земле только человек умеет играть и
547
он лишь тогда вполне человек, когда играет. Это, конечно, эстетико-философская теория. Но улыбка, которую нам подчас приходится удерживать, дивясь грандиозности Шиллера, вызывается присущим ему вечно отроческим началом, его увлечением своего рода возвышенной «игрой в индейцев», его пристрастьем ко всему необычайному, к психологическим загадкам, к тем «крайностям», — гибельным добродетелям и благородным преступлениям, — о которых повествует в своих жизнеописаниях Плутарх, его способностью воспламеняться «чудовищным величием» похитителя короны, его тягой к анналам человеческих заблуждений и редкостных пороков, к хронике уголовных происшествий, к свидетельствам историков о тайных за- говорах и мятежах, о кознях иезуитов, об инквизиции, об узниках Бастилии и .жертвах игорного азарта… К этому нужно добавить женские образы — Амалии, Теклы — и отношение к этим бесплотным созданиям наряду с ребячливо хвастливой эротикой, облеченной в форму светского цинизма, как, например, слова Фиеско: «Женщина никогда не бывает так хороша, как в спальном уборе, — это наряд ее ремесла», — на что Джулия Империали отвечает: «Какое легкомыслие!» Еще бы не легкомыслие! А разве извечно отроческое начало в этом взрослом ребенке не перешло из его ранних произведений в более позднюю пору творческой зрелости; не проглядывает ли оно в его нередко чрезмерно выспренней риторике и в нарочитой театральности, где фантазия и природа «поверяют тайны друг другу»; а также в нагромождении ужасов, о чем говорил Гете, рассказывая Эккерману, как во время подготовки «Эгмонта» для театра Шиллер настойчиво, но безуспешно внушал ему, что когда Эгмонту в тюрьме зачитывают приговор, то в глубине сцены должен появиться Альба в маске и закутанный в плащ, дабы усладиться муками Эгмонта, терзаемого страхом смерти, и тем утолить свою ненасытную жажду мести? Можно представить себе спор этих столь несхожих друзей. Гете хохочет и, отбиваясь, говорит с франкфуртским акцентом: «Нет, нет, дорогой мой, что вы, это уж слишком страшно!» А Шил-
548
лер с швабским акцентом — от которого он так и не сумел избавиться — настаивает: «Но, клянусь вам, получится потрясающий эффект и проймет публику до самого сердца!»
«Он был великий человек и большой чудак», — замечает Гете, с грустной улыбкой качая головой, и снова, как это часто с ним бывает, предается воспоминаниям о Шиллере и, возвращаясь мыслями к нему, еще многое говорит о его чисто театральном равнодушии, даже нелюбви ко всякой мотивировке: о том, как он заставил Геслера просто-напросто сорвать с дерева яблоко и велеть Теллю выстрелить в это яблоко, положив его на голову сына, и с каким трудом ему, Гете, удалось убедить друга, что необходимо добавить хоть несколько строк, где мальчик хвастает меткостью отца, который будто бы может сбить яблоко с дерева на расстоянии ста шагов, чтобы немного расшевелить воображение тирана и как-то подготовить почву для легендарного выстрела. Шиллер в конце концов дослал Иффланду эти строки и написал ему, что их следует включить, так как он находит мотивировку этой сцены недостаточной. О том, что кто-то другой должен был указать ему на чрезмерное равнодушие к деталям, Иффланду знать было незачем.
Я все еще думаю об этой характернейшей черте Шиллера, о ребячливой тяге ко всему исключительному, фантастическому, которая так своеобразно сочетается с его возвышенным строем мыслей. Подобно Бальзаку, он страстно увлекается обширными планами, о чем мы можем судить по его переписке с Котта: постоянное проектирование начинаний крупного масштаба, одержимость философскими идеями и вместе с тем расчет возможных шансов на успех и выгоду. Несомненно, он спекулировал не только в области философии, спекуляция вообще была его страстью, но на каком высоко идеалистическом уровне его пламенная натура предавалась ей, показывает основанный им журнал «Оры», ибо красно-
549
речивые призывы сотрудничать в нем, обращенные ко всем деятелям немецкой культуры, завоевавшим известность и почет, — Фихте, Дальбергу, Гердеру, Гуфелянду, обоим Гумбольдтам, Маттисону, тайному советнику фон Гете — означали ни больше ни меньше, как организацию духа. Но далека была такая идея от Гете, и не могла она возбудить его сочувствия! Когда Шиллеру случается сетовать на эгоистическое безразличие Гете, на его неверье в возможность осуществить какое-либо доброе начинание, он имеет в виду равнодушие Гете ко всякой организаторской деятельности. Несомненно, энергичная предприимчивость Шиллера проистекала от его желания оказывать воздействие, проводить свою культурно-политическую программу, а Гете это было чуждо. «Шиллер, — говорит он, и как странно это звучит в устах светского человека, к тому же придворного лица, — обладал куда большим житейским умом и уменьем жить, и гораздо лучше обдумывал свои слова, нежели я, который столь часто отталкивал хороших людей слишком откровенными замечаниями и тем самым портил впечатление от своих лучших вещей». И нужно ли удивляться, если поднимающийся из омута нужды и нуждой взращенный честолюбец, добиваясь принадлежащего ему по праву гения места в мире, развивает в себе больше дипломатической хитрости, чем рожденный в богатстве независимый баловень судьбы, который «плохо обдумывает свои слова»? «Если Шиллер завоевывает царства, то он, несомненно, с самого начала стремился к тому», — пишет Герман Гримм, вероятно, лучший психолог среди его критиков. А величайшее царство, завоеванное Шиллером, была дружба Гете — и разве здесь, при попытке преодолеть недоверие и сдержанность Гете, который, возвратясь из Италии, «оказался, к своей досаде, зажатым между Ардингелло и Францем Моором», могло вовсе не быть умысла и дипломатии? Случайный совместный уход с заседания Общества испытателей природы в Иене что-то не кажется мне столь случайным; вряд ли случайно и то, что уже первое замечание Шиллера увлекло и вооду-
550
шевило Гете до такой степени, что он не устоял и тут же с жаром поделился своим заветным опытом, своей теорией метаморфозы растений, и вдохновенно описал символическое растение — прарастение — автору «Разбойников», неприятного «Дон Карлоса» и сомнительной статьи «Грация и достоинство». Потом последовало знаменитое: «Это не опыт, это идея» — дерзкое возражение Шиллера, чуть было не оборвавшее разговор, но, как оказалось, придавшее ему, напротив, еще большую живость. Ибо после сердитого ответа Гете: «Мне очень приятно, что у меня есть идеи, о которых я не знаю, однако вижу их своими глазами», Шиллер, отнюдь не желая, чтобы разговор прекратился, и, как отлично известно Гете, намереваясь «не оттолкнуть меня, а привлечь», хотя бы потому, что очень хотелполучить «Вильгельма Мейстера» для своих «Ор» — Шиллер тотчас со светской непринужденностью меняет тон, отвечает «как просвещенный кантианец», и таким образом диспут, невзирая на все разногласия и даже особенно интересный именно из-за них, благополучно продолжается еще долгое время. Ибо, говорит Гете, «велико было обаянье Шиллера, он всех пленял, всех, кто к нему приближался» (или к кому он приближался), и кончилось тем, что Гете пообещал свое участие в журнале. Лед был сломан, — завязалась дружба антиподов, прославленный духовный союз, который благодаря взаимодействию двух великих натур принес столь богатые плоды. Но можно не сомневаться, что его возникновением мы обязаны целеустремленной инициативе Шиллера, его дипломатической гибкости, и, не знай он твердо, чего хотел, — при равнодушии Гете и даже неприязни на первых порах все свелось бы к чуждому друг другу существованию бок о бок[150].
Углубление в чью-либо психологию легко приводит к непочтительности. Но тут ничего не поделаешь: психология — одна из граней истины, так сказать натуралистическая, и потому я решаюсь высказать кощунственную мысль, что и поздравительное письмо ко дню рождения, в котором «дружеской рукой» и
551
с беспримерным умом «подведен итог всей жизни Гете», — не в малой мере плод дипломатического искусства, и что, в сущности, так же обстоит дело с замечательным трактатом о наивной и сентиментальной поэзии, где блестяще дано понять, что умозрительное и интуитивное мышленье — если и то и другое гениально — должны встретиться на полпути и сойтись как равное с равным, — короче говоря, что и здесь был свой тайный умысел — завоевать высокое место, место рядом с Гете.
Прав я или нет, говоря, что в дипломатии,
целеустремленности, в тяге к «заранее намеченному», применительно к гению
такого масштаба, есть что-то ребячливое? Его имя украсилось титулами — видимо,
недостаточно сказать, что он просто принял их. Это тоже было заранее намечено.
В 1784 году двадцатипятилетнему Шиллеру в Дармштадте представился случай
прочесть Карлу-Августу, герцогу Веймарскому, только что законченный первый акт
«Дон Карлоса». «Да это превосходно», — сказал герцог. — «Правда? — отвечает
Шиллер. — В таком случае, соблаговолите, ваше высочество, наделить меня званием
советника!» — «С величайшим удовольствием»,— смеется герцог и тут же подписывает
приказ. Советник — это хорошо, но «надворный советник» — лучше. Новое званье не
пришло само собой, оно пришло в 1790 году, незадолго до его свадьбы, вследствие
просьбы, на сей раз обращенной к герцогу Мейнингенскому. Но двенадцать
лет спустя — «Валленштейн», «
552
Детскость в личной жизни, детскость в искусстве — в конечном итоге не находим ли мы все ту. же великолепную ребячливость в многолетнем самоистязании, которому подвергал себя этот могучий художник, углубляясь в дебри спекулятивной философии, эстетической метафизики и критики, стоически запрещая себе художественное творчество во имя свободы, — ибо темный, действующий в подсознании импульс искусства представлялся ему чем-то противоестественным, насилием над духом, недостойным свободной высоконравственной личности, — отказываясь творить, пока ему не удастся поднять безотчетный инстинкт на высоту ясно осознанной разумной закономерности? «Прискорбно видеть, — говорит Гете, все еще с сокрушеньем даже после смерти друга, — когда такой необычайно одаренный человек бьется над философскими идеями, которые ничем не могут ему помочь». «Злосчастной» называет он ту пору, когда Шиллер в своем увлеченье умозрительной философией дошел до того, что мучился над задачей: как начисто отделить сентиментальную поэзию от наивной, и, понятно, не мог найти для первой никакой почвы, что повергло его в глубокое смятенье. «Как будто, — с улыбкой продолжал Гете, — сентиментальная поэзия вообще может существовать не на основе наивности, из которой она вырастает!»
Это улыбка мудрости, с умилением взирающей на причуду ребенка; но стихийная творческая сила его победоносно выдержала испытанье и, пройдя через тяготы отвлеченного мышленья, достигла более высокой степени мастерства. «Ведь по-настоящему я чувствую свою силу только в творчестве, — пишет он, принимаясь за «Валленштейна», — а в теории я вечно бьюсь над общими принципами. Тут я дилетант… Критика должна теперь возместить мне вред, который она мне причинила, а повредила она мне основательно, потому что той смелости, того живого пыла, каким я обладал раньше, когда не знал еще никаких правил, я лишился уже много лет назад. Теперь я вижу самого себя в процессе творчества « созиданья, я наблюдаю за игрой вдохновения, и моя
553
фантазия уже менее свободна, с тех пор как она знает, что за ней следят. Но если я дойду до того, что пра« вила искусства сделаются для меня естественными, как для благовоспитанного человека — хорошие манеры, тогда и воображение мое обретет свою прежнюю свободу и для него не будет существовать никаких пределов, кроме добровольно им установленных».
Как видите, он все еще спекулирует, хотя и желал бы дать отставку спекуляции, и рассчитывает он на вторую наивность и непосредственность — на чудом возрожденное простодушие. Он не ошибся в своих расчетах, и мы можем не разделять сожаленья Гете о пяти годах, потраченных на теоретические и критические изысканья, не повторять вслед за ним, что они не принесли никакой пользы. Правда, они поначалу сковали его художественное творчество, сделали поэта более придирчивым, более взыскательным к самому себе, но отнюдь не обескровили его могучий дар, а напротив, сообщили ему — по сравнению не только с первыми, бурными его проявлениями, но и с «Дон Карлосом» — бо́льшую ясность, благородство и чистоту. Былая безудержная отвага сменилась подлинным могуществом. «Теперь я вижу, — говорит он во время работы над «Орлеанской девой», — что нельзя себя связывать каким-либо общим понятием, нужно смело изобретать новую форму для нового материала, мыслить жанр подвижным и емким».
Эти слова звучат очень здраво, в них ясно выражено новое реалистическое отношение к форме, к искусству, — и уже испытываешь потребность сообщить небесно-голубому идеалистическому нимбу, которым принято окружать образ Шиллера, несколько более сочные тона, примешать к небесно-голубой более земные, реалистические краски, неотъемлемые от его величья в силу присущей ему энергии, цеп- кости, упорства, жизнелюбия — без чего он не стал бы тем, чем он был и есть. Достаточно сравнить его душевный habitus[151], его твердую решимость добиться
554
победы, с такой натурой, как Гельдерлин, беззащитной перед жизнью и действительностью, натурой, которая не могла вынести мира, при каждом соприкосновении с пошлостью впадала в отчаянье и нашла наконец прибежище в безумии. Шиллер в прекрасных стихах воспел судьбу поэта-пришельца на земле, отданной Зевсом людям, его право на более высокую родину. Но в еще очень юном Гельдерлине он уже видит «в высшей степени субъективного идеалиста, который замкнулся в себе и не умеет перекинуть мост к современному миру», и пишет Гете — такому же, как он, жизнелюбцу: «Гельдерлину присуща крайняя субъективность в сочетании с некоторой склонностью к философии и меланхолии. Состояние его опасно, потому что к таким натурам очень трудно подступиться». В этом суждении звучит отстраняющаяся жалость. В нем самом, хоть он, бесспорно, идеалист — и как философ, и как художник — нет и намека на расслабляющую мечтательность, и на земле он в гораздо большей степени у себя дома, нежели его опоздавший к разделу поэт, о котором он говорит с ласковой насмешкой.
У этого глашатая свободы мы находим высказыванья о политических и социальных проблемах, поражающие своей трезвой реалистичностью. Они отнюдь не сводятся лишь к знаменитому выпаду против демократии: «Большинство — это глупость». Та же мысль развита в «Majestas populi»:
Рода людского величье! Найду ли тебя я у черни?
Ты с незапамятных лет только в немногих живешь.
Только немногие —в счет, а все остальные — пустышки.
Выигрыш тонет, увы, в куче пустых номеров.
Недаром Гете говорил, что покойный друг был в гораздо большей мере аристократом, чем он сам; но Гете все же ошибался, когда добавлял, что Шиллер тщательнее, нежели он, выбирал слова. Нет, Шиллер отнюдь не был слишком осторожен и не побоялся, из любви к богам Греции, выразить свою антипатию христианскому единому богу, который уныло, без
555
собратьев, без равных себе восседает на опрокинутом престоле Сатурна.
Когда боги были человечней,
Человек божественнее был.
Он позволял себе даже неприкрытые грубости, как, например, в дистихе о «Гордости человека»:
Хватит, довольно речей! Обеспечьте их кровом и хлебом,
Тотчас, прикрыв наготу, гордость они обретут.
Да ведь это же, прости господи, социалистический материализм! Во всяком случае — не идеалистическая риторика, которую в силу укоренившегося предрассудка принято приписывать Шиллеру.
Именно он никогда не убаюкивал себя туманным оптимизмом. Он был в достаточной степени медиком, чтобы понимать, что идеалистические иллюзии о бессмертии, ради которых в жертву приносится земное счастье, — насмешка и обман перед фактом разложения. В его поэзии прорываются слова горького неверия в потустороннюю справедливость, в вечную награду за самоотречение в жизни земной. Он узаконивает выбор между надеждой и наслаждением. «Кто не имеет веры, наслаждайся. А верующий — благ земных лишайся».
Надеявшийся
награжден не мало, —
Награду вера всю в себе несет.
Тебе недаром мудрость подсказала:
Что у тебя Минута отобрала,
То никакая Вечность не вернет.
Но так же, как за этой рапсодией горечи и разочарования тотчас последовал гимн «К радости», так и сам он, с гибкостью великого художника пройдя мимо печальной истины, от скорби о загубленной жизни вернулся к гордому сознанию принесенной жертвы. Ибо в творческой жертвенности было его счастье, и уже в двадцать лет он говорил: «Когда я подумаю, что, быть может, через сто или больше лет… будут чтить мою память и даже в могиле я буду собирать дань восхищения и слез, тогда я радуюсь моему призванию поэта и примиряюсь с богом и моим нередко жестоким уделом».
556
Нет, перед нами не вечный юноша, томимый тоской по несбыточному, а зрелый муж, закаленный познанием истории, приученный к зримому воплощению театром, чьи требования, если верить его собственным словам, долгое время превышали его сценическое мастерство. Только закончив «Марию Стюарт», свою шестую драму, он пишет: «Наконец-то я начинаю постигать законы сцены и овладевать своим ремеслом». Кстати сказать, слово «ремесло» звучит здесь вполне естественно. Однако, как это ни удивительно, он прежде не считал себя автором театральных пьес и даже склонен был делать различие между драматическим произведением и драмой, годной для сцены; мало того — сценическим пьесам он отводил лишь скромное место одной из провинций обширного царства драматургии. Работая над «Разбойниками», он уверяет, что «не притязает говорить с театральных подмостков», и хочет, чтобы это гениальное порождение истинно театрального темперамента называлось не драмой, а «драматическим романом». «Дон Карлос» назван «драматической поэмой», и автор ее со всей решительностью утверждал, что это произведение чисто литературное, предназначенное только для чтения, что оно никогда не приживется на сцене уже по одному тому, что оно слишком длинно — в первом издании было шесть тысяч с лишним строк, а после последнего сокращения все еще оставалось свыше пяти. «Дон Карлос» чуть не вдвое длинней обычной театральной пьесы; но длинный спектакль и скучный спектакль — не одно и то же, и немецкий театр, как мы видим, не хочет и не может обойтись без этой «предназначенной для чтения» драмы, где есть такие отличные роли и такие чудесные исполненные пафоса стихи, — как, впрочем, и без «Орлеанской девы», о которой герцог Карл-Август сказал по прочтении, что вряд ли ее можно сыграть на сцене, с чем Шиллер тотчас же и согласился: нет, нет, «Орлеанская дева», конечно, не для сцены. Но именно она стала одним из величайших его театральных триумфов, и ее премьера на Лейпцигской сцене, во время которой в зале присутствовал сорокадвухлетний автор, вероятно,
557
была апогеем его короткой жизни[152]. Шум и треск, шпалеры зрителей, зажженные факелы, гром приветствий: «Ура Шиллеру, нашему гению!» И давно уже тяжело больной поэт идет сквозь толпу, очень высокий[153], но сгробленный, крепкого сложения, но изможденный, и на его лице, которому недуг сообщил особую, одухотворенную красоту — и грусть, и дружелюбие, и глубокая дума, и отчужденность, — так описывает Гете; он, как всегда, несколько смущен головокружительным успехом, словно он и не добивался его[154], хотя успех на театральных подмостках предначертан ему от рождения и самой натурой его, и сокровеннейшими устремлениями воли точно так же, как немногим позже его собрату по драматическому искусству Рихарду Вагнеру, чье понимание и овладение сценой Шиллер предвосхитил: и тот, и другой видели в театре самое могучее, самое непосредственное и осязаемое орудие эстетического воздействия, и оба они сообщили этому орудию силу глубочайшей мысли, нравоучительной философии, возвышающего душу драматизма[155].
Проходя через рукоплещущую толпу, дожидавшуюся его выхода из театра, он, верно, думал о том, что неизменно повторяется одно и то же, как все, созданное им, властно увлекает за собой людей» какая таинственная сила кроется в его драматическом даре, — сила, которой не столько владеет он, сколько она владеет им[156]. Быть может, он вспоминал о самом раннем своем творении, о том, как создавались «Разбойники». Он уже давно терпеть не может эту неистовую мальчишескую, во многих отношениях нелепую, трагедию, но все же она памятна ему как первая веха на крутом подъеме его жизненного и творческого пути. Девятнадцатилетним юношей принялся он за нее: издерганный, скованный военной муштрой питомец самодура герцога, возомнившего себя педагогом, он жаждет свободы, отважных деяний, и в его личных невзгодах, в его бурном протесте, как в выпуклом стекле, преломляется вся фальшь растленного общества, все уродства эпохи. Пользуясь своим слабым здоровьем, он часто ложится в лазарет и украдкой
558
работает над драмой, держа наготове, для отвода глаз, медицинский учебник. Нужна строжайшая тайна, ибо «склонность к поэзии оскорбляла законы заведения», — да еще такая поэзия! Замысел, который он открыл немногим друзьям, узкому кругу почитателей муз, гласил: «Мы сочиним книгу, которую палач, несомненно, должен будет предать огню». Когда он читает товарищам отрывки, они слушают его разинув рот от изумления: вот это смельчак! Он читает им в лесу и в четырех стенах. Однажды, бегая взад и вперед по комнате, отчаянно размахивая руками, он с пафосом декламировал монолог Франца Моора; один из начальников, поручик Нис[157], сунул голову в дверь[158] и сказал с укоризной: «И не стыдно вам так непристойно браниться!» Наступила тишина, и поручик удалился. «Пропащий человек!» — под дружный хохот друзей кричит ему вслед Шиллер и, несколько понизив голос, продолжает чтение[159].
Минуло два года — он окончил военную академию и служит теперь полковым лекарем в Штутгарте, — работа над криминальной рукописью завершена. Опубликовать ее — упаси боже! — ни одна душа не соглашается. Он сам издает свое произведение, для чего вынужден влезть в долги; нескоро ему удастся вернуть эти взятые взаймы сто пятьдесят гульденов. Получив корректуру, он сам пугается допущенных им крайностей, начинает смягчать, сглаживать, приглушать. Чистые листы он посылает в Мангейм придворному книготорговцу Швану, с которым когда-то случайно познакомился. Шван тоже не пожелал издать «Разбойников», но, прочитав их вторично (вероятно, в первый раз с должным вниманием), приходит в сильнейшее волнение: драма-монстр не дает ему покоя; он мечется, теряет сон, в разгоряченном мозгу вспыхивает слово «Гений!» Он идет к директору театра, его превосходительству фон Дальбергу, и читает ему оттиски. Он читает их вслух, навязывает для прочтения всем, чье мнение имеет вес в театральном мире: директору регенсбургского театра, члену государственного совета фон Бербериху, известным актерам Иффланду и Беку. Актеры взволнованы больше
559
всех. Разумеется, пьесу нужно сделать более приемлемой, но пусть им дадут сыграть ее, — она может произвести сенсацию. На Дальберга оказывают давление, да он уже и так сам не свой. Его превосходительство пишет любезное письмо штутгартскому полковому лекарю: ежели многоуважаемый автор согласен сгладить самые предосудительные места своего примечательного произведения, то он, фон Дальберг, рискнет поставить его драму на сцене.
Ничего подобного Шиллер не ожидал. Он счастлив: один из крупнейших театров Германии берется, правда, на известных условиях, воплотить на сцене его пламенные мечты и видения. Между тем «Разбойники» в количестве восьмисот экземпляров уже появились на книжном рынке — без имени автора; но Шиллер, по требованию Дальберга, садится за драму дабы изъять из нее все то чрезмерно вулканическое, что может оттолкнуть театральную публику. Тяжелая жертва, кропотливая работа, а у молодого автора много других забот: в лазарете свирепствует эпидемия-дизентерии. Но он делает все что может и так быстро как только может — и вот работа окончена, вернее, он мнит ее оконченной, ибо вскоре оказывается, что его муки только начало томительной процедуры, о которой он и не догадывался, когда протянул театру мизинец. Театр хватает все пять пальцев, всю руку. Фон Дальберг отнюдь не удовлетворен авторскими уступками. Он требует все новых и новых. Чтобы отодвинуть содержание пьесы в прошлое, ее облачают в исторический наряд, переносят действие в шестнадцатый век, в эпоху Максимилиана и имперского мира. «Но для этого у моих героев слишком современная речь и слишком просвещенный ум, в особенности у Франца, — ведь это злодей-резонер, тонко философствующий мерзавец! И какая же Амалия средневековая девица! Из этого выйдет только никуда не годная непристойная мешанина — ворона в павлиньих перьях!» Но театру это совершенно безразлично, драматург обязан подчиниться его требованиям. И так как Шиллер в свое время уверял, что не притязает говорить с театральных подмостков, то
560
его превосходительство в конце концов берет на себя смелость самолично, по своему усмотрению, вносить поправки, ослаблять и снижать пафос драмы, и только после этого приступает к ее постановке.
И что же? В день премьеры, на которой Шиллер присутствовал тайно, без разрешения начальства, набитый битком зрительный зал (слухами о пьесе полнилась вся страна) походил на дом умалишенных: горящие глаза, сжатые кулаки, топот, хриплые возгласы! Незнакомые бросались друг другу в объятия, женщины в полуобмороке неверными шагами брели к дверям… Вот что происходит в театре, а это означает: всему тому, что было проделано над пьесой, противостояла глубоко в ней заложенная сущность, и она, казалось, говорила со сцены: «Пусть так, валяйте, коверкайте как угодно». Ее ограбили, обескровили, выхолостили, извратили, изуродовали, но органически присущая ей неистребимая внутренняя динамика устояла вопреки трусливым мерам предосторожности и сохраняет всю свою силу и по сей день[160].
Сила эта присуща не только «Разбойникам». Я видел «Коварство и любовь» в Мюнхене после первой мировой войны. Баварская советская республика только что пала, — и, несмотря на посредственную игру, несмотря на ультрабуржуазную, ультраретроградно настроенную публику, зрительный зал оказался во власти революционного порыва. Публика стала публикой Шиллера, как то бывало всегда и везде, где бы и когда бы ни ставились его драмы. Ведь «Коварство и любовь» уже третий из его трех могучих первенцев. Ему предшествовал «Фиеско» — трагедия умело замаскированного честолюбия, чей герой уже упоминался в трактате юного академика о связи между духовной и животной природой человека. Здесь нетрудно заметить то переплетение, скрещивание идей и замыслов, которое иногда наблюдается в творчестве писателя: «Фиеско» столь непосредственно примыкает к «Разбойникам», что, несомненно, во время работы над первой драмой идея
561
второй уже занимала мысли автора. Драма «Коварство и любовь», правда, была начата уже после его бегства, но замысел ее возник еще в Штутгарте — на гауптвахте, где автор по приказу герцога отбывал наказание за самовольную отлучку в Мангейм, на второе представление «Разбойников», что глубоко возмутило поэта, — благоприятнейшее настроение для придумывания пьесы, бичующей интриги, пороки, засилье фавориток при типичном дворе восемнадцатого столетия. В Бауэрбахе, будучи гостем своей покровительницы госпожи фон Вольцоген, он усердно работает над этой драмой, хотя «Заговор Фиеско» далеко не закончен. Но опять-таки, все на той же гауптвахте в Штутгарте, он сообщает в письмах, что темой его очередной драмы будет «Дон Карлос, инфант испанский». В 1783 гаду, двадцати четырех лет, в Бауэрбахе принимается он за нее и ради этой работы оставляет на время замысел «Марии Стюарт», с которым ведь уже давно начал заигрывать, но осуществил только пятнадцать лет спустя, после того как одолел «Валленштейна»[161]: Взялся[162] он за «Дон Карлоса» в марте, но уже в апреле отложил работу над ним, потому что «Коварство и любовь» не закончена, как не закончен был «Заговор Фиеско», когда он стал писать «мещанскую трагедию» о Луизе Миллер. Только летом следующего года он может возвратиться ко двору Филиппа II, и как, должно быть, ему приятно было после суматошного крикливого Миллера, начать словами:
Да, золотые дни в Арянжуесе
Пришли к. концу. Ужели мы напрасно
Гостили здесь, мой августейший принц?
Оглядываясь на Дон Карлоса двадцать лет спустя, он писал в предисловии к «Мессинской невесте»: «Применение метрической речи — большой шаг, приближающий нас к поэтической трагедии». Но еще задолго до этого, сразу же после трех первых блистательных опытов, где необузданная риторика выражалась свободной прозой, он писал: «Совершенная драма, — как говорит Виланд, — должна быть написана стихами, иначе она [163]несовершенна и не может,
562
соперничая с заграницей, поддержать честь нации…[164] Так как я убедился в истине этих слов, я своего Карлоса набросал в ямбах». Набросал же он первоначально всего лишь семейный портрет королевской фамилии. Но его политический пульс, который бьется в унисон с драматургическим, подсказывает поэту, что картину надо обогатить контрастом, противопоставить надменному презрению к людям благородные идеи, идеи свободы и счастья народов, которые делают стих полнокровным и звучным, сообщают ему не только ораторский пафос, но зачастую и неповторимо задушевные нотки:
Скажите принцу, чтоб и зрелым мужем
Былым мечтам он оставался верен,
Чтоб остерегся гнилостного червя —
Не допустил хваленый высший разум
Проникнуть в сердце божьего цветка;
Чтоб оставался тверд, когда хулою
Обрушится ветшающая мудрость
На вдохновенье — дар высокий неба.
Я это говорил ему…[165]
Что может быть прекрасней, благородней, великодушней?
Нет, это не только мастер риторики и «трубач прописной морали», а поэт, умеющий растрогать до слез и вместе с тем зажечь сердца гневом на все бесчеловечное и злое. Со всей отчетливостью говорит он о том, что его цель «отомстить моим изображением инквизиции за поруганное человечество, пригвоздить к позорному столбу их гнусные деяния… Я хочу, чтобы нож трагедии вонзился в самое сердце этой людской породы, которую он до сих пор лишь слегка поцарапал». И не странно ли, что в это самое время великий либерал уже тайно вынашивал в душе своей образ прекрасной грешницы католички Марии Стюарт и устами Мортимера готовился воспеть все обольщения ее чувственной религии?
«Дон Карлос!» — Могу ли я забыть первые восторги, страстное увлечение поэтической речью, вспыхнувшее во мне, пятнадцатилетнем подростке, при первом знакомстве с этой изумительной поэмой![166] Шиллер создал ее в очень выигрышный момент своей творческой биографии, на пороге зрелости, мастерства, и
663
в совокупности его произведений она занимает приблизительно то же место, знаменует ту же ступень, что в творчестве Вагнера «Лоэнгрин»[167], любовь к которому я по сходным причинам сохранил по сей день. Еще слышны отзвуки юношеской бури и натиска в «Карлосе», и впоследствии его стих уже не будет щеголять расплывчатыми метафорами:
С трудом ползет мой омраченный разум
Сквозь лабиринт софизмов,
Все к той же страшной бездне неизменно возвращаясь.
Но какое изящество, какая плавность, придворная гибкость, какое разнообразие, горделивое достоинство и ударная сила ямба в этой драме двадцатипятилетнего поэта! Он уже умеет придать своему стиху наряду с высокой патетикой поразительно естественное разговорное звучанье, как, например, в сцене, где Позу зовут к королю:
Меня? Он звал меня? Да быть не может!
Вы именем ошиблись. Для чего
Ему я нужен?
И этим же ямбом он излагает сжатое в четыре строки свое поэтическое кредо, которому оставался верен всю жизнь.
Для разума лишь правда существует,
Для трепетного сердца — красота.
И никакой трусливый предрассудок
Не отвратит меня от этой веры.
Он виртуозно разбивает ритм стиха на составные части, делит его на пять, на шесть голосов, как в сцене перед королевским кабинетом, — которой я уже давно отдал дань восхищения, — когда Филипп теряет «человека», о котором молил провиденье:
— Граф, что случилось? Вы
бледны как смерть!
— Тут сатана вмешался!
— Что с монархом?
— Что? Сатана?
— Король заплакал, гранды!
— Король заплакал?
— Наш король заплакал?
564
А из кабинета выбегает Альба, глаза его, горят — он обнимает священника:
Пускай «Tedeum»
Гремит во всех церквах! Мы победили!
Вагнер дабы отдалиться от постановочной оперы, на которой он был воспитан, всегда осуждал театральные эффекты. Но щедрый гений Шиллера умел возвращать театральности ее девственную свежесть, наделяя ее столь благородной чистотой, что мы, забыв о критике и снисходительной усмешке, готовы преклонить колени.
Язык Шиллера… Это требует особого разбора и пристального изучения — начиная с его отточенных концовок, таких как: «Что же, бедному человеку они пригодятся», «Вам, князю Пикколомини», «Лорд просит простить его — во Францию он отбыл», схожих между собой и столь для Шиллера характерных. Он изобрел для себя свою собственную, неповторимую сценическую речь, которую безошибочно узнаешь по интонации, по ритму и звучанью, речь самую блестящую, самую патетическую из когда-либо созданных в немецкой, а быть может, и мировой, литературе, — своеобразная смесь раздумий и душевных порывов, до такой степени насыщенная драматизмом, что после Шиллера трудно говорить со сцены не подражая ему. Эпигоны делали это довольно посредственно. Истинному преемнику требуется подлинное почитанье. Ибсен глубоко чтил Шиллера, и его опоэтизированный интеллектуализм, так же как и нравоучительный гротеск Ведекинда, несравненно ближе к шиллеровской драматургии, чем Вильденбрух и прочие. Язык Шиллера, кроме всего, примечателен еще своей мудреной замысловатостью, особенно в юношеских драмах, и поэтому следить за действием можно только ни на минуту не ослабляя вниманья. Современная Шиллеру публика находила «Фиеско» слишком «ученой» пьесой. Это — неточно выраженное определение[168]
565
высоко интеллектуальной литературной речи, ранее не известной театру. Как говорят его действующие лица уже в «Разбойниках», где ведь не один только философствующий злодей Франц человек образованный! Всех шиллеровских героев отличает затейливая велеречивость — кроткую Луизу не меньше, чем Фиеско, Веррину и Карла Моора; подчас она свойственна даже простоватому немцу — музыканту Миллеру; тем более удивительно, что столь многое из словаря Шиллера стало достоянием народа, не говоря уже о том, как прочно он вошел в язык образованных слоев, где сохранился до сих пор независимо от каких-либо влияний классической литературы, — правда, преимущественно в виде цитат из стихотворных драм, ибо в стихотворную форму легче укладываются сентенции, а шиллеровский стих особенно сильно тяготеет к сентенциозности — слишком сильно, по мнению многих[169]. Взять хотя бы наставительные изречения, над которыми охотно посмеиваются и которые, на мой взгляд, в данном случае не заслуживают насмешки. Пусть слова: «Хороший человек в последнюю очередь думает о себе» — звучат ходульно, — ведь за ними действительно стоит человек, который на самом деле всегда думал о себе и о своем благополучии в последнюю очередь, и весь отдавался творческому труду во имя человечества и высоких идеалов. «Жизнь не высшее из наших благ» — это было уже сказано в «Марии Стюарт» еще энергичней, презрительней: «Для труса жизнь — единственное счастье». Вообще же говоря, виртуозная сила, с какой он подчиняет себе ямбический стих, музыкальность и блеск, которым он его наделяет, ни с чем не сравнимы. Он пользуется им с суверенной[170] независимостью; не колеблясь прибавляет к пятой стопе шестую или наполовину укорачивает строку или нарушает метрический размер, как в плаче Теклы о погибшем Максе:
И вот судьба с жестокостью своей
Берет его и в пышном жизни цвете
Его бросает под копыта коней…
566
Ломаный ритм делает этот стих чрезвычайно ярким и выразительным. Знаменитая реплика Талбота: «Против глупости бессильны даже боги» — откровенно начинается с анапеста. Встречаются и резкие прозаизмы, которые также усиливают впечатление и эффектно оттеняют общую приподнятость тона, как, например, слова Валленштейна: «Еще ничто не решено, и лучше от этого мне вовсе отказаться». Или: «Дать Прагу! Я, пожалуй, вам Эгру дам, но Прагу — нет, нельзя!» Или слова Макса Пикколомини: «Не может быть! Не может быть! Нет, нет! Ты видишь сам, что это невозможно!» Или призыв к нему Октавио: «Макс, поезжай со мной, так лучше будет». Или Валленштейна к Максу: «Макс! Ты не можешь меня покинуть! Не хочу я верить, что Макс меня покинуть может». Как просто и трогательно это звучит!
Не случайно эти примеры взяты из «Валленштейна». Этот исполинский труд, который причинил ему больше художнических забот и потребовал более длительных напряженных усилий, чем все остальное его творчество — ибо необъятный материал, положенный в основу его, едва поддавался организации и поэтическому оформлению — отличается от всего созданного Шиллером своей особой манерой: по общему тону «Валленштейн» звучит горделиво и возвышенно, но патетику здесь сменил высокохудожественный реализм — плод того сочетания трезвой объективности и поэтического вдохновения, о котором он пишет в своих письмах, определяя свое отношение к замыслу драмы. «Материал настолько чужд мне,— говорит он, — что я не могу питать к нему никакой склонности; он оставляет меня почти холодным и равнодушным… в особенности главного героя я создаю только с чистой любовью художника… На том пути, который я теперь избрал, может легко случиться, что мой «Валленштейн» будет сильно отличаться от моих прежних драм некоторой сухостью манеры. По крайней мере мне теперь приходится
567
бояться только преувеличенной трезвости, а не избытка страсти, как некогда».
Только здесь шиллеровский стих снисходит до нарочитой корявости и говорит языком простонародья и слуг:
Там спрашивают кубок золотой…
Наверно, тот, что мастер Вильгельм сделал
Ко дню, когда был коронован Фридрих…
Да, да! Его хотят пустить по кругу…
Кубок тяжелый и работы преотменной, «хитро фигурами украшен», и, объясняя их друг другу, действующие лица попутно припоминают ход истории. «Ах, дайте-ка поближе рассмотреть!» Вот дева на коне; копытами он попирает посох, епископские митры топчет; у девы трость, на трость надета шляпа[171], и рядом знамя с чашею на нем. Что это значит? В шляпе воплощены Богемии права на вольное избранье королей. Ибо
Того, кто шляпу вынужден снимать
Пред императором иль королем,
Не назовешь свободным человеком.
А чаша?
В ней
Воплощена свобода чешской церкви, —
У чехов церковь некогда была
Отдельной. Наши прадеды-гуситы —
Оружием завоевали право
У пап на причащение из чаши
Для всех мирян, — им пользовались прежде
Священники одни. Для утраквистов
Всех благ других превыше это право, —
Они его своей добыли кровью.
А свиток над ней — то грамота о вольности отчизны.
Сей
драгоценный вырван маестат;
Он подтверждает право новой церкви
На звон свободный и на песнопенья.
Правда, этому пришел конец, и после Пражской битвы, когда наш чешский трон утратил Фридрих, мы кафедры и алтаря лишились, а пергамент Фердинанд собственноручно изрезал.
568
Так оно и было, так оно и есть, слуги хорошо это знают, а на другом щитке они видят Пражский замок: вот головами вниз летят из окон наместники Мартиниц и Славата, и здесь же виновник этой сцены, граф Турн. В тот день…
Ни слова мне о двадцать третьем мая!
То было в восемнадцатом году
Столетия, в котором мы живем,
Но в памяти все живо так, как если б
Беда стряслась лишь нынче над страной.
А между тем уже шестнадцать лет
Земля не знает мира и покоя…
Так говорится в «Пикколомини», в том месте, где исторические реминисценции легко входили в ход действия, и эта досужая болтовня старика кравчего отдаленно напоминает разговоры Норн между собой и беседу карлика Миме с путником в «Кольце Нибелунга» Вагнера — отличные сцены и сами по себе, но долженствующие, кроме того, ознакомить зрителя с многочисленными предпосылками драматического действия — здесь мифологическими, там историческими. И вообще не трудно усмотреть известное сходство в том, как создавались оба эти театральных колосса. По первоначальному замыслу в обоих случаях предполагалась одна драма: «Смерть Зигфрида» и «Валленштейнцы», и обеим суждена была разбивка на несколько спектаклей; тетралогия, так же как и трилогия, возникла из полной невозможности уложить весь материал в один спектакль более или менее приемлемой длины. Решению Шиллера разбить «Валленштейна» на три отдельные драмы — собственно, на две с прологом — предшествовали многочисленные долгие совещания с Гете; мы можем только поздравить поэта с тем, что, поддержанный своим великим другом, он провел драматическое действие через десять актов, обретя таким образом спасительную свободу движений, а что касается самого пролога — «Лагеря Валленштейна», впервые поставленного на сцене Веймарского театра, вновь открывшегося в октябре 1798 года, то он явился величайшим творческим успехом.
569
Было два момента, которые особенно часто приковывали к себе озабоченный взор драматурга при обработке этого неподатливого материала: во-первых, трудность, а вернее, невозможность заставить зрителя увидеть или хотя бы представить себе армию, то есть основу, на которой зиждется честолюбивый замысел «Валленштейна»; во-вторых, пригоден ли для художественного воплощения главный герой, человек могучей воли и огромного обаяния, но вместе с тем двуликий, загадочный, странно сотканный из добра и зла, не решающийся действовать и увлеченный в пропасть игрой собственного воображения, фаталист, который, говоря словами Шиллера, «отнюдь не благороден и не может быть таковым, — его возможно представить только страшным, но ни в коем случае не истинно величественным».
Итак, первая проблема была решена при помощи выделения в особый спектакль картины Пильзенского лагеря, и Шиллер получил возможность то, что незримо шумело бы только за сценой, — разношерстное, дерзкое, питающееся туком земли войско Валленштейна, слепо преданное ему, его созданье и орудье, гроза крестьян, гроза императора — показать зрителю в живых образах. Он гениально воспользовался этой возможностью, найдя для пролога такую изумительно гибкую, прихотливую форму, какой трудно было ожидать от поэта столь сурового склада ума. Никогда из-под его пера не выходило ничего похожего на эти написанные — просто не верится! — ломаным стихом, виртуозно легкие, игривые сцены, в которых необычайно ярко раскрывается историческая обстановка, словно невзначай вспыхивают огоньки, освещающие эпоху, и где каждое слово характерно, за каждым образом во весь рост встает целое. Разумеется, театральные подмостки не могли вместить целое в его необъятности, и если вся трилогия подчинена требованию уплотненного времени и суженного числа действующих лиц, то здесь, в прологе, нужна была особенно экономная символика. Несколько колоритных фигур: солдаты разных полков, чьи начальники появятся в
570
последующих драмах, — вахмистр и трубач из полка графа Терцки, бутлеровские драгуны, хорваты Изолани и кирасиры Паппенгейма, аркебузиры, уланы и хольковские егери; разбитная маркитантка, которая ко всем обращается: «Господа!» — и бесплатно потчует вином, когда пьют за здоровье молодого командира паппенгеймцев, Макса Пикколомини; учитель солдатской школы и его питомцы, да еще капуцин, который ко всеобщей потехе разражается сочной проповедью в духе Абраама Санта Клара, призывая буйную солдатню к покаянию, — все это болтает, спорит, ссорится, задирает друг друга, того и гляди полезет в драку, — но драматургу удалось показать за этими фигурами, действующими на сцене, огромное фридландское войско, пестрое скопище беспечных дармоедов, сбежавшихся отовсюду, но крепко спаянных единой могучей волей, гордых сознанием своего единства, беспрекословно повинующихся своему свято чтимому полководцу; и не только это, нет, — он дал почувствовать все бедствия нескончаемой войны, запах пожарищ и оргий, бесшабашное распутство солдатской вольницы, и таким образом создал — не без некоторого исторического цинизма — многоцветно-дымный фон для человеческой трагедии, которой «Лагерь Валленштейна» служит прелюдией.
Нельзя согласиться с Тиком, который в своей достаточно противоречивой критике «Валленштейна» — кстати, он путает Сэни и Сезина — утверждает, будто пролог не связан с действием драмы, а всего лишь описанье любого военного лагеря и царящего в нем настроения. Как бы не так! Ведь там, на уровне солдатской массы, языком солдат и под их углом зрения уже даны все составные элементы будущего и уже начавшегося драматического действия, на него указывает каждое слово: двусмысленное отношение войска и его полководца к императору, который не доверил ему армию, а получил ее из его рук на таких условиях, что создатель ее становился безусловным властелином и повелителем этих полчищ.
Служба не чином ему дорога.
Он императору — не слуга.
571
И было бы только двенадцать тысяч под его началом, — так решили в Вене. Однако:
Ваше
величество! Не прокормлю!
Не
двенадцать тысяч давайте, а шестьдесят,
И
сытым будет каждый солдат!
Это — изобретенье эпохи, изобретенье войны, которая сама себя кормит; и^войско знает: «Мы вместе — громадная сила»; если его разделить, уменьшить, ослабить, — все к черту, достоинство, страх, почет, и мужичье опять начнет петушиться.
Писцы из Вены запросят отчет
О харчах, фураже и квартирном расходе.
В общем — крышка былой свободе.
Да неровен[172]
час, возьмут еще у нас полководца, которого дворцовая знать сожрать готова, —
тут все полетит к свиньям!
Плевать ей, голодны мы или сыты.
Кто нам опора тогда и защита?
Потому все так злобятся на старый парик из Вены — со вчерашнего вечера он бродит по лагерю; поговаривают, что он привез всемогущему Фридландцу, чей приказ только в силе здесь, приказы такого рода, что восемь конных полков должны быть отправлены во Фландрию для укрепления испанского войска, которое готовится через Германию вступить в Нидерланды. Это подвох. Испанские солдаты в Германии, неподвластные полководцу!
Ага, смекаешь, брат? Нет нам веры,
Фридландца страшатся они сверх меры…
Они солдат загубить готовы,
Властвовать всеми не терпится им,
А мы у них на пути стоим…
Правильно, по миру все пойдем.
Многие здешние генералы
Для шику, для важности пущей подчас
Платят войскам из собственных касс.
Ну, и растратились не по средствам,
Думали, враг одарит их наследством.
Конечно, все их добро пропадет,
Если глава, если герцог падет.
572
Этот лубочный раек прямо перекликается — чего не хочет замечать Тик — с ямбическим стихом в той сцене из «Пикколомини», где Валленштейн ко всеобщему испугу лицемерно объявляет о своем уходе с поста.
Но, правда, жаль мне наших командиров,
Не знаю, кто. вернет им их затраты
И кто за службу их вознаградит…
И точно так же клятву нерушимой верности Фридландцу, которую в «Пикколомини» сочиняют Илло и Терцки, предваряет решение, принятое в «Лагере Валленштейна» простыми солдатами:
Что мы хотим оставаться вместе,
Что ни силой, ни хитростью и ни лестью
От герцога нас не отнять никогда, —
Потому как он солдату отец.
Кумир солдатской массы еще не появляется здесь, но над «Лагерем» уже встает его исполинская тень, овеянная фаустовским демонизмом, ибо солдаты с дет- ским суеверием взирают на своего вождя, — ведь «странные вещи бывают на свете» и «не все тут гладко».
Есть такой достоверный слух,
Что у герцога странно устроен слух:
Не может слышать, как кошка мяучит,
А крик петуха его просто мучит.
В этом их полководец, кстати, на льва похож:
Малейший скрип — ему в сердце нож.
Любому строжайше шуметь запрещает, —
Уж больно он важные вещи решает.
Все они уверены, что любой, кто служит в герцогской части, живет под охраной «волшебной власти», но так как они при этом благоденствуют, то их мало смущает сомнительная природа этой власти.
А я вот встал под фридландское знамя
И знаю заранее: удача с нами!
Да как же иначе, коли он маг!..
Понятно! Отдался он черту в руки,
Поэтому мы и живем без скуки!
573
За его счет, так сказать; ибо с них, маленьких людей, бог не взыщет за то, что их военачальник неуяавим, как ясно показало «Люценское дело». Это его печаль. Лосиный колет, конечно, ни при чем, вернее всего тут действует сатанинская мазь — зелье и приворот, поэтому смерть его не берет. Он даже дерзко гадает по звездам о будущем, хотя, быть может, вовсе не в звездах суть: сквозь закрытые двери порою ночной приходит к нему старичок в покрывале, и тотчас творятся большие дела у нас.
Вполне понятно, что тот, о ком так по-народному простодушно и весело, хотя и не без страха, болтают солдаты, ничего не имеет против ауры таинственности и жути, которой он окружен в глазах своих подчиненных. Он сам для себя загадка, и он, конечно, не прочь — что вполне в его натуре — сознательно использовать это двойственное отношение к самому себе таким образом, чтобы и другие, чтобы все видели его озаренным колеблющимся светом непостижимой тайны .и могли бы сказать словами его свойственника, графа Терцки:
Как иногда в нем трудно разобраться!
Это ему нравится и, напротив, вовсе не нравится, когда кто-нибудь хочет прочесть его сокровенные мысли, или — что еще хуже — воображает, что ему это удалось. Когда Терцки говорит:
Ведь все твои сношения с врагом
Ты так повел, что оправдать их можешь
Намерением, достойным одобренья:
Обманывать врага… —
он тотчас замыкается в надменной неприступности и ледяным тоном отвечает:
А если я и впрямь решил врага
Обманывать? И не его лишь — всех вас
Обманывать? Ты так во мне уверен?
А я тебе еще не поверял
Всех тайн моих…
574
В этом весь Валленштейн. Он все тот же двадцати- летний юноша, о котором рассказывает Гордон:
Как муж созрелый, тих и молчалив
Меж нами был, с самим собой в беседе,
Чужд наших игор детских. Но минуты
Восторженности странной находили
Внезапно на него, и вырывался
Из глубины таинственной души
Могучей мысли луч, — и мы дивились
Его словам, не зная, было ль это
Безумья речь иль божье вдохновенье.
Я верю в гениально схваченное сходство шиллеровского портрета и не верю тем, кто объявляет, что «настоящий» Валленштейн был другой. Историческая и психологическая интуиция здесь прозорливо и смело опередила плетущееся в хвосте изучение источников, которое в конечном счете может только подтвердить ее открытие. Настоящему Валленштейну гороскоп составил Кеплер, видевший ключ к его грядущей судьбе в сочетании Сатурна с Юпитером в первом астрологическом доме — Доме жизни. Это сочетание двух стихий: сатурнской и юпитерской — и породило вдохновенный замысел, и Шиллер создал убедительнейший, вполне реалистический образ — один из самых противоречивых, какие знает история театра. Это не герой, которым можно восхищаться, которого можно любить, чья финальная гибель может вызвать слезы у зрителя. Нет ни на йоту чувствительности в обрисовке образа: только правда — интригующая, многогранная, поражающая правда; и редко ощущаешь с такой силой, что задача, которую ставил себе один историк: показать, «как было в дей- ствительности», по крайней мере в том, что касается сокровенно человеческого, все же предначертана поэту[173].
Сатурн: это мрачная меланхолия, это темные, втайне созревающие мысли, высокомерное пренебрежение к человеческой морали, скептическое безразличие в вопросах религии («Возможно, и в бога не верует тот»), необъяснимые душевные порывы, жестокость, внезапные и пугающие смены настроений,
575
мечтательность, честолюбие и властолюбие, буйное воображение и неустрашимость лунатика.
Обыкновенного нет ничего
В пути, мне предназначенном судьбою,
Ни в линиях моей руки. Мой жребий
Кто по людским определит догадкам?
Внечеловеческое в нем пугает; но то, что привнесено Юпитером в сатурнский демонизм, — истинно царственное величие истинного властителя, внушает не только страх, а и веру, и почтение, и преданность, ибо в конечном счете он борется за добро, за разум, за благо людей, борется за мирную жизнь для всех, — пусть это и для него мирное обладанье могуществом и властью. Он великий полководец и, хотя рожден протестантом, своими сокрушительными победами много способствовал укреплению в Европе власти императора и католической церкви. Но он ведет войну не ради войны, и если при помощи дипломатии и славы непобедимых, которую стяжали несметные полчища, привлеченные одним его именем, ему удается избежать кровопролития, он уклоняется от боя. Безусловно прав Макс Пикколомини, говоря про герцога, что
…благом всей Европы
Он озабочен, а не тем, чем вы, —
Вам только б земли Австрии умножить! —
и что его называют чуть ли не предателем лишь от- того, что он щадит саксонцев, доверья добиваясь у врага, в доверии дорогу видя к миру! Валленштейн не лицемерит, когда, стремясь расположить к себе паппенгеймцев, обвиняет Австрию в том, что она не хочет мира, — потому-то он и должен пасть, что он хочет мира.
О всеобщем благе
Лишь думаю. Ведь я не бессердечен:
Народа нашего беду и горе
Мне больно видеть…
Пятнадцать лет уже война пылает
Без устали и все нейдет к концу.
Папист и лютеранин, швед и немец —
576
Одни против других; раздоры всюду,
И нет суда. Как тут найти исход?
Как узел возрастающий распутать?
Нет! Надо смело разрубить его.
Я чувствую, что призван я судьбою
На подвиг этот и с пособьем вашим
Его вполне надеюсь совершить.
Он не лицемерит, когда тут же — как он часто это делает — подчеркивает юпитерское начало своей натуры с определенной сатурнской целью: ибо он хочет завербовать паппенгеймцев для обмана, для измены и отступничества, к которому готовится. И то, и другое — истинно. Ранке отмечает, что уже ранее, во время оккупации Нижней Саксонии, сочетание железной военной дисциплины и заботы об экономике края наложило своеобразный отпечаток на его правленье — он правил как суверенный глава независимого княжества. Это в точности совпадает со словами шиллеровского Валленштейна:
Пусть чтут во мне защитника страны,
Имперским князем назовут, чтоб был я
В достоинстве князьям имперским равен.
Но когда он, в юности дворянчик простой, а теперь носитель звания князя и герцога, протягивает руку к богемскому королевскому венцу, то весьма сомнительно, чтобы его безмерное честолюбие, подкрепленное тайной верой в благосклонное участие звезд в его судьбе, этим удовлетворилось. Недаром солдаты его лагеря намекают на большее. «За императором он второй», — говорит вахмистр.
И кем еще станет? (Лукаво.) А впрочем, нечего
Загадывать утром, что будет вечером!
Поскольку тот, кто обладал Богемией, имел право на избранье его императором, ясно, что эти слова не на ветер сказаны.
Великолепно проявляется юпитерский дух, присущий ему от рождения, но против которого волей-неволей восстает владеющая им сатурнская стихия, в полном глубоких мыслей монологе перед свиданьем
577
со шведским полковником, где он с предельной зоркостью оценивает задуманное им страшное дело.
И что ж предпринимаешь ты? Признался ль
Ты в этом честно самому себе?
Власть потрясти спокойную ты хочешь,
Упроченную обладаньем древним,
Могуществом привычки вековой,
В понятье детско-набожном народов
Глубоко вкоренившуюся власть.
«Делают лета, — размышляет он, — все на земле законным и заветным». Что поседело, то человеку свято, и беда тому, кто давнего его добра коснется, наследства предков!
Никогда еще титан духа не размышлял о дерзновенности своих намерений с таким пониманием мощи и блага существующего. И никогда еще предатель не говорил так ясно и убежденно о том, что любому человеческому обществу необходимы преданность и вера, как шиллеровский Валленштейн:
Говорю я вам:
Вступается за верность человек,
Как друг за друга кровного; рожден он
Ее защитником.
Все, что свирепую между собой ведет борьбу, пусть мирится, пусть стихнет ярость, чтобы вместе идти на общего врага людского, на злую тварь — неверность, которую нельзя терпеть, нельзя щадить, ибо она враждебна самой жизни. Так он говорит, так мыслит — и он же, убедив выскочку Бутлера обратиться к венскому правительству с просьбой о вожделенном графском титуле, притворяется будто поддерживает ходатайство «с усердьем друга» а на самом деле чернит его перед министром и советует наказать зазнавшегося старика оскорбительным отказом, — и все это ради того, чтобы вызвать лютую ненависть влиятельного в армии генерала к австрийскому императорскому дому и накрепко привязать его к себе и своим планам. А Макс Пикколомини? Он любит этого юношу, любит, как отец, нежнее, чем отец. Он называет его утренней звездой, которая предвещает солнце
578
жизни. Потрясает мольба всеми покинутого: «Макс! От меня не уходи! Останься со мною,Макс!» А когда по его вине благородный юноша, не в силах пожертвовать ни любовью, ни честью, гибнет, увидев единственный выход в добровольной смерти, — с уст Валленштейна срываются незабываемые слова, по лирической красоте своей не сравнимые со слишком отвлеченной жалобой Теклы: «Таков удел прекрасного на свете!»
Стоял он близ меня,
Как молодость моя. В блестящий сон
Действительность при нем мне превращалась,
На грубый мир, вещественный ложился
Златистый утра пар.
И при этом почти нет сомнения, что он его обманывает, пользуется им как орудием своей политики ничуть не меньше, чем каким-нибудь Бутлером. Он посылает его в качестве начальника эскорта за женой и дочерью, которые должны прибыть в Пильзен. Он делает ставку на прекрасные глаза Теклы и на юную впечатлительность Макса. Туманными обещаниями он возбуждает в нем надежду на руку своей дочери, хотя отнюдь не намерен выдать Теклу за него, а метит гораздо выше. Текла чувствует это, знает, что дело обстоит именно так. «Не верь, у них другое на уме», — говорит она возлюбленному[174]. «Верь тут мне одной. Иная цель у них. Верь, что наше счастье и наш союз их вовсе не заботит». «У них» — это значит у отца, которого она знает один лишь день, но уже знает хорошо. Когда Макс восторженно и убежденно говорит о своем полководце-Юпитере: «Он благороден, прям, нелицемерен, правдив и добр»,— она отвечает: «Но это ты!»
Такая сатурнская политика по отношению к любимому другу, столь характерная для двойственной натуры этого полководца-звездочета, проводится Валленштейном с целью заставить Макса наперекор его благородной честности изменить императору; и не ему бы удивляться, что он сам становится жертвой «государственной мудрости», проявленной консерватором Октавио Пикколомини, его противником в по-
579
литической игре, к которому он питает мистическое чувство доверия[175]. Это пристрастье шиллеровского героя к обоим итальянцам, отцу и сыну, постоянно вызывающее недовольство приближенных, — характерная черта исторического Валленштейна, который по воспитанию и складу ума был человек итало-европейской культуры, свободный от узконациональных предрассудков и либерально-равнодушный к различиям вероисповеданий. Папист ли, протестант ли — в его разномастном войске ни происхождение, ни религия не играли роли, — людей ценили за хорошую службу, за безоговорочную приверженность своему полководцу; ничто иное не требовалось, — своеобразное прагматическое свободомыслие, явно противоречащее его тяге к мистике и слепой вере в пророчества звезд. На этой слепой вере и зиждется его странное отношение к Октавио, что само по себе составляет трагедию, так же как взаимоотношения отца и сына, как и третья, психологически самая глубокая драма Валленштейна и Макса, — на слепой вере, которую не могут пошатнуть никакие советы поостеречься «итальянской лисицы», в преданность старого товарища по оружию, на твердом убеждении, что он последует за ним вплоть до открытой измены императору, хотя почти невозможно себе представить, как мог он не заметить, что Октавио остается при нем для того только чтобы следить за ним, дать ему совершить предательство, дождаться последних улик и затем предать его.
Шиллер строго-настрого запретил себе видеть в Октавио Пикколомини мерзавца, и он в самом деле отнюдь не мерзавец. Это всего лишь умный и осторожный, свято чтущий закон и порядок дипломат, который, натолкнувшись на опасного противника, сильного своим обаяньем и дерзостью, проявляет не только вероломство, но и немалое сознательное мужество[176]. Этот персонаж трагедии обрисован Шиллером не менее реалистично, чем главный ее герой, — поэт наделил Октавио той же психологической двуликостью, противоречивостью — как бы двойным набором душевных ценностей, в конечном счете обесце-
580
нивающим личность — что и Валленштейна. Но эта двусмысленность, эта смесь благородства и фальши — если не с моральной, то с эстетической точки зрения — в Октавио коробит сильнее, чем в Валленштейне, и коварство, с каким он злоупотребляет его слепым, самому Октавио непонятным доверием, вызывает тягостное чувство.
Я снискал
Доверие его отнюдь не лестью,
Не лицемерьем вкрадчивым, не ложью,
Я не играл заученную роль.
Рассудок мой и долг пред государем
И перед всей империей велят мне
Мой образ мыслей от него скрывать,
Но до сих пор гнушался я обманом!
Однако, спрашивается, в чем же разница, где пролегает грань между сокрытием образа мыслей и обманом? Мы согласны с Максом Пикколомини, когда он восклицает:
Будь проклята политика такая!
Вы ею лишь толкаете его
На новый шаг, какого б он не сделал,
Когда б на нем вины вы не искали.
И когда свершилось страшное дело — убийство цезаря, чего Октавио не хотел, но к чему привела его политика, и он в награду за это получает княжеский титул, то его «горестно поднятый к небу взор» едва ли может вызвать большее сочувствие, чем Елизавета после казни Марии. Как и она, он остается один — выслужившийся ревнитель законности.
Сколько трагизма в этой трилогии, вмещающей и сокровенный внутренний мир героев, и широкую картину исторической эпохи! Тик сожалел о том, что Шиллер выбрал для своего замысла именно образ Валленштейна и его судьбу, вместо того чтобы, как истый отечественный Шекспир, сделать самое Тридцатилетнюю войну предметом серии драматических произведений[177]. На самом же деле в «Валленштейне», в этом труде, стоившем автору неимоверных усилий, воссоздана вся эпоха религиозных войн — пусть лишь в кратких намеках, характерных лозунгах,
581
исторических реминисценциях, — в нем чувствуется европейская широта кругозора, универсальный размах мышления самого Валленштейна и его далеко идущих планов; легко понять, что долгое время огромный материал, над которым трудился поэт, лежал перед ним «бесконечной бесформенной грудой». «Чем больше, — пишет он, — я стараюсь привести в порядок мои мысли о форме драмы, тем громадней представляется мне содержание, которым я должен овладеть, и право же, без некоторой дерзкой веры в себя я едва ли мог бы продолжать». Эта вера довольно часто колеблется, ибо ему недостает «столь многих, даже наиобычнейших средств, при помощи которых можно приблизить к себе жизнь и людей, выйти за пределы своего тесного мирка на более просторную арену». Кто он, стесненный узкими рамками своего бытия, не знающий большого мира, и где орудия, необходимые для того чтобы охватить «столь чуждый мне предмет» как живую, и особенно политическую, жизнь? Но эти «орудия» были: была гениальность, подстегнутая властным творческим стимулом, был его глубоко своеобразный дар политичности и дипломатии; и вот он силою интуиции, словно в трансе, создает великолепную сцену переговоров между Валленштейном и шведским полковником, которая по своему драматизму, по переменчивости игры взаимного недоверия, осторожной расчетливости, вынужденных уступок может служить образцом тонкой дипломатии мирового масштаба.
Этот диалог в «Смерти Валленштейна», банкет в «Пикколомини» и аудиенция, данная Квестенбергу, с виртуозным диалогом:
— Скажи мне, Макс, когда все это было?
Я что-то не припомню.
— Мы в то время
В Силезию отправились в поход.
— Какая ж цель была того похода?
— Изгнать оттуда шведов и саксонцев.
— Ах, так! Я ход войны совсем забыл,
Внимая Квестенбергу. Продолжайте!
582
— эти три чудесные сцены могут быть названы драматургическими столпами всей трилогии, и каждому художнику утешительно видеть, что такая громада, такое многогранное, сложное сооружение, пожалуй, не обязательно должно быть сплошь удачным. Это не нужно, да и невозможно. Немногих блистательных удач, таких, как эти три сцены, отблеск которых озаряет все произведение в целом, достаточно, чтобы поддержать здание, спасти его…
Известно, как благотворна оказалась для этого мощного поэтического труда близость Гете — и в большом, и в малом. Шиллер, общительный и экспансивный, постоянно ищущий подробных обсуждений своей работы, шаг за шагом разбирал свою драму с другом; так, например, именно благодаря Гете глаза и сердце его раскрылись для поэзии звездочетства, которое играло такую большую роль в жизни Валленштейна, а творцу его первоначально говорило очень мало. Не будь того, кто собственное жизнеописание начал с констелляции звезд в час своего рожденья, мы вряд ли узнали бы прелестный разговор между Максом и Теклой об этом волшебном мире:
Так в наши дни приносит нам Юпитер
Величие, Венера ж — красоту…
Какая это радость — сознавать,
Что где-то, в высоте неизмеримой,
Венец любви из искрящихся звезд
Сплетается до нашего рожденья.
Но, конечно, огромные усилия, которых потребовало осуществление замысла, напряженная борьба с встающими перед поэтом трудностями, мучительные колебания и тревоги — все это Шиллер испытал бессонными ночами наедине с самим собой. Словами не выразишь, каких трудов, каких терзаний стоила ему эта драма-монстр, тем более, что, как явствует из его писем, работа над ней протекала с перерывами, и за каждый день творческого подъема, когда вдруг в ослепительной вспышке гениальности озарялось то, что могло бы быть создано, если бы вдохновение всегда и неизменно осеняло поэта, — приходилось платить целой неделей мрака и бессилия. Тягостное
583
время! Как отличить влияние ненастной погоды, переутомления, упадка сил, вызванного постоянным насморком, лихорадкой, мучительными коликами и одышкой, от недочетов самого произведения, которое столь часто казалось ему безнадежным начинанием, злосчастным и обреченным на неудачу делом?
Неудивительно, что он прибегал к возбуждающим средствам — рюмка ликера, шоколад с вином, стакан-другой шампанского и много крепкого кофе — лишь бы подстегнуть себя, найти силы воздать должное своему творению, превозмочь хотя бы ненадолго усталость и даже скуку, неизбежную при столь длительном напряженном труде, — ведь для этого нужно снова и снова черпать энергию, страсть к работе и творческий импульс из запасов нервной силы, из любви к своему делу, из нравственной потребности добиваться совершенства.
Такие вспомогательные средства, несомненно, вредили его здоровью, и Гете говорил, что слабость некоторых мест в произведениях Шиллера — он называл эти места патологическими — объясняется искусственно вызванным возбуждением. Режим гигиены вообще плохо соблюдался Шиллером. Он давно уже приучился нарушать нормальный порядок сна и бодрствования, предпочитал работать ночами, а потом спал до середины дня. Всю жизнь он много курил и сверх того еще нюхал табак, хотя знал лучше своих врачей, не соглашавшихся с ним, что у него чахотка. Вероятно, он столь мало щадил свое здоровье потому, что, по его убеждению, ему и так жить оставалось недолго, и вести разумный образ жизни он считал не только излишним, но и недостойным.
Он освоился с недугом, привык к нему, так или иначе сжился с ним, — большего воздействия на свою душевную веселость и отвагу его гордый ум не дозволял, — а иногда, в точности как Ницше, он даже выражал ему признательность. «И хворость, — писал он в одном письме, — на что-нибудь годится, я многим ей обязан». Утонченным восприятием — да, безусловно; и обостренной чуткостью, и нервным подъемом. Но все же с болью приходится читать и о том, как
584
суровый апрель «отбивает охоту писать и мыслить», как пасмурные ноябрьские дни «усиливают все недуги, так что и работа уже не радует», — работа, которая всё для него, трудолюбивейшего из поэтов! «Самое главное, — пишет он, — это прилежанье, ибо оно дает не только средства к жизни, но и единственно придает ей ценность». Просто не верится, что сразу же после завершения «Валленштейна» он без малейшей передышки снова принимается за старый план «Марии Стюарт», уточняет композицию, организует материал и в течение того года, когда трилогия впервые была поставлена на сцене, заканчивает и этот труд. И тут же он пишет: «Лучше всего я себя чувствую, когда интерес к работе особенно жив во мне. Поэтому я уже собираюсь приступить к новой». То была «Орлеанская дева», материал для которой он почерпнул из «Знаменитых и интересных судебных дел» Питаваля, — опера без музыки, заставляющая вспомнить мысли, высказанные Шиллером в письме к Гете: «Я всегда возлагал известные надежды на оперу, считая, что из нее, как из хоров древнего вакхического празднества, разовьется в облагороженном виде трагедия. В самом деле, в опере не придерживаются такого рабского подражанья природе, и этим путем идеальное, пусть даже под знаком индульгенции, получило бы возможность пробраться на сцену». И оно пробирается на сцену в этой возвышенной, изумительной драме под защитой той индульгенции, какую умеет выпросить у природы только поющая страсть. Шиллер всегда любил в конце действия или сцены зарифмовать свои ямбы[178]; в «Орлеанской деве» он несравненно чаще пользуется рифмой, чем в предыдущих драмах, и белый стих здесь в сущности только фон для поэтической симфонии, где приведены в движенье все ритмы, привлечены все регистры языка, где соседствуют самые разные стихотворные размеры и одна строфика сменяет другую, — тут и триметр, и стансы, и драматический речитатив, и лирическая ария; и вдобавок для услады зренья и слуха показано торжественное шествие в собор, что придает
585
драме пышность оперного спектакля. С начала и до конца господствует атмосфера чуда, вдохновения свыше, вещего знания. Но почему такая сцена как та, в которой плененная закованная Иоанна падает на колени, в исступленной молитве взывает к богу, рвет тяжелые железные цепи, бросается в бой и обращает верное поражение в победу, — почему чудо здесь не воспринимается как насилье над разумом, даже, собственно говоря, не кажется чудом, а только трогает до глубины души, радует своей поэтической щедростью? Здесь действует другое, стилистическое, чудо: уменье — при всей романтичности драмы — сохранить классическую основу. Если «Орлеанская дева» романтическая опера, то все же она классического склада; это феномен классической романтики и романтической классики, — нечто абсолютно единственное в своем роде, обусловленное образом героини и очень понравившееся Гете; своим суждением, что это лучшая вещь Шиллера, он поддержал огромный успех, выпавший на долю «Орлеанской девы».
Но не понравится ли ему еще больше другая драма Шиллера, несравненно менее сценичная,— «Мессинская невеста», к которой тотчас же приступил неутомимый автор? О такого рода трагедии, строго выдержанной в греческом духе à la «Oedipus гех»[179], он мечтал уже в разгаре работы над «Валленштейном», но еще долгие годы он был занят «Марией Стюарт» и «Орлеанской девой». Лишь к началу нового столетия, когда ему уже минуло сорок два года, речь снова зашла о греческой трагедии, об этом труднейшем, но прекрасном опыте с возобновлением античного хора. Этот замысел родился не только из желания достичь совершенства древних авторов — с большим успехом, чем это сделал Гете в «Ифигении», которую Шиллер при вторичном чтении нашел до такой степени современной, что отказывался понять, как ее вообще можно было сравнивать с греческой драмой. Воскрешенье хора имело более глубокие причины. Однажды он написал Гете: «То, как вы перемешиваете раздумья с действием, поистине вызывает за-
586
висть и восхищенье. У вас эти две области полностью разъединены, и именно поэтому и та и другая предстают в такой чистоте… У меня оба вида воздействия смешиваются, что не очень-то на пользу делу». Эти слова невольно приходят на ум, когда читаешь в предисловии к «Мессинской невесте»: «Хор очищает трагическую поэму, отделяя раздумья от действия, и именно благодаря этому отвлечению придает ему поэтическую силу». Таково требование, которое предъявляет к нему его опасный для художественности двойной дар мыслителя и поэта; подчиняясь ему, он делает смелую попытку начисто отделить философию от драматического действия, чтобы тем самым поднять философию на равный с действием поэтический уровень. И нет сомнений, что нигде шиллеровские стихи не достигают такого блеска поэтической мысли, как в хорах «Мессинской невесты».
На первом представлении в Веймаре несколько молодых людей закричали: «Да здравствует Шиллер!» — что было совершенно недопустимо в герцогском театре. Поэт сам, порозовев от досады, громко зашипел на дерзких нарушителей придворного этикета, а зачинщик демонстрации, молодой ученый, получил выговор от полицейских властей. Автор «Разбойников» давно уже остепенился, и в искусстве, и в жизни. Идея свободы по-прежнему осталась лейтмотивом его мышленья и творчества, но в новой драме, задуманной еще шесть лет тому назад, носитель этой легко теряющейся в беспредельности идеи — разумный народ, который борется за нее с мужественной умеренностью и добронравием, что как нельзя лучше показывает, какой большой путь развития прошел автор со времени своих первых шагов, и мы не без юмора отмечаем глубокое различие целей, воодушевлявших его при создании «Разбойников» и «Вильгельма Телля». Теперь он уже не намерен писать книгу, которую «палач, несомненно, должен будет предать огню». Напротив: «И это будет драма, которая послужит к нашей чести». «Сильная вещь,
587
способная потрясти все театры Германии». «Обещаю вам пьесу, которая придется публике по душе» (Иффланду): «Моим Теллем я хочу снова зажечь публику. Она до черта падка на подобные народные темы». Итак — расчет большого размаха, практический взгляд на театр и вкусы публики. Стоит ли говорить, что такая наивная расчетливость сочеталась у Шиллера с чистейшим стремлением к добру, с беззаветной преданностью искусству?
В своей знаменитой (кстати, весьма обидной) критической статье о стихотворениях Бюргера он много и глубоко размышляет над проблемой искусства и народности. Народ, говорит он, понятие неопределенное. Наш мир — уже не гомеровский, где все члены общества по чувствам и помыслам стояли приблизительно на одной ступени. Теперь между избранным меньшинством (элитой) нации и массой замечается громадное расстояние, коренящееся отчасти в том, что умственное просвещение и нравственное облагорожение представляют собою единое целое. «Кроме этого различия в степени культуры, условности приличий делают членов одной нации столь несхожими в чувствах и их выражении». Следовательно, поскольку народ, народность давно уже не представляют собою единого понятия, то народному поэту нашего времени пришлось бы сделать выбор между легчайшим и труднейшим: или исключительно приспособляться к уровню понимания толпы, отказавшись от одобрения образованного круга, или величием своего искусства заполнить огромные расстояния между ними и стремиться к обеим целям совместно. По мнению Шиллера, общедоступность — это не способ облегчить труд поэта или прикрыть посредственность таланта; а новая трудность, «и поистине это задача настолько трудная, что удачное решение ее может быть названо величайшим торжеством гения. Какой подвиг — угодить придирчивому вкусу знатока, не становясь оттого недоступным для толпы, — не жертвуя ни малой долей достоинства искусства, приспособиться к детскому пониманию народа. «Просвещенным, утонченным глашатаем народных чувств»
688
называет он поэта, который облек бы в более чистые и более одухотворенные слова стремительные, ищущие выражения аффекты и тем самым овладел бы ими и облагородил в устах народа его грубые, бесформенные, часто еще животные порывы. «Раз стихотворение выдержало испытанье пред подлинным вкусом и с этим достоинством соединяет еще ясность и понятность, позволяющую ему жить в устах народа, то на нем лежит печать совершенства». Другими словами: «Что нравится избранным, то хорошо; что нравится всем без различья — еще лучше». И неизменно, говоря о стихах для народа, нужно начинать с вопроса: «Не принесена ли здесь в жертву общедоступности какая-либо доля высшей красоты? Эти стихотворенья, выиграв в интересе для народной массы, не потеряли ли интереса для знатока?» «Кроткого, всегда себе равного, всегда ясного, мужественного духа, который, будучи посвящен в таинства прекрасного, благородного и истинного, как воспитатель спускается к народу, но и в теснейшем общении с ним никогда не отрекается от своего небесного происхождения», требует от народного поэта взыскательный критик.
Такой именно дух живет в «Вильгельме Телле». Критику оказалось по плечу то, что он требовал. Он и требовал это, потому что оно было ему по плечу. Его швейцарская драма — чудесное творение, отмеченное благородной простотой и величьем, волнующее и яркое — блестящее театральное зрелище и проникновенная драматическая поэма; он на самом деле совершил то, что почитал «труднейшим»: силой искусства уничтожил культурное неравенство. Наградой ему была любовь непосвященных и восхищение знатоков — высшая степень народности. Эта народность не имеет ничего общего с «двойным видением», которое отвращало Ницше от творчества Вагнера и которое он считал своего рода хитростью. Романтизм всегда тяготел к объединению народности и высокого искусства, но шел он к цели нечистым путем: нарочитая смесь утонченности с инфантилизмом придает всякой романтической народности нездоровый
589
душок. Коренное различье между Шиллером и Вагнером, между воплощенным благородством и умным честолюбием заключается в том, что у Шиллера не найти и намека на снобизм. То, чего он достиг в «Вильгельме Телле» — это классическая народность.
Еще в девяностых годах семнадцатого столетия, когда Шиллер занят был «Валленштейном», его вниманье на швейцарскую тему обратил Гете, который сам одно время намеревался использовать ее для эпического произведения. Потом он отказался от этой мысли, а в начале нового века разнесся слух, что Шиллер работает над драмой о Вильгельме Телле, и крупные театры уже запрашивали его об этом. Идея драмы была ему еще чужда, она не у него возникла, ее внушали ему извне, и, верно, это был интереснейший процесс — как мало-помалу он привыкал к мысли, что должен оправдать возлагаемые на него надежды. Снова настает пора разносторонних занятий и планов: еще не кончена «Мессинская невеста», а он уже заказывает Котта подробные карты Фирвальдштетского озера и окрестных кантонов и оклеивает ими стены своей комнаты, начинает изучать источники — «Историю Швейцарского союза» Иоганнеса Мюллера, старинную хронику Чуди. Удивительное дело — между тем как все мысли, казалось бы, должны быть заняты сложнейшей трагедией с античным хором, — проникаться любовью к предмету, к которому поначалу его не тянет, к которому еще нужно приспособиться, приладиться, потому что, как он неоднократно жалуется, этот «проклятый» материал «весьма непокорен», он требует много труда, то привлекает, то отталкивает, и наконец обрести уверенность, что твое детище потрясет немецкие театры! Прошло немало времени, прежде чем он мог вплотную заняться народной драмой, которой суждено было принести ему наибольшую славу. Ему оставалось два года жизни, когда он взялся за нее, и только один, когда он ее окончил. Ибо, как это ни поразительно, круглым счешм в девять месяцев, с мая по февраль, «Вильгельм Телль» был написан, хотя
590
из «несносной зимы всегда нужно вычесть месяц-полтора недомоганья или нерасположенья». Не только написан, но и «превосходно удался», по мнению Гете, вопреки тому, что лично он, наверно, сделал бы это совсем по-другому; к тому же Гете очень неодобрительно отнесся к духу свободолюбия, которым проникнута драма, а сцену, где появляется Паррицида, впоследствии назвал почти непостижимым промахом, — но и он не мог не изумиться гениальности, с какой использован им же предоставленный Шиллеру материал о стране и настроениях народа. Сам же Шилер никогда не стремился изучать предмет на месте, увидеть все своими глазами. Он не хотел ничего видеть, и в этом не было нужды; ему даже в голову не пришло лично побывать в Швейцарии, что не составило бы большого труда; но в его драме дышит и живет подлинная Швейцария. По вдохновению, из внутреннего ви́дения, которому потребовалась лишь очень небольшая помощь извне, он создал живую картину людей и природы этой страны: свергающиеся с альпийских круч потоки, озера, то улыбчивые на солнце, то внезапно, под напором фена, вскипающие грозными валами; зеленые лужайки, деревни и одинокие усадьбы, огражденные извечными крепостями гор; виднеющиеся сквозь облака острые зубцы Гакена, Шректорн, Юнгфрау, лавины и глетчеры, зоревое сиянье снежных вершин. Швейцария живет в Шиллеровой драме силой таких, словно мимоходом оброненных стихов:
Скала в Гларисе
Обрушилась, и оползень засыпал
Немалое пространство, —
живет в метких и сжатых определениях, таких, как рассказ Армгарды о своем муже:
Бедняк,
Он косит сено на отвесных склонах,
Над грозного подчас повиснув бездетной,
Карабкаясь по скалам, где не может
Пастись привычный к горным кручам скол…
Верно, что люди этой драмы, замкнутые в своем маленьком великолепном мире, — Вальтер Фюрст, и
591
Штауффахер, Мельхталь и участники клятвы на Рютли — идеализированы; но они, безусловно, несомненно швейцарцы — и просто удивительно, как это поэт умеет писать портреты, не видя оригинала. Эти сельские жители скромны, степенны, благоразумны, умеренны и трезвы; они отнюдь не просвещенные революционеры. Они не цитируют «Общественный договор», не прижимают одну руку к сердцу, простерши другую над головой. Они хотят только одного — отстоять против невыносимой тирании завещанные предками права, которые они свято чтут как неотъемлемые от природы своей отчизны, и, сохраняя верность государству, они борются только с произволом дома Габсбургов. Более лояльного заговора, чем заговор на Рютли, не знает история. Однако, хотя эти швейцарцы ничем не напоминают пламенных трибунов и якобинцев, хотя время действия — конец тринадцатого века, все же в «Вильгельме Телле» веет ветер французской революции, от которой Шиллер отрекся, но которая дала жизнь идее единства свободы и нации, и потому, вопреки отвращению к «безумию, что страшней любого зверя», осталась родиной его пафоса. В этой драме, которая была запрещена при Гитлере, есть много такого, что «звучит хорошо не для всех ушей» и что Шиллер снова вынужден был переделывать и смягчать. «Посылаю вам, дорогой друг,— пишет он Иффланду, — измененный текст трех вызвавших сомнения мест. Хоть бы они вас удовлетворили! Иначе я не мог это сделать, не противореча духу всего произведения, ибо при таком сюжете как Вильгельм Телль непременно приходится затрагивать струны, звучащие хорошо не для всех ушей. Если эти места в их теперешней редакции не могут быть произнесены со сцены, то в данном театре вообще нельзя играть «Телля», ибо вся его тенденция, как она ни невинна и лояльна, вызвала бы отпор». Для постановки в берлинском театре ему пришлось пойти на дальнейшие уступки и вычерки, но произошло то же, что некогда с «Разбойниками»: опять победило «вопреки всему» и «делайте что хотите», и «духа вам не приглушить», — втуне остались
592
все усилия сгладить острые углы, и если, по словам автора, «эта драма произвела большее впечатление, чем все предыдущие», то своим неизменным, как говорится, «безотказным» успехом она обязана именно присущему ей ничем не истребимому[180] дыханью свободы.
Но вот что удивительно: в творчестве Шиллера подъем патриотических чувств, идею национальной свободы всегда олицетворяют народы чужих стран: Нидерландов в «Дон Карлосе», Франции в «Орлеанской деве», а в «Вильгельме Телле» — Швейцарии! Великий немецкий поэт не создал для своего народа национальной драмы, воспевающей свободу; он отказал ему в способности стать самостоятельной нацией и советовал своим соотечественникам с тем большим усердием развивать в себе чисто человеческие качества. Этим он отнюдь не выражает пренебрежения к немцам, ибо всечеловеческое предстательство выше ограниченного формальными рамками национального сознания, и вся сложность заключается в том чтобы возвестить своему народу именно это его предназначение; сказать ему, что он призван вселенским духом выиграть великую тяжбу эпохи, что его день в истории явится жатвой всего посеянного от века, а его язык, способный выразить и юношескую мысль Греции, и отвлеченные идеи современности, станет языком мира, — это ведь тоже национализм, только сублимированный, возведенный в наивысшую степень. Все это и еще многое другое сказано в отрывке «Немецкое величье», — стихотворении, которое осталось незавершенным и которое сильно напоминает речь Достоевского о Пушкине, произнесенную в 1880 году, где русскому народу — почти в тех же выражениях, а то и дословно — отводится такая же миссия[181]. В этой речи мы читаем: «Ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и всечеловечности? Да, назначенье русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное… Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия и
593
как удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления к воссоединению людей».
Нет, не в том величье немцев,
Чтоб врагов разить мечом, —
говорит Шиллер. Он издавна пользовался славой в России — большей, чем Гете. Достоевский был особенно восторженным поклонником его. Одно уж: «Насекомым сладострастье, ангел — богу предстоит» — так заворожило его, что эта цитата неоднократно повторяется в его романах[182]. Называя величайшие имена, он никогда не обходит имя Шиллера. И я почти уверен, что идея о призвании русской нации к всечеловеческому предстательству — та идея, которая помогла ему в его речи о Пушкине[183] подняться выше спора между славянофильством и западничеством, — тоже своего рода «заимствование», что она немецкого происхождения и принадлежит Шиллеру.
«Если я только доживу до пятидесяти лет, полностью сохранив
свои духовные силы, — пишет он в пору работы над «Теллем», — то я надеюсь
скопить достаточно, чтобы мои дети ни от кого не зависели». Исполнит ли природа
это скромное желание заботливого отца? В 1804 году, ко времени завершения
«Телля», по всей видимости, да, исполнит. Ему легче работается, чем когда-либо,
и он «очень прилежен». Впрочем, летом, когда предстоит рожденье четвертого
ребенка, ему опять хуже. До самой осени его мучают колики, но в осенние месяцы
он поправляется и уверенно ждет благополучной зимы. Однако зима выдалась
хлопотливая. Прибывает великая княжна
594
треплет его в марте, он набирается сил и может продолжать работу над «Деметриусом», за которого он — трудно поверить — взялся тотчас же по окончании «Телля». Есть что-то трогательное в том, что женитьба наследного принца на русской княжне сыграла известную роль в выборе сюжета для грандиозного замысла — самого грандиозного и сложного, пожалуй, за всю его жизнь, который требовал неимоверных усилий и над которым Шиллер работал с огромным творческим подъемом, тогда как физически его жизнеспособность почти уже была исчерпана. Вскрытие вскоре показало, что левое легкое полностью разрушено, предсердия сращены, печень отвердела, желчный пузырь болезненно вздут, — короче говоря, ни один орган уже не функционировал нормально. А он все работал. Работал много, вдохновенно, носил в своей уже почти бездыханной груди тяжелый груз сложнейших проблем, искал новые — даже для него — формы передачи массовых сцен и символического олицетворения народных масс на театральных подмостках, добросовестно составлял нумерованный перечень всех «за» и «против»; к «против» он относил и политический сюжет «Деметриуса», и обилье самых разных действующих лиц, что, по его мнению, вредило занимательности; и слишком большой объем, едва обозримый, и трудности постановки на сцене. И наконец — с тоской: «Огромность работы». В числе «за» были: тема веры в самого себя, передающейся другим, раскрытая на примере Дмитрия, который стал царем потому, что считал себя царем. Затем, к достоинствам замысла он относит разнообразие материала, отмечает особенно выигрышные сцены, а также указывает на изображение жестокого самовластья царя, убийств, битв, побед, торжественных церемоний и т. д. …Хорошо и то, что предмет незнакомый и что место действия чужая страна, где вдобавок процветает деспотизм, да и материал совсем новый, еще невиданный на сцене. Короче говоря, «за» перевешивает «против», в особенности тревогу из-за «огромности работы». Он набрасывает много страниц прозой, пишет сотни стихов, целые сцены —
595
увлеченный до одержимости острым драматизмом темы, темы невольного обмана, страшного жребия человека, потерявшего веру в себя, чья жизнь велением рока проходит во лжи; темы нравственного кошмара, в которой уже больше от Клейста, чем от Шиллера, но с которой так сроднилось его творческое воображенье, что он чуть ли не отождествляет свою судьбу с судьбой созданного им героя. Шиллер оставил нам написанный прозой потрясающий монолог Дмитрия, узнавшего правду о себе. Дмитрий убивает вестника правды, он говорит: «Ты смертельно поразил мое сердце, ты отнял у меня веру в самого себя… Прощай, мое мужество, мои надежды! Прощай, радостная уверенность, счастье! Опутанный ложью, в разладе с самим собой, теперь я не более как враг людей. Отныне я и правда разлучены навеки! Как? Самому вырвать народ из его заблужденья? Эти великие народы верят в меня… Самому ввергнуть их в бедствия, в анархию, отнять у них веру! Самому сорвать с себя личину?.. Это тайна, бремя которой я должен нести один… Я должен идти вперед, я не смею сдаваться, но я уже не могу этого, у меня нет больше внутренней убежденности. Убийствами и кровопролитием отныне должен я удерживать престол…» Он уже не тот, каким был прежде; бес самовластья вселился в него, он стал грознее, повелительней. Нечистая совесть тотчас сказывается в том, что он больше требует, действует деспотичнее… Угрюмая подозрительность уже овладевает им, он сомневается в других, потому что не верит в себя. Отныне Дмитрий тиран, обманщик, плут…
И поэт вместе с другими изумлен этой переменой. «Как же так? — заставляет он их думать, — неужели царский пурпур столь быстро преобразил его? Быть может, новый наряд повинен в новом строе его мыслей? Словно дух Грозного вселился в него». Именно теперь Дмитрий достиг вершины счастья, все свершилось по его желанию, никто уже не противится ему, все в него верят, благоговеют перед ним. Особенно сильно поражает всех его мрачный деспотизм, потому что, казалось бы, он должен быть милостив и весел.
596
Итак, здесь очерчена психологическая коллизия глубочайшего драматизма. Если вдуматься, что означает для художника, для поэта, вера в самого себя, в свое дарование, в чистоту и благородство своих помыслов, в свой долг перед человечеством, — становится страшно при мысли, до какой степени один из них — на вершине славы, когда все свершилось по его желанью, все в него верят, благоговеют перед ним — вживается в идею обмана, в идею фальши и самозванства, в жребий одинокой души, навеки разлученной с правдой, изнемогающей под бременем роковой тайны, с которой он должен идти вперед, страшась сбросить личину, дабы не вырвать у народа его заблуждение, его восторженную веру и тем самым не ввергнуть его в бедствия. И страшно, что во время такого чуть ли не субъективного углубления в объективный трагизм своего замысла, из которого он рассчитывал создать нечто неслыханно великое — его застигла смерть.
После долгих колебаний, после милостиво дарованных отсрочек, почти непостижимых при состоянии больного, организм которого был разрушен и поддерживался только борением духа, природа наконец положила предел его жизни. Но какая это была жизнь! То была неутомимая, безостановочная, неизменно устремленная вперед и ввысь деятельность, протекавшая в состоянии, которое не назовешь иначе, как motus animi continuus1. Со страстным увлечением, неустанно приобретая все новые знания, день ото дня расширяя свой кругозор, все глубже проникая в тайны искусства, все взыскательнее относясь к самому себе, он за двадцать семь лет — из неполных сорока шести, отпущенных ему судьбой — создал такое богатство, какого мог бы не стыдиться, доживи он до библейского возраста, и о котором я здесь сказал очень немного, бросив беглый взгляд лишь на вершины его творчества. Ибо, кроме двенадцати драм — последняя
597
и, вероятно, величайшая, осталась незавершенной — им было написано множество лирических стихов, правда, не песенных, а философских — плод напряженных раздумий о назначении человечества, вдохновенные гимны, навеянные изучением истории мира и его духовного развития; прибавим к этому баллады, которые надо перечитать свежим глазом, чтобы почувствовать их несравненное мастерство — пять-шесть из них целиком вошли в цитатный фонд немецкой культуры; далее — прозаические сочинения: капитальные исторические труды — «Отпадение объединенных Нидерландов», последовавшее за «Дон Карлосом», «Тридцатилетняя война», предшествовавшая «Валленштейну» — за этой книгой однажды застали Гете плачущим от восхищения; далее — очерки, критические статьи, поражающие остротой и глубиной мысли; повествовательная проза: «Преступник из-за потерянной чести», история вюртембергского атамана разбойников Иоганна-Фридриха Швана, свидетельствующая о том, какой притягательной силой обладали для Шиллера психологические отклонения от нормы, странности и противоречия человеческой души, — по духу своему, по стилю и технике исполнения близкая творчеству Клейста-рассказчика; превосходный приключенческий роман «Духовидец», который сначала печатался в журнале «Талия», а затем в виде фрагмента изданный отдельной книгой; нетерпеливые читатели осаждали автора просьбами закончить «Духовидца», но Шиллер, который в жанре романа чувствовал себя не более в своей сфере, чем в лирике, отвечал, что дальнейшая работа над ним была бы «преступной тратой времени».
Он считал, что сделал довольно, показав, как можно, хорошо владея пером, создать первоклассную занимательную повесть с захватывающей интригой. Незачем было дописывать ее до конца[184], тем более что лучше она от этого не стала бы. У него было слишком много дел, ему хватило бы их на сто лет — в его письменном столе, в его маленьком ветхом секретере лежали всевозможные планы, наброски, заметки к намеченным драмам, более или менее подробные,
598
более или менее разработанные: «Мальтийцы», «Человеконенавистник», «Уорбек» (всего, если не ошибаюсь, шестнадцать или восемнадцать) и среди них есть записи, указывающие на то, что, достань у него времени, нам открылись бы новые, неожиданные, стороны его творчества, интерес к новым, казалось бы, далеким от него предметам, поиски новых технических приемов, так что, быть может, его писательский облик совершенно преобразился бы для нас; назовем для примера «Полицию» или «Розамунду, невесту ада», «Корабль», «Корсар» — морские приключения, которые Шиллер, не бывавший у моря, а тем менее на море, — так же как он не бывал в Швейцарии,— намеревался когда-нибудь описать. Но кроме этого существуют еще два списка с одними лишь названиями драм, по которым видно, какие темы привлекали его хотя бы мимолетно, какие замыслы он готовил «на будущее», и одно уже число этих наметок дает представление о том, как этот бесконечно искушаемый ум неустанно ищет новых путей, то и дело отклоняясь в сторону, и одновременно сосредоточивает все свои силы на завершении того, что человечеством почитается его великим творческим подвигом.
Но могу ли я умолчать о самом раннем его произведении, о «Семеле, оперетте в двух сценах», написанной еще в школе герцога Карла, и где задолго до патетической прозы «трех могучих первенцев» предвосхищены ямбы «Дон Карлоса»? Ведь то была моя первая литературная любовь, эта «оперетта» о пламенной страсти создателя к своему созданию, сюжет которой и даже язык прямо указывают на «Амфитриона» Клейста. Но никакие историко-литературные ассоциации не приглушали моего детского восторга, когда я упивался драматизмом таких строк:
— Так никогда не обнимай иначе
Меня, как ты…
— Несчастная! Постой!
— Сатурнию…
— Умолкни!
— …обнимаешь…
599
(Это место, в свою очередь, как и наговоры Юноны в первой сцене, звучит прелюдией к «Скажи мне имя!» Эльзы, и возгласу Лоэнгрина «Остановись», и к его жалобе, «Горе, погибло наше счастье!») Но неужели действительно ни один ученый литературовед в стихах молодого Шиллера, вложенных в уста Зевсу:
Давно я жду прильнуть к твоей груди
Главою, отягченной целым миром,
От бурь правленья чувства убаюкать,
Забыть во сне кормило и бразды
И потонуть в отраде наслажденья.
............................
…Она идет… О перл моих созданий! —
неужели никто не угадал, не предугадал вних«миро- устрояющую» и страстью отуманенную главу Клей- стова Юпитера, его призыв: «Возлюбленное нежное созданье, в котором все мое блаженство, все!», его грустную мольбу творца:
Как много счастья
Он сыплет между небом и землей;
Когда бы выпало тебе на долю
Всю благодарность миллионов жизней
И все долги им созданных существ
Одной твоей улыбкой заплатить,
Была бы ты — ах, не могу подумать,
Не позволяй мне думать…
Так довольно о «Семеле», довольно о самом первом и о самом последнем. Но скажем еще раз: какая жизнь! Женские образы мелькают в ней, то мимолетные, то глубже задевающие сердце поэта. Вот, в Бауэрбахе, шестнадцатилетняя дочь его покровительницы Генриетты фон Вольцоген, возбудившая в двадцатитрехлетнем поэте мечты о счастье, ибо отблеск его пламенной благодарности и полувлюбленного Преклонения перед матерью падал и на юную девушку. Она сыграла известную пассивную роль в создании образа Луизы Миллер; нежные чувства, внушенные ею, дали поэту, выросшему в казарме среди мужчин, некоторое понимание женской души и вдобавок подкрепили личным опытом пафос его
600
драмы — бунт против злосчастных сословных предрассудков, которые мешают соединиться двум любящим сердцам. Лотхен фон Волъцоген была девица благоразумная. Она придерживалась законов света и предпочла поэту-плебею молодого офицера-аристократа, за которого и вышла замуж, после чего любовь к ней отвергнутого вздыхателя довольно скоро и безболезненно отмерла. Но два года спустя, в Мангейме, появляется другая Шарлотта, тоже из дворянок; она носит имя тупого гофмаршала в «Коварстве и любви» — фон Кальб — и она тоже родня госпоже фон Вольцоген, замужем за майором французской службы, но брак этот, видимо, не очень счастливый, о чем свидетельствует благосклонность, с какой принимаются ухаживания поэта. Эта сердечная привязанность глубже первой и тянется дольше, ибо Шарлотта фон Кальб — женщина незаурядная, испытавшая и горе и одиночество, с духовными запросами, склонная к католической мистике и пиетизму. Отношения между нею и поэтом заходят довольно далеко, но в последнюю минуту, не то из религиозных побуждений, не то бог весть почему, она порывает с ним. Итак — все кончено, но и этот жизненный опыт пошел на пользу его творчеству: в «Дон Карлосе» не только королеве, но даже принцессе Эболи свойственны некоторые черты Шарлотты.
Ему двадцать восемь лет, когда в Дрездене, на костюмированном балу, он увидел молодую красавицу, опять аристократку — Генриетту фон Арним,— женщину пленительной внешности, но столь бедную внутренним содержанием, столь пустую и тщеславную, что вспыхнувшая к ней страсть быстро гаснет. Позади и это. Актрисы, играющие в его пьесах — могло ли быть иначе? — время от времени «заинтересовывают» поэта; биографы называют три-четыре имени. Некую Софи Альбрехт он хочет «спасти» от театра, — очевидно, на практике он не казался ему столь уж «нравственным учреждением». Ходили упорные слухи, что он вот-вот женится на артистке Катарине Бауман, но слухи оказались ложными. Они
602
были бы много ближе к истине, если бы касались Маргариты Шван, воеемнадцатилетней дочери издателя, очень красивой, очень изящной, к тому же не без образования. На этот раз любовь был« глубока и мучительна — мучительна потому, что барышня оказалась избалованной, бессердечной кокеткой, ничуть не лучше Генриетты. Итак, он уже не впервые познает горе и стыд недостойной страсти. Некоторое время он носится с мыслью просить руки Вильгельмины, дочери Виланда, но по чисто светским соображениям. К самой девице он равнодушен. Между тем Вильгельм фон Вольцоген ввел его в Рудольштадте в семью Ленгефельд, с которой Шиллер уже мельком встречался в Мангейме. Обе хозяйские дочери, Каролина и Шарлотта, произвели на него сильное впечатленье — именно обе, хотя Каролина замужем за Дейльвицем; позднее она стала женой Вольцогена. Вероятно, как раз она, женщина загадочная, не нашедшая счастья ни в первом, ни во втором браке, сильнее влекла к себе поэта, чем ее неискушенная жизнью юная сестра. Но Шарлотта — милая, простая девушка, это чистая, цельная натура, и она — наконец-то — завоевывает искреннюю любовь и доверие поэта; к тому же она свободна. Выбор пал на нее; она стала женой Шиллера, матерью его детей. Еще в двадцать восемь лет он писал: «После того как мне минет тридцать, я уже не женюсь[185]. Уже сейчас я не испытываю к этому никакого влечения. Женщина, наделенная всеми достоинствами, не может дать мне счастья, — или я совершенно себя не знаю». Теперь, три года спустя, он признается: «Совсем иначе мне живется подле любимой жены чем заброшенному и одинокому… Как хорошо я теперь живу! Весело и бодро гляжу я вокруг, и душа моя постоянно находится в состоянии тихой удовлетворенности. Моя жизнь обрела гармонический покой. Дни мои проходят уже не средь бурь и треволнений, они полны света и мира. Я спокойно, с надеждой смотрю на свое будущее». Как отрадно это читать! Как отрадно убедиться, что этот неугомонный, мятущийся дух, этот великий пасынок жизни, сказавший
602
о себе: «Все, чего я добился, достигнуто напряже- нием сил, подчас сверхъестественным», хоть раз познал светлую, неомраченную радость, хоть раз на-сладился счастьем, человеческим счастьем, долгожданным .по- коем!
Итак — немногие, по большей части платонические увлечения и соблазны, а затем мир с прекрасным по- лом, тихая пристань счастливого брака. В этой чуждой лиризма жизни любовные страсти не играли стимулирующей роли, не знаменовали вех на его творческом пути. Здесь нет ни Зезенгейма, ни Вецлара, ни Лиды, Марианны, Ульрики. Противоположность полов, как и все для него, преображалась в начало духовное. Беззаветная любовь всей его жизни, всепоглощающая страсть, порывы то нежности, то неприязни, приступы жестокой вражды и жестокой тоски, восторженное преклонение, сладость дарить счастье и обретать его, муки ревности, смиренная зависть наряду с гордым самоутверждением, постоянная душевная тревога — все это пришлось на дружбу между двумя мужчинами, между ним, образцом мужественности, и тем, кому он хотел бы приписать женственный склад души, тогда как другие, например Шлегель, подчеркивали именно мужественные черты его личности, — на дружбу между Шиллером и Гете.
Это центральная глава его биографии, и каково бы ни было для Гете значение их встречи, как высоко ни ценил он — особенно после смерти друга — эту близость, выросшую из полярной противоположности двух натур, страстотерпцем их дружбы был Шиллер, был тот, кто непрестанно думал о ней, восставал против нее, кому она заменяла терзанья и радости самой пламенной любви, — и, разумеется, привязанность к нему Гете казалась холодноватой и слишком ровной по сравнению с полулюбовью-полувраждой другого соучастника, который бранит его за эгоизм, говорит о нем, как о неприступной надменной красавице, которой не мешало бы сделать ребенка, упорно,
603
настойчиво домогается взаимности, чье антитетиче- ское мышленье полностью обусловлено бытием недруга-друга и чье эмоциональное восприятие этого бытия, столь несхожего с его собственным, выражено в философской лирике, где он со смиренной печалью, хотя и с горделивым достоинством, подчиняет герои- ческий труд, ставший его уделом, дарованной свыше милости и запрещает себе «гневаться».
Трудно понять, почему, говоря о лирике Шиллера, почти никто не вспоминает неизъяснимо трогательную элегию, проникнутую подлинным лиризмом, и которая глубиной и благородством чувств намного превосходит всю его остальную поэзию. Я имею в виду «Счастье», это славословие тому, кого боги любят еще до рождения, чей младенческий сон нежно Киприда хранит.
Тот, кому очи — Феб, а губы — Гермес размыкает,
Чье отметил чело знаком могущества Зевс,
Выпал на долю ему высокий, божественный жребий.
Лавром Счастливый венчан, не начиная борьбы.
Прежде чем жил он, ему жизнь отпущена полною мерой,
Прежде чем труд познал, стал он любимцем Харит.
А потом о себе:
Мужа зову я великим, кто сам свой творец и ваятель,
Доблестной силой своей Парку сумел одолеть.
Но не достичь ему счастья, и то, что Хариты ревниво
Берегут от него, силой у них не отнять.
От недостойного ты храним суровою волей,
Высшее благо богов вольно слетает к тебе…
О, не гневись на счастливца за то, что даруют победу
Боги, ему, что в бою был он Кипридой спасен!..
На красоту не гневись за то, что она без заслуги
Словно лилея цветет волей Киприды одной.
Пусть она будет счастливой, — ее созерцая, ты
счастлив,
Блещет она без заслуг, так осчастливлен и ты…
Цитировать ли дальше? Это так заманчиво! Только одно еще, последнее:
Пусть же на торжище шумном слепая Фемида сурово
Взвесит на мудрых весах труд и награду людей…
Смертное вечно должно рождаться, расти, развиваться,
Время ваяет его, образом образ сменив,
604
Но красоту и счастье мы в становленье не видим,
Сразу природа дала нам совершенными их.
Каждой Венере земной, как той первозданной небесной,
Из беспредельности вод тайно рождаться дано.
Снова, как вышла Паллада из головы громовержца,
Выйдет, эгидой блестя, каждая светлая мысль.
Прекрасней этого, возвышенней, чище — не найти нигде: ни в мире чувств, ни в поэтическом языке. Я отдал бы целые антологии любовной лирики за одно это стихотворенье, где дух, воля, труд, доблестная сила обращаются со словами любви к божественному без заслуг, где созерцающий склоняется перед сущим. «Счастье» в большей степени, чем эпилог к «Колоколу» — хотя Гете и дополняет в нем картину их духовного союза, отдавая, в свою очередь, дань восхищенья Шиллеру, — истинный поэтический памятник этой величественной до символа выросшей великой и сложной дружбы; это сублимация и предельное одухотворение всякой боли, горечи и обиды, от которой должна страдать великодушная доблесть, сталкиваясь с непонятным и бесстрастным, как природа, демонизмом, — и таких горьких обид здесь было испытано немало. «Часто общаться с Гете было бы для меня несчастьем», — пишет он в одном письме от 1789 года. — Даже перед своими ближайшими друзьями он ни на мгновенье не раскрывается весь, он неуловим; мне кажется, он в самом деле необыкновенный эгоист… Этим он мне ненавистен, хотя я и люблю его ум всей душой и очень высоко его ставлю. Своеобразную смесь любви и ненависти пробудил он во мне, — чувство, отчасти, вероятно, напоминающее то, которое Брут и Кассий питали к Цезарю; я мог бы убить его ум и опять полюбить его всей душой. Его мнение для меня чрезвычайно важно… Я намерен окружить его соглядатаями, ибо сам я никогда не спрошу у него, что он обо мне думает». Это заговорщическое «окружить соглядатаями» — чисто шиллеровская мысль, как, впрочем, и все остальное. Например, в том же году он пишет: «Гете стал мне поперек дороги, и он часто напоминает мне, как круто судьба обошлась со мной. Как легко был воз-
605
несен судьбой его гений, а я до этой самой минуты все еще должен бороться». Или — годом позже: «Интересно, как Гете все, что он прочитывает, возвращает преобразованным на новый, на свой лад; но все-таки я не хотел бы спорить с ним о предметах, которые очень близко задевают меня. Он полностью лишен способности искренне, всем сердцем признать что-нибудь. Вся философия для него — субъективна, а тут конец и убеждениям и спорам».
Печаль Шиллера из-за «безотзывности» — как я это называю — так и не была утолена, даже в ту пору, когда он сам говорит Гете о «прекрасном союзе между нами» и почти дословно повторяет афористически выраженную мысль Гете: «По отношению к превосходному нет иной свободы, кроме любви». Даже в ту пору когда он писал о друге третьему лицу: «Меня привязывают к нему не высокие достоинства его ума. Если бы он как человек не был для меня выше всех остальных людей, которых я лично знал, то я бы только издали восхищался его гением. Я смело могу сказать, что за шесть лет, прожитых вместе, я ни разу не разочаровался в нем. По натуре своей он чрезвычайно правдив и честен и очень ревниво относится к добру и справедливости; поэтому болтунам, лицемерам, лжеумникам в его присутствии всегда было не по себе…» Ему самому — с его чистой душой — не было не по себе в присутствии этого чрезвычайно правдивого ревнителя добра невзирая на тревогу из-за нет-нет да и проскальзывающей холодности. И как радостно, что дух может помочь природе, герой — богу, может поощрить его, подтолкнуть, прояснить и рассеять его смутные колебанья, дружески поделиться своим преимуществом. Бывают минуты — хотя бы при разборе композиции «Фауста», — когда мышленье, философия, отвлеченная идея торжествует над божественной непосредственностью или хотя бы обретает право мнить себя торжествующей, когда она не без великодушного злорадства видит, что столь противоположное ей вынуждено прибегать к ее содействию: «Требованья,
606
предъявляемые «Фаустом», одновременно философского и поэтического порядка, и, как ни верти, сам характер предмета навяжет вам философскую трактовку, а воображению придется снизойти до службы определенной идее». Надо сказать, из этого «снисхождения» мало что вышло; в своей аморфной мирообъемлющей поэме друг Шиллера в известном смысле уклонился от службы определенной идее. «Идея?» — спрашивает он к концу жизни. — Не знаю. Приходят ко мне и спрашивают, какую идею я хотел воплотить в моем «Фаусте». Как будто я сам это знаю и могу выразить! С небес сквозь землю в ад — это кое-что на худой конец; но это не идея, а ход действия… Хорошенькое было бы дело, если бы я такую богатую, пеструю и столь многогранную жизнь, какую я показал в «Фаусте», стал нанизывать на жиденький шнурок одной-единственной сквозной идеи!»
Пусть так. Слова, сказанные Шиллеру: «Вы подарили мне вторую молодость, опять сделали меня поэтом!» — могут, пожалуй, вознаградить за то, что Гете так ни разу и не повторил обращение «Возлюбленный друг!», вырвавшееся однажды у младшего друга в письме к старшему. И разве Шиллер, после долгих блужданий в мире абстракций, не стал «опять поэтом», не возродился для поэзии благодаря близости к Гете, созерцая этот самобытный гений, черпая вдохновенье в его творческой интуиции, могучей и неосознанной, как сила природы? Это был поистине великий обмен духовными дарами при обоюдном почитании друг друга, а что касается Гете, то оно непрерывно растет после смерти Шиллера. Словно при жизни друга он не понимал до конца как много тот значит для него. Конечно, он всегда любил Шиллера, хотя ему и случалось, сокрушенно качая головой, выражать досаду и неодобренье; он щадил его самолюбие, в гостиных старался переменить разговор, если видел, что Шиллеру он неприятен, доставлял ему случай блеснуть умом и красноречием. Но в гетевской поэзии того времени мы не найдем и намека на глубокое чувство, каким исполнена песня о «Счастье», и только многим позже, во второй части «Фауста»,
607
в сцене с Хироном, где речь идет о «круге аргонавтов», оно вдруг появляется, и его нельзя не узнать вопреки всем иносказаньям[186].
Но согласись: ты жил со всеми,
Которых выдвинуло время.
........................
Кого в том круге бесподобном
Считал бы более способным?1[187]
Кентавр, называя всех, говорит, что «был любой богатырем на свой покрой».
Фауст напоминает ему:
Про Геркулеса ты забыл?
Ответ:
Ты боль мою разбередил!
Я не видал богов Ареса,
Не видел Феба и Гермеса,
Когда моим земным очам
Предстал приравненный к богам —
Он явно сыном был монаршим…
Кто этот Геркулес, во славу которого напрасно трудятся песни, «напрасно терзают камень». Мы догадываемся, мы знаем, кто. И то, что Гете увидел покойного друга в образе приравненного к богам Геркулеса, совершившего двенадцать подвигов, наводит на мысль, что он знал о мечте, которую издавна лелеял Шиллер: создать «наивысшее» — олимпийскую идиллию о бракосочетании сына Зевса и Алкмены с Гебой, богиней вечной юности. Насколько мне известно, среди бумаг Шиллера — ни в записях, ни в набросках, ни в намеченных планах, — нет упоминаний об этом замысле, но основная нота его явственно звучит в заключительной строфе «Идеала и жизни».
И, свершив земное, роковое,
Мощно сбросил все людское
Чрез огонь очистившийся бог.
И, полету радуясь, впервые
Устремился в выси голубые,
Кинув долу груз земных тревог.
Встречен там гармониями неба,
Входит, светлый, он в Кронидов зал,
И ему сияющая Геба
Полный подает фиал.
608
О том, что это — лирика в самом личном, самом сокровенном смысле, что это — выражение заветнейшего желанья, свидетельствует письмо к Вильгельму фон Гумбольдту, где Шиллер — единственный раз — со всей страстью говорит о своей творческой мечте; оно написано в 1795 году, за десять лет до кончины поэта. Я не знаю более удивительного, более знаменательного и волнующего места ни в одном из других его писем. Он говорит здесь о поэтической картине, «очищенной от всего бренного, — только свет, только свобода, ни теней, ни преград больше не видно… У меня кружится голова, когда я думаю о такой задаче, о возможности разрешить ее, описать сцену на Олимпе — какое величайшее наслаждение! Я не теряю надежды сделать это когда достигну полной свободы духа и очищусь от всякой скверны действительности; тогда я соберу все свои силы, все, что есть в моей натуре сверхчувственного, духовного, — пусть на это уйдет весь запас его».
Великая, ввысь устремленная душа! Когда и как могла бы она достигнуть «полной свободы», очиститься от «всякой скверны действительности?» Когда и как могло бы здесь, на земле покинуть смертного все сверхчувственно-духовное в его натуре и, вспыхнув пламенем, раствориться в задуманной идиллии? Идея полностью трансцендентальная, внежизненная, неземная, доступная разве лишь бесплотному духу. За десять лет земного существования, которые еще были ему отпущены, этот неутомимый труженик ни разу не попытался воплотить свою творческую мечту, невзирая на то, что это сулило ему «высшее наслаждение». Но в каждое из своих возвышенных творений, хоть и ограниченных земной сферой, которыми он еще успел обогатить жизнь, он вложил частицу духовного начала своей натуры, и все они носят ее явственный отпечаток. Эта поэтическая мечта о неземном свете и свободе говорит о том, что его последним, сокровеннейшим желанием было преображение, отказ от всего земного.
Он нам блестит кометой, исчезая,
Со светом вечности свой свет сливая.
609
Этим торжественным двустишием заканчивается строфа, которой Гете только десять лет спустя после смерти друга дополнил «Эпилог к колоколу». Но уже в знаменитых строках:
За ним обманом призрачным лежало
То пошлое, что души нам связало, —
заключен ответ на великодушное самоотречение шиллеровсиой элегии «Счастье». Ибо что есть пошлое? Не только обыденное, низменное, — но и естественное, если смотреть с высоты духа и свободы; это скованность, зависимость и послушание, не свободная воля, не моральное раскрепощение. Это и наивность, — и нам в самом деле кажется наивным со стороны Гете, оглядываясь на подвижническую жизнь Шиллера, предостерегать от злоупотребленья категорическим императивом[188] или говорить о том, что дух пожрал его, что идея свободы убила его в буквальном смысле слова, ибо ради нее он предъявлял требованья к своему организму, которые превышали его физические силы. Однако такое сетованье на неразумную сублимацию нравственно-сверхнравственного уравновешивается глубоким изумлением, с каким он, Антей по натуре, взирал на своего друга, а в воспоминаниях о нем изумление сменяется откровенным восхищением: «Ничто не смущало его, ничто не теснило, ничто не отвлекало полета его мысли. За чайным столом он был так же велик, как мог бы быть велик в государственном совете». И в другой раз: «Вот Шиллер, тот был совсем другой, он всегда умел в обществе говорить значительно и интересно». А ему самому случалось целыми вечерами «дуться», не раскрывая рта, и это создавало тягостное молчанье, ибо кто осмелился бы сказать слово когда молчит Гете. Связанный условностями, подверженный влиянью сотен обстоятельств, особенно перемены погоды (назвал же он себя барометром), решительно не верящий в свободную волю, признающий только пантеистический закон необходимости, никогда ни за что не боровшийся, готовый мирно ждать урочного часа, когда все придет само собой, — Гете должен был с невольным
610
страхом взирать на того, кто говорил: «Все, чего я добился, достигнуто напряжением сил, подчас сверхъестественным», — взирать с недоумением, даже с некоторым стыдом, на человека, который мог сказать о себе, что не позволяет физическим страданиям воздействовать на свободу и бодрость его духа.
Союзом взаимного признания между духом и природой обернулась эта прекрасная дружба, но словами не выразить как сложны были ее предпосылки, и нельзя не видеть глубокой иронии, которой она отмечена, — иронией, разумеется, обоюдной. Ибо что это если не ирония в самом высоком смысле когда Шиллер, в письме к Гете предостерегает его от Канта, своего собственного учителя и кумира? Гете, говорит Шиллер, может быть только последователем Спинозы, его прекрасная наивная натура тотчас была бы загублена призванием философии свободы. Как видите, дух здесь и не покушается обратить природу в свою веру. Он, напротив, предостерегает ее от этого. Высоконравственному сентименталисту наивность представляется прекрасной, достойной защиты. Но разве не слышится в этой бережной заботе о ней некоторое дружеское презренье? Шиллер превозносит до небес «прекрасный союз между нами» и говорит о том, что если в «Валленштейне» or превзошел самого себя, то это, несомненно, «плод нашего общения». «Ибо только неоднократное и постоянное общение со столь объективно противостоящей мне натурой, мое живое влечение к ней и усилия наблюдать ее и постичь могли способствовать такому расширению моих субъективных границ».
Однако недовольство, мучительная досада на соучастника этого плодотворного союза не утихает до самого конца, фактически она приводит к желанию разрыва, и за два года до смерти он пишет Гумбольдту: «Гете стал теперь действительно монахом и живет в одинокой созерцательности, которая, не будучи отвлеченной, все же не приводит к продуктивности. Один я ничего сделать не могу. Часто меня тянет подыскать в мире другое местожительство; если бы где-нибудь было сносно, я бы уехал».
611
А Гете? Навсегда останется тайной, что он в глубине души думал о Шиллере-поэте. «То, что Шиллер понимал под поэзией, — пишет Герман Гримм, — для Гете вовсе не было поэзией. Поэтическое творчество Шиллера было чуждо Гете. Шиллер искал свой материал. Потом он обрабатывал его до тех пор, пока он не ложился, как нужно». Относительно этой тайны ходит много анекдотов, за достоверность которых не ручаюсь, но которые звучат вполне убедительно. Так, например, передают слова горячей поклонницы Гете графини Вагенсперг, чей ум и наблюдательность не подлежат сомнению, и которая, кстати, указывает на глубокое уважение, с каким Гете вступал в область возвышенных идей, где Шиллер чувствовал себя в своей сфере: «Мне, впрочем, казалось, что в друге он отнюдь не ценит именно поэта, и меньше всего драматурга. Однажды, когда я усомнилась, действительно ли его «Валленштейн» подлинное, жизненное произведение, шедевр драматургического искусства, я заметила, что Гете покраснел, будто застигнутый врасплох, а добродушный взгляд словно спрашивал, зачем у него выпытывают его самые сокровенные убеждения? И потому я уверена, что он ни разу ничем не выдал перед другом своего истинного мнения о поэте Шиллере. Да и вообще в Гете несравненно больше чуткости, добродушия нежели думают о нем, по-моему, по своему характеру он далеко не так суров, как Шиллер». Рассказ этот звучит весьма правдоподобно, хотя Гете — истый Юпитер громовержец — решительно отвергал все сомнения современников в поэтическом гении Шиллера — «мыслителя и трибуна». Он гневно насмехается: «Верно, ныне о Шиллере говорят, что он не поэт, но у нас на этот счет свое собственное мнение». И он гремит: «Я беру на себя смелость считать Шиллера поэтом, и великим поэтом».
В этом «Я беру на себя смелость» чувствуется некое напряжение воли, самоотверженная решимость подавить малейшие сомнения, даже свои собственные, в гениальности Шиллера.
612
Известная грубоватость, которая иногда сквозила в словах и чувствах Гете, бесследно исчезает после смерти друга. Однажды у Шиллера собралось несколько человек для предварительного обсуждения будущей постановки только что законченной «Марии Стюарт» — особенно вымышленной сцены в парке Фотерингей между Марией и Елизаветой. Выходя на улицу после собранья, Гете громко сказал: «Любо- пытно все-таки, что скажут люди, когда обе шлюхи сойдутся и начнут корить друг друга своими похождениями». Так «юмористически» Шиллер никогда бы не выразился о творческом вымысле Гете, да и Гете ничего подобного не сказал бы после кончины друга — самого умного, самого благородного и достойного его дружбы из всех, кого он в жизни встречал. Для Гете, пережившего друга, этот союз, некогда столь частый источник недовольства и досады, все больше просветляется, преображаясь в глубочайшее почитание, вплоть до: «Ты боль мою разбередил!» или: «Не могу, не могу забыть этого человека!» Не то, чтобы он забыл противоположность их натур, или первоначальную неприязнь, или подчас тяготившее его нравоучительство Шиллера, в присутствии которого «искусство иногда становилось слишком серьезным занятьем». Но теперь, когда речь заходит о том, что́ в покойном друге было чуждо ему, Гете неизменно говорит: «Это было не дело Шиллера». Не его дело тщательно мотивировать драматическое действие, не его дело творить по наитию, почти бессознательно, — все он должен был продумать до конца, этот великий человек и большой чудак, и уж вовсе не его делом было медлительное развитие существа предмета, напротив — он смело выхватывал большую тему, поворачивал ее по-своему, судил о ней по-своему и обрабатывал по-своему. Он рассматривал свой предмет только снаружи, — это было его делом, его манерой. Талант его был, так сказать, неустойчивый. Поэтому ему не хватало решительности, это было не его дело, он никак не мог остановиться, даже в наших с ним рассужденьях, он постоянно критиковал «Вильгельма Мейстера», то так,
613
то сяк хотел его переиначить, и нам не без больших хлопот удалось отстоять себя и свое. Большой чудак и великий, великий незабвенный человек. Такого мы уже никогда не увидим.
Как будто не «делом» именно Шиллера было обороняться и отстаивать себя, непрерывно мериться силами и отграничиваться, чтобы, подчеркивая различье между ними, тем самым сравняться с другом-соперником, — что, вероятно, подчас и тяготило Гете. Гордость не мешала Шиллеру ясно понимать, что гетевский гений творит много свободнее, чем его собственный, его смиренное восхищение иногда не знает границ: «Эпическая поэма Гете «Герман и Доротея» — это вершина его и всей нашей новой поэзии. В то время как мы вынуждены кропотливо собирать и разглядывать дабы с трудом слепить что-нибудь сносное, ему достаточно тихонько пошатать дерево, и прекраснейшие плоды, зрелые, налитые, прямо падают ему в руки». Или, к примеру: «С Гете я мериться не стану если он захочет пустить в дело всю свою силу. Ему дано гораздо больше творческой мощи, нежели мне, притом он гораздо богаче знаньями, у него верное пониманье чувств, а кроме всего этого — художественный вкус, очищенный и утонченный знакомством с самыми разнообразными искусствами, чего мне не хватает настолько, что это прямо-таки доходит до невежества. Не будь у меня некоторых других талантов и не умудрись я перетащить эти таланты и навыки в область драмы, я и на этом поприще совсем не был бы заметен рядом с ним». И дальше: «Но я, можно сказать, выработал себе свой особый вид драмы по моему таланту, дающий мне известное преимущество именно тем, что он мой собственный». Изумительные слова! Ведь «искусство» понятье общее, нечто отвлеченное, которое в своем индивидуальном осуществлении и проявлении каждый раз заново и по-своему конкретизируется. Каждое отдельное его проявление есть в высшей степени особенный и обусловленный индивидуальностью случай, который иной раз очень трудно подчинить великой и всеобщей идее искусства.
614
Каждое творческое усилие означает новое и само по себе требующее искусного приноравливания индивидуальных качеств и предпосылок к искусству как таковому, — да, в сущности, никакого искусства и нет, а есть только художник и его личное отношение к нему, где именно потому, что оно личное, он сохраняет «известное преимущество».
Письмо написано в 1789 году. Семь лет
спустя, во время работы над «Валленштейном», он пишет Вильгельму фон
Гумбольдту: «Нет сомнений, конечно, что путь, на который я теперь вступил,
приведет меня в области, завоеванные Гете, и что мне придется выдержать
сравнение с ним; ясно также, что сравнение это будет не в мою пользу. Но так
как все же у меня остается нечто мое собственное, для него недостижимое, то его
преимущества не нанесут ущерба ни мне, ни моему произведению, и я надеюсь, счет
наш хотя бы отчасти сравняется. В мои самые бодрые минуты я говорю себе, что
нас по-разному оценят, но творчество наше не подчинят одно другому, а лишь
сопоставят с точки зрения высшего родового понятия». Это окончательный итог
долгого, нежеланного, но неизбежного соперничества; и разве он не совпадает со
словами Гете: «Немцы спорят, кто выше — Шиллер или я. Пусть радуются, что у них
есть два таких молодца, о которых им можно спорить». Но Шиллер после смерти
стал для Гете тем, чем Гете все же никогда не был для Шиллера — чем-то
священным. Уже в последние годы жизни, когда невестка Гете Оттилия однажды
сказала ему, что Шиллера читать скучновато, он, отвратив лицо, ответил ей: «Все
вы слишком ничтожные, слишком земные для него». Нам всем надлежало бы трепетать
этого гневного движения и суровой отповеди престарелого поэта и поостеречься, дабы
не показать себя слишком ничтожными и земными по сравнению с тем, по ком Гете,
не в силах забыть о годах, прожитых подле друга, тосковал до самой могилы. Ибо
толки о том, что его имя надо предать забвению, что он несовременен и ничего
уже не может нам дать — это предрассудок и безумие. Это мнение принадлежит
вчерашнему дню,
615
оно устарело. Как остро я ощутил это, заново перечитывая Шиллера, как ясно почувствовал, что он, подчинивший себе свою болезнь, мог бы уврачевать недуги нашего времени, если бы наши мысли чаще обращались к нему!
Так же как любой организм хиреет и может зачахнуть потому, что ему не хватает какого-то необходимого соединения, вещества, витамина, так, быть может, и организм нашего общества, его жизнедеятельность жестоко страдает от недостатка элемента «Шиллер». Я думал об этом, когда перечитывал его «Публичное оповещение об Орах» — этот шедевр прозы, утешение для всех страждущих, в котором то, что уже в его время казалось несвоевременным, поднято на высоту требований нашей современности. Он говорит о времени, «когда близкий грохот войны тревожит отчизну, борьба политических мнений и интересов вводит толки об этой войне почти во все круги общества и нет спасенья от этого демона общественной критики ни в устных беседах, ни в печатных трудах». Чем сильнее, говорит он, узкий круг интересов настоящего тревожит, ограничивает и порабощает умы, тем насущней становится потребность в более общих, более высоких интересах, охватывающих чисто человеческое, не зависящее от «злобы дня», чтобы тем самым снова обрести свободу и снова объединить политически разобщенный мир под знаменем Истины и Красоты. Он говорит о том, что цель будущего журнала дать «занимательное и свободное от страстей» развлечение читателю, который, наблюдая нынешние события, то негодует, то печалится, — дать ему пищу для ума и сердца, дабы он среди политической суеты мог найти утешение и отдых. Закрыт будет доступ в журнал всему отмеченному недобросовестной предвзятостью. Но, хотя журнал не намерен касаться нынешних событий и ближайших надежд человечества, он будет вопрошать историю о прошлом и философию о будущем нашего мира, собирая воедино разрозненные черты того идеала, облагороженного человечества, к которому призывает нас разум, но который на деле
616
столь часто скрывается из глаз, и посвятит себя мирному созиданию более возвышенных понятий, более чистых убеждений, более благородных нравов, от чего в конечном счете зависит всякое улучшение общественного уклада. «Итак — благопристойность и порядок, справедливость и мир будут духом и правилом нашего журнала».
Только бы нам не впасть в ошибку, не назвать эту программу малодушным эстетизмом! Не истолковать ее как нечто похожее на то, что мы теперь называем бегством от действительности. Забота о духе нации, о ее морали и культуре, о духовной свободе и таком интеллектуальном уровне, который позволил бы ей понять, что те, чья жизнь обусловлена иными историческими предпосылками, иной социальной системой, иным строем идей — тоже люди; забота о человечестве, которому желают благопристойности и порядка, справедливости и мира вместо взаимных поношений, дичайшей лжи и лютой ненависти, — это не бегство от действительности в область праздной эстетики, это служение жизни во имя ее спасения, это решимость исцелить ее от страха и ненависти, раскрепостив ее духовно. То, к чему стремился Шиллер с красноречием трибуна и вдохновением поэта — торжество универсального, всеобъемлющего, чисто человеческого для целых поколений — стало потускневшим идеалом, устарелым, отсталым и опошленным, и таким же казалось им его творчество. Новым, необходимым, истинным и жизненным, отвечающим духу времени представлялось все своеобразное, специфическое, позитивное и национальное. Уже Карлейль в своей с большой любовью написанной биографии Шиллера упрекает его в том, что сердце его, как сердце маркиза Позы, «билось для всего человечества, для всего мира и грядущих поколений». Это о «нас, новейших», в противовес грекам и римлянам, говорил Шиллер, когда он «отечественные интересы» назвал незрелыми, приличествующими лишь юности мира. «Это ничтожный, мелкий идеал, — читаем мы у него, — писать для одной только нации»; для философического ума такая граница нестерпима. Он не
617
может остановиться на столь изменчивой, случайной и произвольной форме человечества, на фрагменте (ибо что такое нация, даже самая значительная, как не фрагмент?); это может вдохновлять его лишь постольку, поскольку данная нация или национальное событие может послужить условием человеческого прогресса». Этому «новейшему» Карлейль противопоставляет наиновейшее. «Мы требуем, — говорит он, — для себя единый предмет любви. Чувство, распространяющееся на все человечество, именно из-за своей чрезмерной растяжимости настолько ослабляется, что теряет всякую силу для отдельного человека… Всеобъемлющее человеколюбие дает лишь произвольное и весьма слабое правило поведения, и будущее докажет, что «прогресс человечества» так же мало способен взволновать воображенье… Возвышенный, благородный энтузиазм, которым проникнуты эти труды (исторические труды Шиллера), больше говорил бы нашему сердцу, ежели он был бы заключен в менее широкие рамки».
Это ведущие мысли, мысли ведущего ума, которому предстояло увлечь за собой целую эпоху — эпоху национализма. Это мысли вчерашнего дня. Ибо история духовного развития знает приливы и отливы, и ныне мы видим, как волею судеб некогда новое устаревает, а мнимо отжившее опять становится лозунгом дня, обретая небывалую, жгучую актуальность, превращаясь в насущнейшую необходимость, в вопрос жизни и смерти. Что происходит ныне? Идея национальной замкнутости, «менее широких рамок» все дальше уходит в прошлое. Каждый чувствует, что исходя из этой идеи уже нельзя разрешить ни одной проблемы, ни политической, ни экономической, ни философской. Наше время, наши встревоженные сердца требуют универсальности, и давно уже мысли о чести человечества, о гуманизме, о самом широком взаимопонимании перестали быть «слабым правилом поведения», при котором «наши ощущения испаряются и исчезают». Именно это всеобъемлющее чувство жизненно необходимо нам, и если человечество в целом не одумается, не вспомнит о своей
618
чести, о своем достоинстве, его ждет не только моральная — его ждет и физическая гибель.
Последние полвека прошли под знаком регресса в духовном развитии человечества, ужасающего одичания, упадка культуры, потери всякого представления о справедливости, честности, верности, о самой примитивной порядочности. Две мировые войны, выпестовав варварство и алчность, сильно понизили общий интеллектуальный и моральный уровень (один от другого неотделим), и нынешнее смятение умов — плохая порука тому, что мы не будем ввергнуты в третью войну, которая всему положила бы конец. Злоба и ненависть, суеверный ужас, панический страх и дикая мания преследования владеют человечеством, которое хочет заполнить космическое пространство стратегическими базами и кощунственно издевается над солнечной энергией, стремясь изготовить из нее оружие истребления.
Ты ль, Зевесовой рукою
Сотворенный человек?
Для того ль тебя красою
Олимпийскою облек
Бог богов и во владенье
Мир земной тебе отдал,
Чтоб ты в нем, как в заточенье
Узник брошенный, страдал?
Это жалоба Цереры из «Элевзийского праздника», это голос Шиллера. Но человечество глухо к его призыву мирно создавать более возвышенные понятия, более чистые побуждения, более благородные нравы, «от чего в конечном счете зависит всякое улучшение общественного уклада», и, неприкаянное, в пьяном угаре от собственного скудоумия, крича во все горло о сенсационных рекордах в технике и спорте, неверными шагами бредет к пропасти, почти уже желанной.
Когда в ноябре 1859 года отмечалась сотая годовщина со дня рождения Шиллера, вся Германия поднялась в едином порыве восторженного преклонения. Миру открылось зрелище, еще невиданное в истории: извечно разрозненный немецкий народ, прочно спаян-
619
ный им, своим поэтом. То было национальное торжество, и да будет таковым и наше сегодняшнее! Вопреки политическим извращениям, пусть расколотая надвое, Германия почувствует себя объединенной его именем. Но еще другим, более великим знамением должно явиться это торжество: пусть чествование его памяти пройдет под знаком широчайшего, универсального соучастия, как учит нас благородный пример гениального поэта, призывавшего к вечному союзу человека с древней матерью-землею. Пусть в годовщину его положения во гроб и воскресения из мертвых и в нас перейдет частица его незлобиво-могучей воли — воли к красоте, к истине и добру, к нравственной чистоте, к внутренней свободе, к искусству, к любви, к миру, спасительному сознанию собственного достоинства.
1955
ХУДОЖНИК КАК КРИТИК
1
Томас Манн в первую очередь художник. Его философская и критическая мысль неотделимы от того наплыва образов, которые не уставала порождать его творческая фантазия. В этом свете было бы правомерно утверждать, что Томас Манн всего более мыслитель там, где он всего более художник.
Подобно Пушкину, он требовал от повествовательной прозы «мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат», «…красота, — так писал Томас Манн, — не щегольство и не довесок, а естественная прирожденная форма всякой мысли, которая достойна быть высказанной». Но если, согласно французской поговорке, «для того чтобы сделать паштет из зайца, надобен заяц»[189], то для художественного произведения, в котором первенствующая роль по воле или, вернее, потребности автора отведена мысли, надобно, чтобы мысль была достаточно весома и разработана, то есть продумана «на стороне» (в чисто логической сфере); тем увереннее она займет свое место в союзе «волшебных звуков, чувств и дум» — в качестве последней из трех составных частей этой исчерпывающей триединой пушкинской формулы.
Томас Манн с самого начала своей литературной деятельности наряду с художественными произведениями — ранними новеллами и первым романом «Будденброки» — писал также и критико-публицистические статьи — частью в разъяснение собственного творчества, но также и такие, в которых он высказывался о писаниях своих современников, о немецком классическом
621
наследии, о великих памятниках мировой литературы и наконец о значительных общественных и общественно-политических событиях своего времени. Примечательно, что непосредственно перед смертью писателем был публично зачитан в культурных центрах обеих Германий его последний замечательный труд — «Опыт о Шиллере», потрясший силою мысли и блеском выражения всех, кому довелось присутствовать на этом выступлении.
Именно в этой речи Томас Манн скромно и гордо обосновал свое право говорить о Шиллере своей принадлежностью к «братству продуцирующего артистизма», иначе писателей-художников, которые — при всей разности масштабов — способны по-писательски интимно проникнуть в опыт их на́большего брата. Если даже допустить, что некоторые одаренные критики наделены почти той же силой проникновения, то и от них художник как критик будет отличаться совсем особым интересом критического познания, тем, что мы выше назвали обдумыванием «на стороне», вынашиванием в «чисто логической сфере» той мысли или тех мыслей, которым предназначена движущая и организующая роль в художественном творчестве писателя.
Все критические и теоретические высказывания Томаса Манна — как они ни значительны и ни замечательны сами по себе — стоят в прямой связи с его собственным творчеством, с борьбой за свое искусство и его назначение в современном обществе.
2
Никогда не говорили об искусстве так много, так вызывающе-парадоксально, так неприкрыто антинародно, как в годы, когда вступил на путь литератора молодой Томас Манн. То было время, когда капитализм уже дозрел до стадии империализма, а это привело к крайнему обострению всех общественных противоречий и к глубокому кризису буржуазной культуры. В изящной словесности тех лет укрепились течения, — символизм, импрессионизм и упадочнический (идущий не от Золя, а от Гюисманса) натурализм, более известные под собирательным именем декаданса. Все эти антиреалистические литературные «школы», возникшие одна за другой на стыке XIX и XX веков, прямо и косвенно отражали страх правящих кругов перед грозно ширящимся натиском угнетенных классов, открыто стремившихся к революционному обновлению человеческого общества и к уста-
622
новлению порядков, отвечающих интересам простого народа. Молодой Артур Шницлер в своем «Зеленом попугае» предсказывал верхам буржуазного общества гибельную судьбу французской аристократии du ancien régime («старого режима»), подобно тому как до него Верлен в бурлящей суете современной ему европейской действительности уловил «гиппократовы черты» Рима периода упадка,
Когда, встречая варваров рои́,
Акростихи слагают в забытьи
Уже, как вечер, сдавшего порядка.
................................
О, не хотеть, о, не уметь уйти!
Все выпито! Что тут, Батилл, смешного?
Все выпито, все съедено! Ни слова!
Лишь стих смешной, уже в огне почти,
Лишь раб дрянной, уже почти без дела,
Лишь грусть без объясненья и предела.
Но тот же страх перед неотвратимым будущим заставлял иных идеологов декаданса проникаться ярой ненавистью к существующему буржуазному обществу — с его еще не изничтоженными стеснительными для безудержной реакции демократическими традициями — наследием буржуазных революций, и с его немощной ханжеской моралью, способной разве что урезать «свободу» привилегированного меньшинства (в его личной и в его общественно-политической жизни), но никак не удержать в повиновении революционизирующийся пролетариат, народ, стоявший «в ножных и ручных оковах, собирая силы… к последнему штурму капиталистической тюрьмы» (М. Горький)[190].
Декаданс, как уже не раз отмечалось, — явление общеевропейское. В Англии к исходу долгого, еще вполне «благополучного», царствования королевы Виктории устаревший моральный кодекс буржуазного общества был насквозь изрешечен эффектным острословием Оскара Уайльда. «Цель всякой жизни — саморазвитие, — говорит его лорд Генри («принц Парадокс» из «Портрета Дориана Грея»). — Выявлять собственную сущность, для этого мы только и живем на земле. Но в наши дни каждый боится себя самого. Мы позабыли свой первейший долг — долг перед собственным Я». Почти в это же время во Франции выступил с позиций того же крайнего, ничем не обузданного индивидуализма убежденный последователь Уайльда[191], Андре Жид,
623
автор столь нашумевшего тогда романа «Имморалист», а в Германии, с силой, далеко превосходящей красноречие этих салонных пророков, Ницше ниспровергал худосочный духовный уклад буржуазного мира и филистерскую мораль «компактного большинства» (Ибсен) своих соотечественников — во имя культа «белокурой бестии», безжалостно попирающей немощных рабов капитала. Ненависть Ницше к тусклой буржуазной действительности была так велика, что порою ему диктовала философские афоризмы, столь двусмысленные, что они с успехом могли бы быть использованы в качестве революционных лозунгов врагами правящих классов. «Чем скорее люди научатся умерщвлять то, что бесспорно подлежит умерщвлению, — писал Ницше, — тем меньше у них останется поводов для умерщвления себе подобных. Чем… напряженнее они будут стремиться к величию, человеческому величию, тем смехотворнее им станут казаться времена, когда силу человека измеряли мощью его мускулов или накопленным запасом пороха и стали».
Вопрос только в том: что и кого признать подлежащим изничтожению?..
Такова, в самых общих чертах, была идеологическая обстановка, и молодой Томас Манн не мог не столкнуться с этим вавилонским столпотворением новейших идей. Дитя конца девятнадцатого века, он будет еще долгие годы ловить «последнее слово» буржуазной идеологии и буржуазной эстетической культуры. И если Томас Манн все же не погряз в философском и эстетическом декадансе, то прежде всего потому, что он был художником и что его искусство нуждалось, если можно так выразиться, в определенном этическом режиме. Конечно за художником и его творениями всегда стоит личность автора, стоит человек определенных воззрений. Но многого ли стоят и достаточно ли прочны абстрактные воззрения, все эти «наживные мысли», если ты не связан с ними кровно, то есть самоотверженным трудом, равнозначным делу твоей жизни? Для Томаса Манна таким делом его жизни было искусство, и притом его искусство.
Как художник Томас Манн был последовательным реалистом, иначе, говоря языком конца прошлого столетия, он принадлежал «к тем, для кого зримый мир существует». Пределов действительности (мира познаваемой природы и истории человеческого общества) он никогда не преступал. Область мифа,
624
мистических догадок и сновидений, была для него лишь эпизодом человеческой психологии в ее историческом развитии — не более (в этом пафос его позднейшей эпической тетралогии «Иосиф и его братья» и тесно примыкающего к ней рассказа о библейском Моисее — «Закон»); никогда социальные утопии, зыбкие предвосхищения будущего, не вторгались — даже под покровом реалистической видимости — в трезво воссоздававшуюся им картину его времени.
Художником-реалистом Томас Манн оставался и на поприще критики, политической публицистики и, наконец, философии и психологии культуры. И если он, уже в последние десятилетия своей жизни, говорит о будущем человечества, то это никак не утопия: «Новый мир, мир, социально упорядоченный единым планом, который освободит человечество от унизительных, ненужных, оскорбляющих достоинство разума страданий, — этот мир придет, — восклицает он к концу своей замечательной речи «Гете как представитель бюргерской эпохи», — и он явится плодом того великого отрезвления, к которому уже теперь стремятся все заслуживающие внимания умы… Он придет, ибо должен быть создан или, в худшем случае, введен путем насильственного переворота (курсив наш. — Н. В.) разумный внешний порядок, соответствующий ступени, достигнутой человеческой мыслью, для того чтобы душевное вновь могло получить право на жизнь и человечески чистую совесть».
Нет, это не утопия! Это предвидение будущего, строго обоснованное наукой и разумом, разумом, против которого так яро ополчались все философы декаданса, все темные народоненавистнические силы истории, варьируя на разные лады коварную мысль Мефистофеля:
Мощь человека, — разум презирай,
Который более тебе не дорог!
Дай ослепленью лжи зайти за край,
И ты в моих руках без оговорок!
Повторяем, манновское предвидение будущего — не утопия, а реальный учет выводов, к которым пришли основоположники научного социализма — Маркс, Энгельс и их великий продолжатель Владимир Ленин, а также учет всей практики первого (а в 1932 году и единственного) социалистического государства — Советской России.
625
Ни в малой мере не становится утопистом Томас Манн даже тогда, когда в той же речи призывает немецкого бюргера «мужественно принять это будущее», отрешившись от «жизневраждебной идеологии».
Отбросьте мертвый хлам веков,
Возрадуйтесь живому! —
этим двустишием Гете Томас Манн закончил свое выступление.
Да, и это не было утопией, а разве что еще не оправдавшей себя надеждой. Ведь немецкое слово «бюргер» — один из редких примеров терминологической неточности в столь богато терминологически разработанном немецком языке. «Бюргер» — это не только (а в манновском словоупотреблении и нисколько не) «буржуа»; это слово может означать и «citoyen» (эпохи французской революции 1789 года), и «гражданин», и, наконец, просто «интеллигент» — недаром Маркс говорит во множественном числе: о «бюргерских классах Германии». Иначе, здесь речь идет о той «средней прослойке» немецкого народа, руками которой и прежде всего чудотворной рукою Гете создавалась богатейшая культура немцев, немецкая наука и техника и столь высоко ценимая Лениным «старая великая германская поэзия». К потомственной интеллигенции, к кровным наследникам «великих сынов бюргерства», потерявшим (быть может, только на время?) волю к дальнейшему благородному служению своему народу, и был обращен призыв Томаса Манна 13 марта 1932 года на торжественном заседании Прусской академии искусств по случаю столетия со дня смерти Гете.
Надежды писателя, как известно, не оправдались. Уже в следующем 1933 году Гитлер был имперским канцлером, и немецкая интеллигенция подобно «господину из Рима» на гипнотическом сеансе (в рассказе «Марио и волшебник») удовлетворилась чисто отрицательным решением: не поддаться гипнозу нацизма. «Но, — рассуждает автор названного рассказа, — одно лишь «нежелание в чем-то участвовать» не может надолго стать содержанием чьей-либо жизни. Что-то не желать, а там и вообще ничего не желать, слишком тесно соседствует с «подчинением вопреки желанию», чтобы тут не пострадала идея свободы» (или хотя бы сохранилась возможность «стоять в стороне»). Тоталитарная нацистская империя быстро сломила эту непрочную оппозицию.
626
3
К столь четкой идейной позиции, вплоть до решимости заключить пакт с «новым миром», с «завтрашним днем истории», Томас Манн пришел лишь после долгих идеологических блужданий, с которых и начался его путь писателя и критика. Не будет преувеличением сказать, что в дни своей молодости он в большей или меньшей степени поддавался всем искушениям идеологии декаданса. Тогдашние властители дум немецкой интеллигенции — Шопенгауэр, Ницше и Вагнер — завладели и его незащищенным сознанием[192].
Или все-таки защищенным? — защищенным сутью собственного реалистического искусства?
Вдумаемся хотя бы в такое признание Томаса Манна: «Я ничего не повторял за Ницше дословно, не верил почти ни одному из его утверждений; но это-то как раз и сообщало моей страстной приверженности необычную глубину и сугубую прочность».
В том, что молодой литератор под незаслужившими его доверия утверждениями Ницше прежде всего понимал всю его «философию воли к власти», его кровавую «мораль господ», его культ сверхчеловека и «белокурой бестии», не подлежит никакому сомнению: ведь все это разъяснено самим Томасом Манном. Меньше всего он был склонен козырять с осанистым апломбом циничными сентенциями автора «Заратустры», как то: «Любовь к человеку меня бы изничтожила!», «Утопающего утопи!», «Ты идешь к женщине? Так не забудь прихватить с собою кнут!» и т. д., словом, всем портативным набором опасных пошлостей, которыми перекидывались распутные молодые снобы, «впоследствии разбойники» (то есть позднейшие гитлеровцы) за столиками мюнхенских кафе, подобно тому как при встречах обмениваются условными «манипуляциями» масоны. Для Томаса Манна Ницше был преимущественно «бесспорно крупнейшим и проникновеннейшим психологом декаданса». С этим можно было бы отчасти согласиться, с существенной, однако, оговоркой.
Да, не кто иной, как Ницше, обрисовал с беспощадной точностью литературный стиль декадентов, в отличие от Гете отнюдь не полагавших, что интерес произведения заключается в его идее, «которая воссоединяет частности… в некое целое, диктует эти частности и сообщает им подлинный смысл». Стиль декадентов меньше всего заботится о единстве; напротив, он
627
безыдейно фрагментарен. В книгах декадентов, по острому замечанию Ницше, «страница выразительнее главы, предложение ярче страницы, отдельное слово кричит, вырывается вперед, заглушая смысл предложения. Все вместе — артефакт (искусственная конструкция. — Н. В.)».
Обличая — так метко и так убийственно зло! — стилистическую и тем самым идейную несостоятельность декадентов (ведь, по Ницше, «исправить стиль» означало «исправить мысль»), сам-то он, этот «проникновеннейший психолог декаданса», себя к ним (в патологическом ослеплении) не причислял, явно не замечая, как фрагментарен его собственный философский стиль и что только фрагментарность, иначе: несведенность в недвусмысленное единство, эстетически отличает его мысль, всю его философию, от лапидарной брутальности нацистских декретов об учреждении лагерей смерти, где «в туман и в ночь» (in Nacht und Nebel) будут умерщвляться те, кто (по усмотрению этих подлецов) «бесспорно подлежал умерщвлению».
Правда, при жизни Ницше никто таких декретов не писал. Да и кому
было «умерщвлять», раз Заратустра-Ницше «еще нигде не повстречался со
сверхчеловеком», за которым бы признавалось «господское право» на убийство
(«все они, и великие и малые, очень похожи друг на друга, ибо во всех них
избыточно представлено слишком человеческое», — так говорит Заратустра).
И к тому же, по мнению Ницше, лучшим оружием для убийства был «не гнев, а
смех», что, пожалуй, уже сводило всю его кровавую философию к безобидному
литературно-теоретическому каламбуру (в духе столь ненавистного ему
«благодушного девятнадцатого века»). Это настолько ободрило либерального
датского ученого Георга Брандеса, кстати сказать, еврея по национальности,
которому правительство
Говоря о Ницше как о крупнейшем психологе декаданса, Томас Манн, собственно, имел в виду другое, а именно то, что автор «Заратустры» и «По ту сторону добра и зла» являлся наи-
628
более блестящим представителем эпохи декаданса, выразителем ее психологии. Что Томас Манн был в то же время и «страстно привержен» Ницше, это уже другой вопрос. Тем знаменательнее, однако, что он все же «не верил почти ни одному из его утверждений» и на поверку оказался его идейным противником. Ведь это с Ницше и ницшеанством полемизирует автор «Тонио Крегера», когда заставляет признаться своего героя (в письме к русской художнице): «Я восхищаюсь холодными гордецами, что шествуют по тропе великой демонической красоты и презирают человека, но не завидую им. Ведь если что может сделать из литератора поэта, то как раз моя обывательская любовь ко всему человеческому, живому, обыденному. Все тепло, вся доброта, весь юмор идут от нее…» Подобно Тонио Крегеру, Томасу Манну, писателю-реалисту, «нет никакого дела» до цезарей борджиа и фридрихов ницше…
Существует и другое признание писателя, утверждение, что он обязан Ницше познанием полноты жизни; но Томас Манн тут же делает оговорку, что мог бы воспринять «идею жизни» и непосредственно от Гете. Этой «идеей» он пытается восполнить философию другого кумира дней своей юности — Шопенгауэра, убежденного пессимиста и «проповедника смерти» (по выражению того же Ницше), проповедника индийской мудрости — идеи «нирваны», растворения во всемирном ничто. В одной из последних глав «Будденброков» философемы Шопенгауэра и Ницше возникают перед нами, как бы тщательно перетасованные рукою автора. Мы имеем в виду мысли, нахлынувшие на Томаса Будденброка после того, как попал в его руки «Мир как воля и представление» Артура Шопенгауэра (настольная книга юного автора романа). «Что есть смерть?.. — так рассуждает Томас Будденброк. — Она — возвращение после несказанно мучительного пути… Придет она, и всего рокового стечения обстоятельств как не бывало. Конец и распад? Жалок, жалок тот, кого страшат эти ничтожные понятия! Что кончается и что подвергается распаду? Вот это… тело?.. Разве каждый человек не ошибка, не плод недоразумения? Разве, едва родившись, он не попадает в узилище?.. Везде оковы, стены! Сквозь зарешеченные окна своей индивидуальности человек безнадежно смотрит на крепостные валы внешних обстоятельств, покуда смерть не призовет его к возвращению на родину, к свободе… Где-то в мире подрастает юноша, талантливый, наделенный всем, что нужно для жизни… статный, не знающий печали, чистый, жестокий, жизне-
629
радостный, один из тех, чья личность делает счастливых еще счастливее, а несчастных повергает в отчаяние, — вот это мой сын! Это я в скором времени — как только смерть освободит меня от жалкого, безумного заблуждения, будто я не столько он, сколько я… Разве я ненавидел жизнь, эту чистую, жестокую и могучую жизнь? Вздор, недоразумение! Я ненавидел только себя — за то, что не умел обороть ее. Но я вас люблю, счастливые, всех люблю, и скоро тюремные тесные стены уже не будут отделять меня от вас, скоро то, что вас любит — моя любовь к вам, — станет свободным; я буду с вами, буду в вас… с вами » в вас, во всех!.. — Он заплакал».
Курсивом здесь выделено все, что относится к ницшеанской струе в этом горьком и страстном размышлении, — струе, отнюдь не обильной и — на поверку — сполна растворившейся в полноводье шопенгауэровского начала. Читая эту пространную вы- держку, русский читатель невольно вспомнит предсмертные мысли Ивана Ильича из толстовской повести о его мучительной болезни и смерти-просветлении. («А если… я ухожу из жизни с сознанием того, что погубил все… и поправить нельзя, тогда что ж?» Но это сознание личной вины перед собою и людьми, удесятерявшее физические страдания героя повести, за час до его смерти видоизменилось: «Да, все было не «то», …но это ничего. Можно, можно сделать «то». Что ж «то»? — спросил он себя, и вдруг… ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, … все выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон… — Как хорошо и как просто… А боль? — спросил он себя. — Ее куда? Ну-ка, где ты, боль? — Он стал прислушиваться. — Да, вот она. Ну что ж, пускай боль. А смерть? Где она? — Он искал своего прежнего, привычного страха смерти и не находил его. — Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было. Вместо смерти был свет. — Так вот что! — вслух проговорил он. — Какая радость!»)
Скорей всего обо всем этом помнил и Томас Манн. Но только: «скорей всего», так как Лев Толстой и сам долгие годы находился под обаянием знаменитого трактата Шопенгауэра (в период наибольшего сближения с Фетом, тогда переводившим «Мир как воля и представление»).
То, что Томас Манн всецело подчинил шопенгауэровской сути философские афоризмы Ницше, вплетенные в монолог его героя, конечно, не случайно. Мог ли он поступить иначе, отражая духовную жизнь бюргерства после франко-прусской войны
630
1871 года, будучи писателем-реалистом? Ведь Шопенгауэр был в ту пору властителем дум почти всей мыслящей части бюргерства, наиболее чуткой и развитой буржуазной немецкой интеллигенции. Связанная духовно и материально с образованным «средним классом», она с сомнением и с толикой отчаяния смотрела навстречу новой эре — эре грюндерства, промышленного расцвета и бряцающего оружием империализма, ознаменовавшейся быстрым падением культурных интересов в широких кругах общества. Все это, естественно, отбросило многих буржуазных интеллигентов «назад к Шопенгауэру», который даровал разочарованным поздним поколениям старого бюргерства опасное «право на пессимизм», по выражению Томаса Манна (не лишенному оттенка иронии).
К тому же философия Шопенгауэра сообщала «Будденброкам», книге о распаде и вырождении одного семейства, а — расширительно — и о гибели стародавней бюргерской культуры и традиционного патрициански-бюргерского «образа жизни», необходимую весомость и глубину. И вдруг, озаренные мрачным светом пессимистической метафизики, острые сатирические зарисовки любекских сограждан обрели нежданную жизненность, стали трагикомическими персонажами большой исторической драмы. В полном противоречии с воззрениями на историю Артура Шопенгауэра, который решительно отрицал специфику (отличительный характер) отдельных эпох и формаций, полагая, что история «на каждой своей странице показывает одно и то же» и что различные главы в истории человечества, «в сущности, отличаются друг от друга лишь именами и датами», а посему содержание истории «едва ли представляет для человеческого духа достойный предмет серьезного и тщательного рассмотрения». Таков алогический[193] историзм философа-пессимиста.
Но именно этому «несерьезному» занятию — «тщательному рассмотрению» истории человечества и, в частности, немецкой истории в эпоху империализма, Томас Манн (начиная с «Будденброков» и до последних дней своей жизни) и предавался. Повторяем — в глубоком разномыслии с Шопенгауэром[194].
И — еще одно соображение, объясняющее, почему Томас Манн должен был подчинить все идущие от Ницше прославления «жестокой и могучей жизни» шопенгауэровской сути. Рафинированных пессимистов à la Шопенгауэр он видел вокруг себя в избытке — лишь наблюдай и зарисовывай; но с кого писать «сверхчеловека» Ницше? Ведь «сверхчеловек» — всего лишь
631
чисто теоретическая фигура. Не «демонического» же сердцееда, не арцыбашевского же Санина (в немецкой перелицовке) всерьез принимать за такового? Не было тогда еще и тех позднейших жутких карикатур на сверхчеловека в коричневых френчах и со свастикой на кокардах. Это нам преподнесла история лишь спустя три десятилетия. А то, что тогда репрезентовало пресловутую «мораль господ» — немецкое юнкерство во главе с напыщенным провозвестником «политики бронированного кулака» Вильгельмом II — никак не годилось для психологического романа, а разве что для хлесткой сатиры. Недаром Томас Манн подобно Чехову начал свою литературную деятельность в сатирическом журнале, а именно в бесспорно лучшем из них — «Симплициссимусе», где гремящие палашами рыцари XX века и дегенеративные потомки феодалов служили постоянной мишенью для саркастических фельетонов и карикатур. Томас Манн был даже ненадолго редактором этого журнала во время беспокойных скитаний по Европе его шефа Альберта Лангена, скрывавшегося от преследований за «оскорбление величества»[195].
В «Будденброках», как уже отмечалось, нетрудно обнаружить чисто сатирическую трактовку иных персонажей и событий — к примеру, графа Штрелица («мужчины весьма феодальных убеждений») или торговца хмелем толстяка господина Перманедера, и наконец всего преподавательского состава заведения, то бишь реального училища, в котором учился маленький Ганно Будденброк. И это тоже заставляет вспомнить о Чехове. Ведь у того и у другого писателя рудименты сатирического стиля одинаково легко уживались с лиризмом «серьезной» литературы. «А в поле была сущая война, — читаем мы в чеховской «Ведьме». — Трудно было понять, кто кого сживал со света и ради чьей погибели заварилась в природе каша, но судя по неумолкаемому зловещему гулу кому-то приходилось очень круто». Подчеркнутые нами лихие сугубо обывательские обороты (под стать лейкинским «Осколкам») ничуть не разжижают мрачного колорита рассказа, а, напротив, сообщают особую силу его нагнетающей жути. Совершенно так же и острые, как из-под пера художников-импрессионистов «Симплициссимуса» (Томаса Теодора Гейне и его товарищей), сатирические зарисовки автора «Будденброков» не идут вразрез с пронизывающим весь этот роман шопенгауэровским пессимизмом.
632
Да не подумает читатель, что за разговорами о Шопенгауэре и Ницше мы позабыли о третьем кумире молодого Томаса Манна — Рихарде Вагнере[196]. Но о нем речь еще впереди, когда надо будет коснуться подробнее темы мифа (в его понимании писателем). В «Будденброках» Манн посвящает вагнеровской музыке целый ряд проникновеннейших страниц и к тому же заимствует у Вагнера существенный элемент его оперного стиля — лейтмотив, постоянно повторяющуюся словесную (в pendant к вагнеровской, музыкальной) характеристику действующих лиц и однозначных житейских ситуаций — прием отнюдь не драматический, а исконно эпический, идущий еще «от Гомера», по убеждению юного романиста[197].
4
Заговорив об элементах сатиры, вошедших в чудесный сплав повествовательной прозы Томаса Манна, и вслед за тем — о лейтмотиве, перенятом у Вагнера «in usum poesis» (для пользования в поэтической, сфере), мы — на первый взгляд — обратились к проблеме, скорее относящейся к собственно художественной, чем критико-теоретической деятельности писателя. Но на поверку мы отнюдь не отвлеклись от предмета нашего рассмотрения: художник как критик не перестает бодрствовать в Томасе Майне и тогда, когда он работает над чисто художественными произведениями, сознательно заботясь об умножении изобразительных средств немецкой прозы[198], что без критического учета всего достигнутого искусством и в частности современным искусством едва ли возможно.
Нет ничего более «абстрактного» (в гегелевском употреблении этого термина)1[199] как просто «не принимать» новаторства своих коллег, начисто отрицать их творческие усилия (если, конечно, это доподлинно творческие усилия, а не наглое шарлатанство бездарной немощи). Томас Манн был очень далек от
633
такого «абстрактного критиканства». Он оценивал новейшие явления эстетической культуры с пристрастием кровно заинтересованного художника, под углом их пригодности для обогащения того, что он почитал истинным искусством, то есть — искусства реалистического[200].
Далеко не каждый, даже очень большой, художник способен на подобный критический объективизм. Для Льва Толстого, например, или для Ивана Бунина — в силу страстного «противления эстетическому злу» первого из них и преднамеренного эстетического консерватизма второго — всякий модернизм в искусстве был только возмутительной чепухой. Правда, Толстой, с его удивительно искренней артистической непоследовательностью, пренебрегая своей полемической позицией, признавался в симпатии к живописи французских импрессионистов и даже усматривал у Чехова (отнюдь не в порицание ему!) идущую от импрессионистов «пунктирную манеру письма»; более того, он утверждал, что после Чехова уже нельзя писать рассказы и описывать природу по старинке[201]. Но сколь же многое он отрицал начисто, «абстрактно», — не исключая театра Шекспира!
Иначе подходил к чужому, даже к чуждому, Томас Манн, или — в живописи — В. А. Серов. Французские импрессионисты как тип художника были чужды суровому русскому мастеру; но их виртуозное владение светом-цветом надо было завоевать для вящего торжества реалистического искусства. И оно было завоевано Серовым! Его «Девушка, освещенная солнцем» не уступает по свежести живописной техники лучшим полотнам импрессионистов. Но здесь (в отличие от французов или, скажем, К. Коровина) бесподобная трактовка света-цвета достигается не ценою утраты скульптурно точно выписанного реального образа девушки, который мог бы жить на полотне и при полном изменении пестрой игры легшего на него узора светотени. Это было именно завоеванием, а не ученичеством.
То же самое наблюдается и у Томаса Манна. У великих мастеров-реалистов — Гете и Толстого (без «воодушевляющего чтения» которого двадцатитрехлетний автор «Будденброков», по собственному признанию, никогда бы не создал своего романа) или у Шторма и скандинавов — он учился; у корифеев же модернизма — Пруста, или, скажем, Кафки — он только отвоевывал пригодное для реалистического искусства. В этом — принципиальное отличие двух видов освоения мастерства[202]
634
Но профессионально заинтересован был Томас Манн и этими чуждыми ему писателями. Ибо видел в их творческих усилиях не только бессмысленную блажь, но и обусловленное болезненной психикой века одностороннее, преувеличенное развитие отдельных черт субъективно воспринятой и субъективно же отраженной художником реальной действительности1, Так, в частности, проблему «времени» в специфической ее трактовке — противопоставление «субъективного» («переживаемого») времени — «объективному» (физическому, общественно-историческому), Томас Манн несомненно почерпнул у современных ему писателей-модернистов и, быть может, крупнейшего из них, автора «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, а также у стоявших за этими литераторами философов — Бергсона, Зиммеля, Гейдеггера[203] и т. д.; позднее к этой когорте примкнул и (оставшийся уже вне поля зрения Манна) Поль Сартр, эпигонствующий с одинаковым успехом-неуспехом на поприщах как философии, так и беллетристики[204].
Для всех этих литераторов (философов и беллетристов) «субъективное» время, в аспекте которого миг — в силу «интенсивности переживания» — длится вечность, а годы и десятилетия зияют ничем не заполненной пустотой, не превышая длительности мига, — и является «единственно истинным» временем; ибо «музыка» исторической эпохи, внятный смысл объективного общественно-политического) времени, до них, начисто неспособных предвидеть будущее, которым беременно настоящее, — не доходит, и все вокруг им представляется пугающим хаосом, сплошной «невнятицей», как любил выражаться Андрей Белый[205]. Это-то и дает писателям типа Кафки[206] незавидную свободу витать над эпохами, «смещать» временные[207] представления, произвольно тасовать хронологию исторического бытия.
Напротив, для Томаса Манна субъективное, «переживаемое» отдельным человеком время — лишь частный случай объ-
635
ективного времени. Сколько бы ни была «выключена» из объективного течения времени «равнины» волшебная гора — комфортабельный санаторий для пораженных туберкулезом обеспеченных буржуа, сам-то этот санаторий, где так «совсем по-другому протекает время», обязан своим существованием наличию капитализма, прочным доходам паразитирующих классов. Все это достаточно четко оговорено самим автором «Волшебной горы». И время «равнины», неподкупное «объективное» время, берет свой реванш: разразившаяся Первая мировая война извлекает из горной обители (с ее «микроклиматом» и «микровременем») беглеца Ганса Касторпа, подставив его под вполне «реальные» и «объективные» удары исторической эпохи — эпохи империализма[208].
«Волшебная гора» — не единственный «роман о времени», написанный Томасом Манном. В известном смысле может быть отнесен к тому же «жанру» и «Доктор Фаустус», этот «роман нашей эпохи», то есть эпохи империализма (на почве капиталистической Германии). Кропотливый анализ «переживаний времени» в нем отсутствует, но именно в этом романе писатель «витает» над десятилетиями, а при случае и над веками. Но совсем по-другому, без толики произвола, характерного для иных писателей «модернистского авангарда»[209]. В романе органически сплетаются дни и годы второй мировой войны, в которые пишется книга воображаемым мемуаристом Серенусом Цейтбломом, с его воспоминаниями о годах, прожитых возле друга, композитора Адриана Леверкюна, и рука его «первого биографа» одинаково дрожит от непрерывного ужаса перед лицом прошлого и настоящего. Что же касается обращений к более давним векам и, в частности, к эпохе Лютера и немецкой реформации, то они обусловлены скорбными поисками исторических корней новейшей «немецкой вины» перед человечеством и собственным народом. При всех «смещениях» времени мы здесь всегда имеем дело с единым временем, — тем более, если признать правоту Гете, считавшего (он говорит об этом в «Поэзии и правде»), что воспоминания — не простой «оттиск» отошедшей в прошлое действительности, что и они подвластны нашей фантазии. Так и Серенус Цейтблом судит суровым судом прошлое и настоящее своей родины с одной и той же этической вышки, на которую его возвело «объективное время», ход истории, сделавшей его свидетелем нацистских злодеяний.
Тема «времени» затронута (и опять по-другому) также и
636
в романе «Лотта в Веймаре». Но мы хотим на примере этого произведения показать, как было «завоевано» писателем-реалистом другое изобразительное средство, столь характерное для «технологии» литературного модернизма XX века — так называемый «единый поток сознания». Для писателей-декадентов типа Джойса или Кафки этот прием — подходящее средство для упрочения полного произвола в трактовке действительности и безудержного разгула случайности. В реалистическом же искусстве Томаса Манна «поток сознания» выполняет частную, хотя — в «Лотте в Веймаре», например, — и важнейшую функцию[210]. Исходя (мы в этом убеждены[211]) из замечательного рассуждения Гете: «Дайте себе отчет в том… что в нравственном обиходе повторные отражения не только заставляют ожить прошедшее, но и возносят его в сферы более возвышенного бытия, и вы невольно вспомните об энтоптических явлениях1[212], которые также от отражения в одном, а там и во множестве зеркал не только не блекнут, а все более ярко разгораются, и вы обретете символ для того, что уже не раз повторялось и ежедневно продолжает повторяться в истории искусств, науки, церкви, а также в полиическом мире», — повторяем: исходя из приведенного рассуждения Гете, Томас Манн предусмотрел в самой композиции романа — здесь лишь мимоходом затронутого — такие вот «повторные отражения» образа Гете — сначала в несовершенных зеркалах: в высказываниях собеседников Лотты Кестнер — Римера, Адели Шопенгауэр, Августа Гете, чтобы потом — лишь на 240 странице русского издания романа появляется Гете собственной персоной! — поставить перед читателем другое, неложно[213] свидетельствующее, зеркало.
Каким же должно было быть это зеркало? Каким-нибудь особенно характерным поступком или особенно глубоким высказыванием поэта? Но таких поступков и высказываний, которые бы сразу обрисовали всего человека, в природе не существует[214]. Нет, здесь надо было именно воссоздать живой поток сознания, большой «внутренний монолог» Гете, и не в какой-нибудь исключительный, кульминационный момент его жизни, а вот в такой серенький денек, затянутый «барашками» и «житейскими обла-
637
ками», сквозь которые прорывается немеркнущее солнце «величайшего немца». Как, опираясь на какие историко-литературные документы, был кропотливо реконструирован этот «поток сознания» великого человека и затем спрыснут живою водой искусства, об этом высказаться подробнее в данной статье нам не удастся. Ограничимся здесь констатацией того, что и в романе о Гете писателем отвоевано и поставлено на службу реалистической прозе еще одно изобразительное средство из технологического арсенала модернизма[215].
В заключение этой главки затронем еще одну тему, где мы, как и было обещано, вторично встретимся с именем Рихарда Вагнера, — тему мифа в его понимании Томасом Манном.
Для Вагнера обращение к мифу было — также и с точки зрения чисто художественной — своего рода восстанием против всего уклада буржуазной действительности с ее властью чистогана, с измельчанием человеческих чувств, страстей и характеров и, в частности (но для Вагнера отнюдь не «в частности»), — с ее «деградирующим искусством». Странно, что последнее было сказано в XIX веке, создавшем столько непреходящих худож ственных ценностей! Но Вагнер в первую очередь имел в виду западноевропейское оперное искусство[216], ставшее, по его убеждению, всего лишь «помпезным развлечением» для толстосумов, которые видят в композиторе только дорогостоящего ублажителя их убогих эстетических запросов. Возврат к мифу был, в глазах великого музыканта, однозначен с возвратом к народному началу в искусстве; уже потому, что мифы — плод народного творчества. Их-то и задумал Вагнер вновь водворить в сознание народа. Он почитал «недостойными музыки» даже легенды, если они были историческими легендами и посему отражали жизнь «исторического», то есть господствующего сословия, а не доподлинно народную жизнь. Вот почему он отверг владевшую им идею: положить в основу музыкальной драмы легенду о Фридрихе Барбароссе: она была для него недостаточно народна; и по этой же причине он опирался в своей работе над «Кольцом нибелунга» не на средневековую, феодально-придворную обработку мифа, а на древнейшее скандинавское сказание.
Но, декларируя народность как основу музыкальной драмы, своей музыкальной драмы, сам-то он, Вагнер, лишь очень скупо обращался к народному мелосу; его монументальные, громозд-
638
кие творения отмечены печатью рафинированнейшей музыкальной культуры конца XIX века и к тому же не только не выражают (в отличие от Гете в «Фаусте» или Бетховена в «Фиделио») народной мечты о справедливом новом общественном миропорядке, а начисто игнорируют социальную проблематику; если, конечно, не усматривать таковую в известном четверостишии из «Мейстерзингеров»:
Zerging’ in Dunst
Das heil’ge Röm’sche Reich,
Uns bliebe gleich
Die heil’ge deutsche Kunst1.
Антисоциологизм, пренебрежение политикой, присущие Вагнеру, пришлись весьма по вкусу официальной Германии: ведь как-никак этот «гамельнский крысолов», со своим оркестром вместо дудочки, уводил народ с арены политической борьбы. «Ковка меча Зигфрида» приятно ассоциировалась в мозгах немецкой военщины с бесперебойной работой Крупповских заводов, и вот уже на личной машине Вильгельма II была водворена сирена, посильно воспроизводившая «музыкальную формулу Зигфрида» при проезде «его величества» через Бранденбургские ворота. Томас Мани был, конечно, прав, возражая против попытки заправил вильгельмовской и, позднее, гитлеровской империи причислить к своим «участника восстания в Лейпциге 1849 года», народолюбца Вагнера (но ведь вместе с тем и близкого друга «короля-романтика» Людовика II Баварского?[217]). Но Томас Манн долгое время упрямо замалчивал или даже не замечал того бесспорного факта, что сам Вагнер давал достаточно веские основания для столь тенденциозно-корыстного истолкования его музыкальной драмы. Этот факт был им четко отмечен и раскрыт в его реакционной сути лишь после Второй мировой войны (в «Истории создания «Доктора Фаустуса», 1949 г.).
В глубоком отличии от Вагнера, Томас Манн, обращаясь к мифологической теме, никого не звал назад, в доисторические дали, «в туман и в ночь» политического и исторического алогизма. В одной из своих статей о великом композиторе писатель воспроизводит очаровательную жанровую сцену — чтение Вагнером в домашнем кругу «Классической Вальпургиевой ночи»
639
Гете. «Со слезами артистического восхищения в старческих глазах» Вагнер воскликнул: «Это едва ли не самое оригинальное и художественно совершенное из созданий Гете. Какое небывало-своеобразное воскрешение античности, и в столь непринужденной форме, с таким избытком юмора и гениальной живости воображения, и к тому же — на доведенном до тончайшей изощренности языке!»
Но так — в домашнем кругу. Публично, в печати, Вагнер никогда столь восторженно о Гете не отзывался. И понятно: Гете был ему враждебен, был прямым его антиподом, — уже тем, что так совсем по-другому подходил к баснословным преданиям, к мифам, — без жреческого кадильника в руке, напротив, с иронией сына просвещенного века. Гете любовался детской наивностью древних мифотворцев и любовно пародировал самобытность их простодушно-мощных поэтических вымыслов, в которых прачеловечество силилось раскрыть темные, тревожные загадки мира и человеческой плоти. Томас Манн, как и Гете-мифолог, видел в мифах (об этом выше уже говорилось) всего лишь эпизоды человеческой психологии в ее историческом развитии, эпизоды большой давности, но для нас не поблекшие благодаря непрерывно повторявшимся «отражениям» — пересказам мифов из века в век, из тысячелетия в тысячелетие, вплоть до позднейших их воссозданий великим Гете и, спустя еще один век, Томасом Манном, — воссозданий, проникнутых мягкой иронией и веселым юмором, призывающих и читателя к такому же отношению к легендам, дошедшим до нас из допотопной глуби прошлого. Стоит ли оговаривать, что обращения к мифу Гете и Томаса Манна, при их принципиальном сходстве, резко отличаются друг от друга — не только из-за разности художественной сути обоих писателей, но и в силу эволюции литературной технологии и резкого несходства идейной проблематики, порожденной разными историческими эпохами и по-разному занимавшей и занимающей интеллект и фантазию их современников.
Область мифа?.. На стыке XIX и XX столетий она считалась бесспорным достоянием мистически настроенных поэтов-символистов (в Германии — поэтов и культурфилософов из так называемого «круга Стефана Георге»). Но что остается от их кликушеской патетики при сравнении их надуманной «продукции» с мифологической эпопеей «Иосиф и его братья», где библейское предание стало вдруг таким реальным благодаря соседству
640
с археологически прочно реконструированным куском египетской истории? И удивительно: отнесенность повествования в мифологическую даль не оторвала сказания о библейском Иосифе от современнейшей проблематики и даже не лишила его тенденциозной поучительности.
Убежденный писатель-реалист, Томас Манн завоевал для своего искусства и эту область, полемически преобразовав ее смысл.
Такие завоевания — всегда полемика, всегда переосмысление, осуществленное художником как критиком. И, наоборот, учение у великих мастеров родного тебе по духу искусства (а для Томаса Манна таким было искусство реалистическое) — нисколько не критика, а только страстное ученичество, страстное соперничество, наконец, столь же страстное подпадение под вразумляющее воздействие совершенных образцов искусства. «Я утверждаю, — сказал однажды Гете Эккерману, — если истинный живописец пройдет мимо стен вот этой комнаты и только скользнет беглым взглядом по рисункам великих мастеров, которыми я ее украсил, то он, коль скоро в нем горит хоть искорка гениальности, уйдет отсюда другим, возвысившимся над собою художником». Но повторяем, такое неполемическое ученичество — ничуть не критика, а только причастность к «издревле сладостному союзу, связующему меж собой» великих и малых мастеров. Прямого отношения этот вид освоения мастерства к нашей статье «Художник как критик» не имеет.
Напротив, описанное в этой главке «браконьерство» в дебрях чуждого художнику-реалисту антиреалистического искусства с целью обогатить технологию реализма — несомненная полемическая критика.
Более того, на этом поприще критического освоения чуждого Томас Манн в большей степени критик, чем, скажем, в его статьях об отдельных писателях — о Шамиссо, Фонтане, Августе фон Платене, или даже о Ницше и Вагнере. Конечно, и в этих статьях содержатся отдельные чрезвычайно тонкие критические наблюдения, которым профессиональный критик может только позавидовать; но художник-критик подчеркивает в творчестве и в высказываниях других крупных и крупнейших писателей преимущественно то, что сродни ему и его искусству, благодаря чему их литературные портреты в известном смысле становятся автопортретами.
641
Так, когда в статье «Старик Фонтане» (1910) Томас Манн утверждает весьма спорную мысль, что основной проблемой всего творчества Фонтане является якобы усмотрение «противоречия между искусством и жизнью», он по сути приписывает ему проблематику, характерную для его собственного творчества в пору создания «Тонио Крегера», «Тристана» и «Смерти в Венеции». Совершенно так же, когда писатель в своем остроумном эссе о Шамиссо (1911) говорит об авторе «Петера Шлемиля»1: «Претворив свои страдания в книгу, Шамиссо поспешил прорвать кокон своего “кукольного” прозябания, он становится оседлым, отцом семейства, членом академии: его почитают как мастера. Только “вечная богема” считает все это скучным», — мы здесь (кто станет спорить?) имеем дело прежде всего с биографической справкой о Шамиссо, и только словечко «поспешил» да сентенция о «вечной богеме» тут звучат как признание самого Манна; тем более, что почти то же самое он говорит и о Густаве Ашенбахе из «Смерти в Венеции», а значит и о самом себе. Но хватит о таком скрытом автопортретировании в историко-литературных работах Томаса Манна. Заметим только, что подобное сближение с собою (кое-где граничащее почти с отождествлением); в статьях о Ницше становится уже опасным, поскольку критически переосмысленный и преображенный, «манновский» Ницше (тонкий психолог и эстетик по преимуществу), пожалуй, и мог бы сгодиться для культурного обихода демократической современности, но никак не исторический, всамделишный Ницше.
Даже в 1947 году, в статье «Философия Ницше в свете нашего опыта», он продолжает его спасать от гнева демократии[218]. Об опасностях его учения Томас Манн теперь говорит достаточно четко. Для Ницше, как и для Шопенгауэра, отмечает писатель, «жизнь равнозначна искусству и лживой видимости, и только». Жизнь Ницше считает нужным оборонять, с одной стороны, от шопенгауэровской пессимистической метафизики и, с другой, от оптимистов, верящих в благо прогресса и тем самым способствующих «социалистическому восстанию рабов». Социализм и демократия для Ницше — синонимы гибели культуры. Он сторонник войны. «Мысль, что правое дело превращает войну в войну священную», для Ницше «слишком моральное» утвер-
642
ждение; напротив, «добрая война делает любой поступок священным; вся жизнь — лишь следствие войны, да и само общество — только ее средство».
Весь этот реакционный бред увенчан культом «белокурой бестии», «ликующего чудовища», которое «возвращается как ни в чем не бывало, словно со студенческой пирушки, после кровавых убийств, грабежей и пожаров, насилий и пыток». А «в утешение неженкам» сообщается, что негры-де «невосприимчивы к боли». Все это «предварение фашизма», «уже фашизм»! — Томас Манн не спорит против очевидности. Но Ницше, в глазах Манна, все же не фашист; для этого он-де слишком аристократ, слишком кабинетный ученый, слишком тонкий знаток европейской культуры. Глубоко предосудительная верность былым юношеским увлечениям! Разве, к примеру, царский министр С. Ю. Витте не был умным администратором и дипломатом? В молодые годы он даже мечтал быть «чистым математиком», да и вообще мало походил на охотнорядца. Это, однако, отнюдь не помешало Витте стать инициатором создания «охраняющих правительство массовых организаций», то есть попросту черных сотен…
Конечно, и в статьях и речах о Лессинге или Шиллере, Гете или Толстом можно без труда уловить черты такого же автопортретирования. Но здесь подобные отождествления с собою имеют совсем другой смысл. Здесь речь идет об установлении здоровой традиции немецкой и европейской культуры.
5
Нам остается проследить эволюцию воззрений писателя на искусство и на его роль в человеческом обществе, иначе, проблему: художник и общество, к каковой мы относим и политические высказывания Томаса Манна.
Первая по времени написания статья, в которой Томас Манн коснулся вопроса о назначении искусства, — это «Бильзе и я» (1906). Причина, по которой она возникла, достаточно забавна. Появление на книжном рынке романа «Будденброки» и его из ряда вон выдающийся успех чрезвычайно всполошили любекских обывателей: с тревожным смущением заметили они неоспоримое сходство иных сатирических зарисовок Манна с внешним обликом и характером многих почтенных любекских
643
граждан. «Tua res agitur paries cum proxima ardet!» (что в переводе из Горация на русский язык значит: «Дело коснулось тебя, коль пылает стена у соседа!») Так можно ли было не исполниться негодования к автору «Будденброков», как-никак принадлежавшему «к их кругу», сыну любекского сенатора и оптового торговца? Ведь завтра он и тебя выставит в смешном виде! Дошло до того, что во время одного громкого любекского процесса по делу о злоупотреблениях местной печати «поверенный жалобщика особенно часто и с неизменной суровостью упоминал» имя автора «Будденброков», утверждая, что его книга — типично «бильзевский роман». (Дело в том, что незадолго до того лейтенантом Бильзе был опубликован пасквиль «Маленький гарнизон», в котором обиженный офицер не слишком литературно, но весьма ядовито сводил счеты со своим начальством, за что и поплатился воинским званием.)
Томас Манн ответил своему незадачливому обвинителю с веселой язвительностью бывшего сотрудника «Симплициссимуса», так-таки сделав и из него потешную карикатуру («…Гордо выпрямившись, он стоит перед нами в своем запальчивом недомыслии»).
Ссылаясь на «великие и величайшие имена», в том числе и на Тургенева и Гете, Вагнера и Шекспира, автор «Бильзе и я» указал, что многие «бесспорно настоящие художники» предпочитали «вместо того чтобы свободно изобретать… опираться на нечто данное, и охотнее всего на действительность». Дар изобретательности, по убеждению Манна, «всего лишь второстепенный дар». Недаром же Тургенев в заметке «По поводу «Отцов и детей» делает признание (приведенное в «Бильзе и я» в подтверждение авторской позиции): «Не обладая большою долей свободной изобретательности, я всегда нуждался в данной почве, по которой я мог бы твердо ступать ногами. Почти то же произошло и с «Отцами и детьми»; в основание главной фигуры, Базарова, легла одна поразившая меня личность молодого провинциального врача».
Свою статейку, написанную в защиту «Будденброков» и права писателя на претворение действительности в книгу, Томас Манн назвал «своего рода маленьким манифестом».
Что же провозглашалось в этом первом манифесте молодого писателя?
Когда-то Наполеон цинично заявил «dans le cercle des ses admirateurs» (в кругу своих обожателей), что обращения к на-
644
роду должны быть «кратки и неясны». Едва ли молодой Томас Манн следовал его наставлению, но его краткий манифест и в самом деле далеко не ясен, далеко не свободен от теоретических противоречий. Привычные идеалистические концепции и мистико-метафизические понятия в «Бильзе и я» еще незаконно сожительствуют с реалистическим пониманием существа и назначения искусства; и это, спешим заметить, — только к чести писателя: ведь впоследствии, набравшись силы, эти реалистические тенденции в значительной степени «снимут» метафизическую основу его эстетической мысли. Но в «Бильзе и я» оба эти гетерогенные философские начала еще находятся в неосознанном равновесии.
По убеждению молодого Манна, писатель-художник не столько «изобретает», сколько «одушевляет» отображаемую действительность. «Одушевляет»? Это двусмысленный термин. Если он равнозначен «углублению» действительности, пусть даже «субъективному углублению» (в смысле художественной типизации действительности), его можно было бы принять; но если такое субъективное ее углубление приводит к «бездонной пропасти, отделяющей действительность от… произведения» художника, «к различию по существу, навсегда (курсив наш. — Н. В.) отрывающему мир реальности от мира искусства», как выражается Томас Манн, то этот термин — боевой лозунг крайнего эстетического индивидуализма, который превращает действительность всего лишь в материал для произвольной игры художника, а это уже означает разрыв с реализмом.
Что же тогда еще может значить та «емкая формула» Томаса Манна (по выражению Б. Л. Сучкова1), согласно которой художник должен «глубоко познавать и прекрасно воплощать»? В статье «Бильзе и я», где по-шопенгауэровски мир признается «моим представлением, …моим переживанием, моим сном, моими страданиями», — очень мало; но в искусстве, в романе «Будденброки», например, — очень много. Только благодаря «глубокому познанию» действительности Томасу Манну удалось в этом романе показать («прекрасно воплотить») процесс разрушения старой бюргерской культуры и вековых патрицианско-бюргерских устоев в результате беспощадного наступления новой буржуазии эпохи империализма, буржуазии, провозгласившей своей моралью отрицание всякой морали. И если
645
в «Бильзе и я» говорится о «художественной точности», якобы враждебной всякой действительности, способной выслушивать «только вялые речи», но не «правдивое слово», то автор здесь, собственно, имеет в виду не действительность «вообще», а буржуазную действительность, точнее буржуазную публику с ее «духами, разговорами, трещащими по швам атласными талиями и некрасивыми лицами — лицами, по которым видно, что эти люди не способны[219] ни хорошо говорить, ни хорошо поступать».
Но эту злую (в силу «художественной точности») характеристику буржуазной толпы Томас Манн дал несколько лет спустя, в своем «Этюде о театре» (1910); в «Бильзе и я» он о социальном лице враждебной искусству действительности не распространяется. Искусство здесь трагически противопоставлено всему реальному миру, всякой действительности. Искусство, духовная культура покуда еще понимаются писателем в духе философского пессимизма Шопенгауэра: как сила, призывающая человека не к жизни, а к смерти, как сфера, куда осознавшая всю тщету земных усилий и буржуазного преуспеяния бюргерская интеллигенция скрывается от духовной опустошенности окружающего ее социального бытия.
Все это, на первый взгляд, так характерно для писателя-декадента. Но был ли молодой Томас Манн декадентом? Позднее он скажет о себе: «Я принадлежу к тому распространившемуся по всей Европе поколению писателей, вышедших из декаданса и, казалось бы, призванных быть его летописцами и аналитиками, которые вместе с тем возымели решимость освободиться и отречься от декаданса или, выражаясь более пессимистично: ощутили в сердце своем позыв от него отречься и по мере сил преодолеть декадентство и нигилизм. Более зоркие умы найдут во всех моих работах следы такого устремления, попыток и доброй воли».
Это было написано Томасом Манном в его «Размышлениях аполитичного» накануне отречения писателя от шовинистических настроений и воинствующего немецкого национализма и перед его ничем позднее уже не поколебленным[220] решением: стать под знамя демократии. Но следы поисков Манна, направленных на преодоление соблазнов декаданса, восходят и к самым ранним его сочинениям. В отличие от писателей-декадентов, самодовольно упивавшихся «перезрелой утонченностью» своих творений (сколь немногие из них выдержали испытание временем!), Томас Манн чутьем большого художника-реалиста угадал еще
646
в «Будденброках», что пресловутый «fin de siècle» означает отнюдь не конец «календарного» века, одарившего господствующие классы новыми эстетическими изысками. Истекали не последние годы, дни и часы девятнадцатого столетия; истекали последние сроки существования капиталистической эры, кончалась эпоха бюргерства. И если автор «Будденброков» еще не опознал истинных «могильщиков капитализма» — революционного пролетариата, быть может, даже приписывал ему политическое невежество бастующих грузчиков ганзейского города, которых в 1849 году сумел «укротить» консул Иоганн Будденброк, то он с тем большей отчетливостью видел натиск новой буржуазии, которая торопила ход истории, содействуя своей деловой горячкой быстрейшему достижению капитализмом высшей, финальной, стадии — империализма[221].
И картину этой «эпохи конца» (стадии загнивания и распада капиталистического общества) Томас Манн написал не в полутонах декадентской «невнятицы», а прибегнув к проверенным изобразительным средствам европейского критического реализма XIX века — великих русских, французских и, отчасти, скандинавских романистов. Как дань не столько художественному, сколько философскому декадансу, в «Будденброках» ощущаются только метафизические категории, заимствованные у Шопенгауэра и Ницше; но не они определяют суть романа, а подлинная реальность отображаемой действительности. Томас Манн и в первом своем романе не «декадент», а летописец определенного периода в истории немецкого бюргерства и аналитик причин, породивших этот период. Он и в дальнейшем будет неложным зеркалом новых глав в истории его родины и в духовной жизни ряда поколений немецкого бюргерства, зеркалом, столь точно отражающим историческое бытие буржуазии и буржуазной интеллигенции, что это, по правильному утверждению писателя, «уже означает отход от буржуазной формы существования и, пусть беглый, загляд в новое», в эпоху социализма.
Пафос статьи «Бильзе и я», несмотря на всю ее теоретическую нечеткость и противоречивость, — все же — пафос реализма. Ведь это о реалистической аналитике идет речь, когда автор «маленького манифеста» говорит: «Взгляд, которым смотришь на внешний и внутренний мир как художник, совсем не тот, каким ты смотришь на них как человек: этот взгляд одновременно и более холоден, и более страстен. Как человек ты
647
можешь быть добрым, снисходительным, любвеобильным… но коль скоро ты художник, некий демон заставляет тебя “наблюдать”, молниеносно и с мучительной злобностью подмечать каждую деталь, характерную в литературном смысле, типически примечательную, открывающую перспективы (будь то расовый, социальный или психологический признак), и фиксировать ее, ни с чем не считаясь, как будто нет у тебя никакого человеческого отношения ко всему “увиденному”; и в “произведении искусства” все это выступает наружу». Это признание проливает должный свет на приведенную выше формулу: «глубоко познавать и прекрасно воплощать»; но это, вопреки убеждению автора, не «субъективное углубление», а, напротив, способность большого художника видеть действительность в ее многообразных проявлениях, не такой, какой бы он хотел ее видеть, а в истинном, объективном ее значении. Повторяем: в этом одновременно холодном и страстном «наблюдении» — истинный пафос «манифеста» молодого писателя-реалиста, а не в отмечаемой им извечной трагедии, разобщающей искусство, художника — с действительностью, со «здоровым» человечеством. Более того, под этим углом, шопенгауэровское «мир, который есть мое представление» похоже уже на ироническое задабривание читающего мещанства: «Не о вас идет речь, совсем не о вас, будьте же покойны…»[222]
Но не случайно говорится в «Бильзе и я» и о трагическом противоречии искусства — реальности, художника — обществу. В ту пору Манн еще считал его извечным, и эта мысль легла в основу трех его рассказов о художнике: «Тристан» (1902), «Тонио Крегер» (1903) и «Смерть в Венеции» (1911). В каждом из этих рассказов метафизическая антитеза: искусство и реальность, их абсолютная, «извечная» отобщенность друг от друга, подвергается аналитическому «наблюдению», реалистической критике. «Герой» первого из названных рассказов — «Тристана», — писатель-декадент Детлеф Шпинель, автор, как ни «удивительно», всего лишь одного романа, изданного по всем правилам новейшего декадентского полиграфического искусства, где «каждая буква… походила на готический собор». На более продуктивную литературную деятельность его, видимо, не хватало; и, надо думать, именно потому, что, в отличие от автора «Тристана» и «Бильзе и я», он чурался «наблюдений». «Проходя мимо этой дамы, — признается Детлеф Шпинель госпоже Клетериан, — я едва успел окинуть ее взглядом; по-настоящему, я ее
648
не видел. Но смутной тени, мелькнувшей передо мной, было достаточно, чтобы разбудить мое воображение, и я унес с собою прекрасный образ…» — «Вы всегда так смотрите на красивых женщин…? — «Да, сударыня; и это лучше, чем глазеть грубо и жизнежадно и уносить с собой воспоминания о несовершенной действительности»… — «Жизнежадно… Вот так слово! Настоящее писательское слово, господин Шпинель!»
Настоящее слово писателя-декадента! — скажем мы, и, надо думать, в полном единомыслии с Томасом Манном. Но такое общение его со «смутными тенями», а не с полнозвучной и полноцветной «несовершенной действительностью», такая «свободная игра» с призрачным миром обречена на бесплодность. «Свободной фантазии» здесь хватает разве что на один «не очень объемистый роман». Уже потому, что поверхностно-беглым взглядом, чураясь «наблюдений», нельзя усмотреть подлинные конфликты, которыми полна «несовершенная», но живая действительность. Последовательно декадентская литература — бесконфликтна (как нашумевший роман Гюисманса «Наоборот»). Никогда не удалось бы декаденту Шпинелю, в отличие от автора «Тристана», выявить пустоту буржуазного существования и опустошенность буржуазной эстетической культуры. Декадентская литература — безобидное (ибо некритическое) отражение вырождающегося буржуазного общества, которому она служит пустым — в своей рафинированности — развлечением. Недаром роман Детлефа Шпинеля развертывается на фоне «светских салонов, …битком набитых изысканными вещами…» Читая любовные описания всей этой роскоши, «сразу можно было себе представить господина Шпинеля в мгновение, когда он морщит нос и восклицает: «Боже, смотрите, как красиво!»
Кажется странным, что при столь острой и недвусмысленной полемике с декадансом в жизни и в искусстве автор «Бильзе и я» сохранил в своей статье рудименты «трагической антитезы» — искусство и действительность, и «теории игры». Что это? Только ли отставание познания теоретического от художественного? Томас Манн слишком быстро пронзал теоретической мыслью свои художественные наития, чтобы можно было этому поверить. На вопрос, почему автор статьи «Бильзе и я» продолжал трактовать трагически проблему: художник и общество, отвечает второй рассказ о художнике — «Тонио Крегер». Любовь к жизни, любовь к простым людям — по ней тоскует писатель
649
Тонио Крегер, alter ego Томаса Манна, — по этим «белокурым и голубоглазым», знать не знающим о «духе», о высокой культуре и о его, Тонио Крегера, изощренном словесном мастерстве. А писать лишь для тебе подобных «все же становится невмоготу». Правда, Тонио Крегер знает о том, что существует другая, «святая», «достойная преклонения русская литература». Но совместима ли она с его пресыщенностью, с его «устало-ироническим отношением к любой истине»? «Святая русская литература» на это отвечает устами Достоевского: «В поэзии нужна страсть, нужна ваша идея, и непременно указующий перст, страстно поднятый. Безразличное же… воспроизведение действительности ничего не стоит, а главное, ничего и не значит»1[223].
Тонио Крегер почти подходит к разгадке трагедии отобщенности его (и раннего Томаса Манна, конечно) литературной деятельности от общества, от народа: «Все понять — значит все простить? Не уверен». Ведь в иных случаях «достаточно прозреть предмет, чтобы ощутить смертельное отвращение к нему» (а отнюдь не примиренность). Не «правдивое слово» претит «всякой действительности», как полагает автор «Бильзе и я», а не до конца правдивое слово, иначе релятивизм — художественно-познавательный, этический, политический. Но, конечно, с «до конца правдивым словом» не следует обращаться ко «всякой действительности», к тем рафинированным буржуазным интеллигентам, которые объявляют любую истину «уже устаревшей». Святая русская литература дарила свою любовь народу, обращалась к нему или к его печальникам, страстным истцам народа, мечтавшим о справедливом устройстве общества. Тонио Крегер (и стоявший за ним Томас Манн) ошибаются социальным адресом, мечтая о сближении «с простыми, бездумными и голубоглазыми», с белокурыми Гансом Гансеном и Ингеборг Хольм. «Простота» этих «бездумных бюргеров» поистине «хуже всякой лжи». Это они (и им подобные) бездумно «примут» милитаризм кайзера Вильгельма II, а там и «тысячелетнюю империю» Гитлера: «правдивое слово» — не про них…[224]
Третий рассказ о художнике, «Смерть в Венеции» (1911), как ни прекрасно он написан, мало что прибавляет к проблематике первых двух. Посланный им вдогонку, он разрабатывает сомнительную мысль о «темных источниках классически ясного
650
искусства». Если «Тристан» — острая сатира, а «Тонио Крегер» — горячая исповедь, то «Смерть в Венеции» — всего лишь тонкий психологический или психоаналитический этюд, написанный тем совершенным, точно дозированным стилем, который автором рассказа был задуман как «пародия на образцовый стиль мастеров классической прозы». Как пародия? Знаменательнейшее признание! Да, пародия может быть, в известном смысле, «новым» словом в искусстве, может быть даже подсобным полемическим средством или приемом. Но доподлинно новое слово — мысль, высказанная в упор для приумножения познавательного опыта человечества — обычно до пародии не нисходит или отводит ей лишь незначительный участок в обширном общем замысле[225].
«Смерть в Венеции» — не было таким «сказанным в упор» новым словом. В годы непосредственно предшествовавшие первой мировой войне творчество Томаса Манна, достигнув значительной зрелости, «стабилизировалось», замкнулось в кругу идей, уже ставших привычными. Новое слово было сказано писателем лишь после того как «раздался громовой удар войны 1914 года». То был, как сказал Томас Манн, — «всё взбудораживший, всё взорвавший и в корне изменивший удар. Он возвестил конец буржуазно-эстетической эпохи, в атмосфере которой мы выросли, и открыл нам глаза на то, что впредь мы уже не сможем жить и писать по-былому».
Правда, «все взбудораживший» громовой удар 1914 года на первых порах заставил писателя заявить о своей приверженности к консервативному немецкому образу жизни и о враждебности к прогнившей буржуазной демократии Антанты; но, уже дописывая свои «Размышления аполитичного», Манн приветствует сближение новой, послевоенной, Германии с Советской Россией, что по сути зачеркивало почти все, что было сказано в этой книге. Недаром же он выпустил ее в свет, снабдив выразительным эпиграфом из Мольера: «Какого черта он пошел на эту проклятую галеру?»
К прошлому, ко временам довоенной Европы, обращено и художественное творчество Томаса Манна первых послевоенных лет, его роман «Волшебная гора» (1923). Но именно в нем автор прощается с релятивизмом былых воззрений, своих и европейской, в частности немецкой, интеллигенции. Творец этого замечательного «романа о времени» (и о «довоенном времени») стоит над идеологической схваткой «авангардиста реакции»
651
Нафты со старомодным либералом Сеттембрини, позднее становящимся на сторону Антанты, ибо его закостенелая политическая мысль так и не постигла, что война 1914—1918 годов была с обеих сторон империалистической. Томас Манн уже ясно уразумел, что и та, и другая «точки зрения» не только лишь относительно верны, но и вовсе несостоятельны в свете конечного смысла всего исторического развития человечества, его завтрашнего дня — социализма.
Ясно? Едва ли вполне. Именно это и побудило писателя — для более полного преодоления собственного релятивизма — «обдумать на стороне», в чисто логической сфере, свою идейную позицию. С этой целью он пишет ряд статей и речей: «О немецкой республике» (1924), «Об учении Шпенглера» (1924), «Гете и Толстой» (1922) и «Парижский отчет» (Дневник 1926 г.); к ним примыкает и позднее написанная — «Немецкое обращение. Апелляция к разуму» (1930). Во всех этих эссе много сбивчивых рассуждений, много противоречий, но цель каждого из них — преодоление релятивизма, недвусмысленные «да, да!» или «нет, нет!» в ответ на вопросы, выдвигаемые современностью.
В речи «О немецкой республике» писатель пытается доказать совместимость идеи республики со старой, по духу консервативной, традицией немецкой культуры, и это нельзя расценивать иначе, как несостоятельное стремление воссоздать ложную картину «сплошного потока» якобы неизменно передовой (хотя бы в «сокровенном ее смысле») бюргерской идеологии. И это-то после реакционного философствования немецких романтиков, Ницше и Шопенгауэра? Чего стоит, к примеру, мысль Новалиса, в которой Манн тогда усматривал залог республиканского «сочетания свободы (в смысле «полнейшего индивидуализма» — Н. В.) и равенства», — мысль о том, что «лишь из экономических соображений» мы довольствуемся «одним королем»; в противном случае мы были бы «все королями». Ведь эта романтическая галиматья если и переносит нас на реальную почву, то разве что в патрицианскую Венецию или в патрицианский же Любек, — а какая уж там «демократия»!
Поистине так «не по-французски», то есть не в духе классического революционного буржуазного республиканизма, не говорил еще ни один республиканец. Правда, «королем республики» Томас Манн с шутливой почтительностью провозглашает сидевшего в президиуме Герхардта Гауптмана, тогда еще непо-
652
винного в заигрывании с нацистами, но ведь наряду с ним и социал-предателя, «папашу Эберта», которого тот же Манн в 1945 году совершенно правильно характеризует как палача немецкой революции 1918 года. Все это, конечно, «болезни роста» демократического сознания писателя. Но как же уродливо замедлен этот рост всем прошлым немецкой буржуазной идео- логии! Невольно вспоминаешь саксонского экс-короля, поднявшего опущенную штору на окне своего салон-вагона и воскликнувшего в ответ на бурные приветствия его бывших «верноподданных»: «Ну и славные же вы республиканцы!» И все же Томас Манн кончает свою речь призывом: «Да здравствует Республика!» Спасибо пока и на таком «преодолении» релятивизма! В 1930 году в «Немецком обращении» писатель отзывается сочувственно о покойном министре Ратенау за его «установление контакта с социал-демократией», явно не замечая, что здесь шла речь о новом предательстве в отношении рабочего класса, а не об устремлении вперед, к социализму.
Гораздо ближе к истине Томас Манн подходит в своей статье «Об учении Шпенглера». Его реакционную философию «Заката Европы» он расценивает как «viex jeu» («устаревшую игру»), как «последний вздох и надгробную песню» вчерашнего дня, самого же Освальда Шпенглера причисляет к тем «снобам», которые «учат тому, чему им учить не пристало». Отнюдь не марксист (да он им и не станет), Томас Манн здесь прямо говорит, что «материализм Маркса» рядом с мрачным историзмом Шпенглера — «небесная синева».
Еще более решительным шагом навстречу истине, правильному пониманию исторической действительности[226] является его «Парижский отчет» (1926), где Томас Манн (обращаясь к писателю-белоэмигранту Шмелеву) безо всяких обиняков заявляет, что кровопролитиость Октябрьской революции не лишает ее значения «величайшего блага для всего человечества», и говорит о себе, что, познав, «как в наши дни обстоит с историческим бытием буржуазии», он по сути уже порывает «с буржуазной формой существования». Через двадцать лет он к этому добавит (в статье, демонстративно названной: «Антибольшевизм — основная глупость нашего времени»), что он не представляет себе будущего «без коммунистических черт, без идеи общественной собственности, …без права на труд и обязанности трудиться для всех».
653
Совершенно особое место в ряду критико-теоретических работ Манна, написанных в 20-е годы, занимает исследование «Гете и Толстой». Оно насыщено весьма разнообразным содержанием. В плане общефилософском «Гете и Толстой» знаменуют разрыв с шопенгауэровски-декадентским воззрением на искусство, литературу и духовную культуру вообще, «Дух, иначе культура, отныне не однозначен с «болезнью и смертью» (как с противоположностью «жизни и здоровья»). «Смерть и жизнь, болезнь и здоровье, дух и природа — разве это, в конечном счете, противоречия?» — скажет в тогда еще не оконченной «Волшебной горе» Ганс Касторп. «Ради добра и любви человек не должен дозволить смерти властвовать над его помыслами» (курсив Т. Манна. — Н. В.). К понятию «духа» Томас Манн отныне прилагает определение Гете: «des Lebens Leben — Geist» («жизнь жизни —дух»). Под знаком «болезни и смерти» стоит и стояло искусство лишь в эпоху упадка, в эпоху «загнивания» капитализма — эпоху империализма. Гете и Толстой, как и Шиллер и Достоевский, по Манну, напротив, утверждают жизнь.
Опираясь на знаменитый трактат Шиллера «О наивной и сентиментальной поэзии», Томас Манн исследует эту его антитезу и критически ее переосмысливает. Как известно, Шиллер делит поэтов на «непосредственных» («наивных») и на «рефлектирующих» («сентиментальных») и, соответственно, усматривает два метода изображения — реалистический, отображающий действительность, и идеалистический, изображающий идеальное, идеал. По Шиллеру, «сентиментальный» поэт отобщен от природы; но он тоскует по ней, по былой непосредственности чело- века, и в силу этой высокой тоски приближается к типу «наивного» поэта. Томас Манн не отрицает этого деления, но на примере двух «безусловно наивных литературных великанов», Гете и Толстого (которым противопоставляются «великаны духа» Шиллер и Достоевский), показывает, как оба они, Толстой и Гете, автор «Воскресения» и автор «Фауста» из «верности жизни» поднимаются в «область духа», размышлений о жизненном «идеале». Отсюда — вывод, что искусство зависит не только от прирожденной «непосредственности» дарования или от прирожденной же «склонности к рефлексии», а от сложности исторической жизни, ее требования: уразуметь открывшиеся перед нею исторические пути. В этом — смысл манновского плодотворного пересмотра шиллеровского трактата, его «типологии» пи-
654
сателей и творческих методов. Иными словами: любые творческие силы должны служить высокой цели гуманизма, поискам истин- ной человечности — жизни, достойной Человека[227].
В этом пафос и в этом содержание многочисленных статей Томаса Манна о великих писателях прошлого — Гете, Толстом, Шиллере, Чехове (о котором он успел, за год до смерти, написать превосходный литературный этюд). Всем этим работам о «великих» присуща замечательная сила психологического и художественного постижения, вполне обнаружившаяся уже в исследовании «Гете и Толстой».
В этом исследовании Томас Манн широко пользуется книгой Максима Горького о великом русском писателе, которую считает лучшей из когда-либо написанных о Льве Толстом. Она его поразила удивительной глубиной и свободой постижения и была для него весьма плодотворна. Ранее знакомившийся с русской литературой, которую почитал «святой», как и его Тонио Крегер, главным образом по работам реакционного русского писателя Мережковского и публициста-ницшеанца Льва Шестова, он теперь услышал другой голос — последовательного демократа и социалиста. Впрочем, Мережковский был для немецкого писателя скорее поставщиком фактических сведений и конкретных оценок русской литературы; его концепциями он никогда не увлекался, проходил мимо них. Многое из написанного Т. Манном о Толстом, Тургеневе, Гоголе и, конечно, об Антоне Чехове принадлежит к лучшему, что было написано за рубежом о русской литературе.
Критико-теоретические работы Томаса Манна, написанные после войны и по наступлении эры пролетарских революций, которую открыла Великая Октябрьская революция 1917 года, внесли немалую долю ясности в мировоззрение писателя; но еще не ту должную ясность, которая сделала бы возможным написать новый большой роман о современности. В этой нехватке ясности — причина, уведшая писателя в прошлое человечества, даже в патриархально-мифологическую даль; правда, мы знаем, что и в «Иосифе и его братьях» он не теряет из виду злободневнейшей проблематики. Только вторая мировая война, сбросившая столько личин, так точно определившая границы света и мрака, дала возможность Томасу Манну подвести итог новейшей, злосчастнейшей, полосе немецкой истории — злосчастнейшей и для других народов, и для» самих немцев, Начался интереснейший, глубоко по-
655
учительный, поистине титанический труд над «Доктором Фаустусом, жизнью немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанной его другом» (1947).
«Доктор Фаустус», по определению Томаса Манна, «роман моей эпохи под видом жития одного грешного музыканта». Тем самым это — итог всех его «наблюдений», всех его мыслей «художника как критика» и «критика как художника». Первые следы раздумий Томаса Манна над «фаустовской темой» восходят к 1901 году, в особенности же к 1902—1904 годам, когда писались «Gladius Dei», «Тонио Крегер», «Фьоренца» и «У пророка» (в этом последнем рассказе писатель впервые выдвигает мысль о «тождестве эстетизма и варварства»).
Но, конечно, и этот роман нуждался в обдумывании «на стороне», в статьях и дневниках. К таковым мы относим, во-первых, дневники, легшие в основу «Истории создания “Доктора Фаустуса”» (в своем первоначальном виде эти дневники пока не издавались), во-вторых, дневники 1933 и 1934 годов — «Страдания из-за Германии»; в-третьих, все обращения писателя по радио — «Немецкий радиослушатель!», яркие образцы антифашистской публицистики, и, наконец, в-четвертых, его речь, а по сути исследование, — «Германия и немцы»[228].
Последнее — особенно важное подготовительное авторское постижение исторической проблематики романа. На этой речи (или докладе) необходимо хотя бы кратко остановиться.
В «Германии и немцах» Томас Манн (принадлежавший к лютеранской части немецкого населения) с большой четкостью исторического мышления указывает на пагубную роль, которую сыграли в немецкой жизни реформация, Мартин Лютер и лютеранская церковь. «Мартин Лютер, — говорится в этом исследовании, — был борцом за свободу, но на сугубо немецкий лад, ибо ничего не смыслил в… политической, гражданской свободе». Лютер питал ярую ненависть «к Крестьянской войне (1525 г. — H. B.), победа которой, несмотря на религиозный характер движения, дала бы немецкой истории совсем другой, счастливейший, оборот».
В этом смысле Лютер, проповедовавший «безграничную свободу совести», был в то же время опасным насадителем пресловутой немецкой «внутренней свободы под защитой реакционных властей», а тем самым и «духа законопослушной мрачной реакционно-мещанской демократии», без поддержки которой ни Вильгельм II, ни Гитлер не могли бы, конечно, и мечтать о своей захватнической политике. Ницше только украсил благозвучной
656
стилистикой своей философии «кровавого нового варварства» реальную (в своей нереальности) программу германского империализма: «изжить» непримиримые противоречия капиталистического общества путем «прорыва» сложившейся колониальной системы, то есть путем захвата новых земель и порабощения других народов — в результате победоносных империалистических войн. Недаром Томас Манн называл в дневниках свой роман о «грешном музыканте» и романом о Ницше. На всем протяжении этой книги (мы вправе смотреть на нее как на завещание писателя-гуманиста) Томас Манн разоблачает глубокую реакционность истории германской государственности и немецкой идеологии в ее давних истоках, восходящих к Лютеровой реформации и к средневековой идее «всемирной державы», унаследованной империей прусских Гогенцоллернов. Вместе с тем автор отмечает идеи политического реакционного авангардизма и в западных «демократиях». Последнее позднее побудило его покинуть пределы США, где реакционные силы пустили особенно прочные корни.
Мы здесь не будем ни излагать, ни даже философски или эстетически оценивать этот роман. Выделим только одну из идей, положенных автором в его основу, — идею зависимости декадентской культуры и искусства от реакционной политической практики империализма и прежде всего германского империализма. Реакционные политик и художник здесь в равной мере отказываются от единственно достойного «прорыва» инерции в развитии капиталистического общества и его искусства — от социальной революции, которая освободила бы и искусство «из выспреннего отщепенчества», из «полной его изоляции», обрекающей искусство «на одинокое умирание», если оно не «прорвется к народу», не станет «служанкою общества». «Сейчас мы это с трудом себе представляем, но так это будет. И никого уже не удивит искусство без страдания, духовно здоровое… беспечально-доверчивое, побратавшееся с человечеством».
Эти мысли возвращают нас к более давней мысли Томаса Манна, высказанной в пьесе «Фьоренца» — мысли о недопустимости заниматься «украшением медовых пряников (то есть гедонистическим искусством. — Н. В.), когда тысячи людей не имеют даже куска черствого хлеба для утоления своего голода».
Так «тайное становится явным», скрытый демократический пафос всего творчества Томаса Манна получает непререкаемо точное выражение. Последним выступлением Томаса Манна была
657
его речь о Шиллере, призывавшая к мирному сосуществованиию народов, к гуманности, к идеальной человечности.
Два тома критико-теоретических работ Томаса Манна помогут читателю понять его трудный, порой мучительный, путь к постижению правды коммунистического будущего. «Тот факт, что я осознал себя сторонником демократии, является следствием убеждений, которые дались мне нелегко и первоначально были чужды мне, выросшему и воспитанному в духовных традициях немецкого бюргерства; да, я пришел к убеждению, что политическое, социальное составляет неотъемлемую часть человеческого, принадлежит к единой гуманистической проблеме… и что в проблеме этой может обнаружиться опасный, гибельный для культуры пробел, если мы будем игнорировать неотторжимый от нее политический, социальный элемент», — писал Томас Манн в статье «Культура и политика» 1939 года. Теперь он видел в грядущей новой демократии, которую уже давно не представлял себе «без коммунистических черт», единственный залог здоровья в жизни общественной и в жизни искусства.
ПРИМЕЧАНИЯ
Стр. 7. Путь к праматерям всего сущего
— путь к истокам бытия; выражение это заимствовано из 2-й части «Фауста» Гете.
Стр. 9. …«высокомудрым профессором…» — В своих произведениях «Письма антикварного содержания» (1768) и «Как древние представляли себе смерть?» (1769) Лессинг полемизировал с профессором X. А. Клотцем, приспособлявшим античное искусство к эстетическим вкусам стиля рококо.
…полемику с главным гамбургским пастором… — В сборнике статей под названием «Анти-Геце» (1779) Лессинг дал отпор гамбургскому богослову Геце, защищавшему религиозную ортодоксию против принципа философски-этического исследования христианства, к чему призывал Лессинг.
Стр. 10. «Господь — надежда и оплот» — лютеранский духовный гимн.
Стр. 11. Тельгейм, майор — персонаж комедии Лессинга «Минна фон Барнгельм» (1767).
Бахофен Иоганн-Якоб (1815—1887) — швейцарский историк права.
Стр. 12. …гению великого монарха, который, к своему позору, не понял Лессинга… — Под «великим монархом» имеется в виду прусский король Фридрих II.
ТЕОДОР ШТОРМ
Стр. 14. Виардо-Гарсиа Мишель-Полина (1821—1910) — французская певица, вокальный педагог и композитор, близкий друг И. С. Тургенева.
661
Стр. 15. …некий молодой сочинитель написал лирическую новеллу… — Томас Манн говорит здесь о своей новелле «Тонио Крегер» (1903), носящей отчасти автобиографический характер.
Стр. 16. …говорок его края… — Шторм родился и умер в Шлезвиг-Гольштинии.
Хузум — место рождения Шторма, Гадемаршен — место его смерти.
Буживаль — местечко близ Парижа, где с 1871 г. до своей смерти (1883) проводил лето Тургенев.
Стр. 18. Вальтер фон дер Фогельвейде (ок. 1170 — ок. 1230) — немецкий поэт-миннезингер.
Стр. 20. «Яви мне тайную любовь» — из стихотворения без названия (1846).
«Книга песен» (1817—1821) — первая книга стихов Г. Гейне.
Стр. 21. Бранденбургский гасконец — Фонтане, уроженец и певец Бранденбургского края, потомок французских эмигрантов, происходивших из Гаскони.
Стр. 29. Фризский — от фризы, в данном случае — название группы древнегерманских племен. Фула — по античным представлениям, крайний пункт на севере Европы. Выражение «Фризская Фула» подчеркивает отдаленность Шлезвиг-Гольштинии от центров античной цивилизации.
Стр. 30. Алеманн. — Алеманны — германское племя, занявшее в начале V в. н. э. всю восточную часть Швейцарии. Томас Манн называет Келлера «алеманном», имея в виду его швейцарское происхождение[229].
Стр. 32. Дыханье бога веяло в ночи… — Из цикла «Умершей» (1847). Томас Манн ошибается: это стихотворение написано в связи со смертью сестры, а не жены Шторма.
«Психея» (1875) — новелла Шторма.
Стр. 33. …когда Хузум перешел в руки датчан… — В 1852 г. по лондонскому протоколу, подписанному великими державами тогдашней Европы, Шлезвиг был признан владением датского королевского дома. В дальнейшем, в результате войн 1864 и 1866 гг., эта область вошла в состав Пруссии.
…изумительным прощальным стихотворением… — «Прощание» (1853).
Стр. 35. …стоял на тацитовско-германской позиции sera
662
Juventus… — Sera Juventus (лат.) — буквально: длительная, затяжная юность. В своей книге «Германия» римский историк Тацит говорит, что древние германцы долго сохраняли юношескую силу.
ГЕТЕ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БЮРГЕРСКОЙ
ЭПОХИ
Стр. 39. Томас Карлейль (1795—1881) — английский консервативный философ, историк и публицист.
Стр. 41. Бенвенуто Челлини (1500—1571 или 1574) — итальянский скульптор и ювелир, автор известной автобиографии «Жизнь Бенвенуто Челлини».
Стр. 43. Цельтер Карл-Фридрих (1758—1832) — немецкий композитор, друг Гете.
Стр. 44. Мартин Фридрих Арендт (1773—1843) — немецкий естествоиспытатель и археолог.
Джордж Доу (1781 —1829) — английский живописец, главным образом портретист.
Стр. 45. Кернер Юстинус (1786—1862) — немецкий поэт и врач.
Имперский советник — отец Гете.
Стр.46. Эккерман Иоганн Петер (1792—1854) — секретарь Гете, после смерти последнего — редактор его произведений, автор известных «Разговоров с Гете» — свода высказываний Гете по различным вопросам.
Стр. 47. Бретшнейдер Генрих-Готфрид (1739—1810) — австрийский писатель-сатирик.
Фридрих Николаи (1733—1811) — немецкий писатель и издатель.
Стр. 49. Тик Людвиг (1773—1853) — немецкий писатель, критик и переводчик.
Стр. 51. Веджвуд Джосайя (1730—1795) — английский керамик, создавший в сотрудничестве со скульптором Флаксменом новый тип художественных керамических изделий.
Стр. 55. Блюхер Гебхард-Леберехт (1742—1819) — прусский полководец.
Стр. 58. Шарлотта фон Шиллер (1766—1826) — жена Фридриха Шиллера[230].
Стр. 59. Оттилия фон Гете[231] (1796—1872) — жена сына Гете — Августа.
663
Стр. 63. …книжки… открывшей миру безумное блаженство смерти… — Самоубийство Вертера вызвало много подражаний.
Стр. 64. …современника, кончающего сумасшедшим домом и монастырем. — «Современник» Гете — итальянский поэт Торквато Тассо, герой одноименной трагедии немецкого писателя.
Фамулус — в средние века — слуга или оруженосец, а также студент, находящийся в распоряжении профессора для различных несложных поручений; здесь имеется в виду И. П. Эккерман.
Жорж Клемансо (1841—1929) — реакционный французский политический деятель, премьер-министр Франции в последний год первой мировой войны и в период мирных переговоров с Германией.
Стр. 65. Меттерних, князь Клеменс (1773— 1859) — реакционный австрийский политический деятель и дипломат, вдохновитель «Священного союза».
Стр. 68. Свободная торговля — лозунг английской промышленной буржуазии, выдвинутый в первой половине XIX в., когда Англия была наиболее развитой в промышленном отношении страной. Требуя отмены ввозных и вывозных пошлин, английские фабриканты стремились обеспечить себе господство на мировом рынке.
ПУТЬ ГЕТЕ КАК ПИСАТЕЛЯ
Стр. 74. Эмерсон Ральф Уолдо (1803—1882) — американский философ-идеалист, публицист и поэт.
Стр. 76. Мандзони Алессандро (1785—1873) — итальянский поэт, драматург и романист.
Стр. 79. Энтелехия — философский термин в учении Аристотеля, означающий целесозидающую силу, лежащую в основе развития материи.
Стр. 84. «Trahison des clercs» — «Предательство клерков» (1926) — произведение французского философа-рационалиста и писателя Жюльена Бенда.
Стр. 87. «Клавиго» (1774) — трагедия Гете.
Стр. 88. Каролина фон Вольцоген (1763—1847) — немецкая писательница, свояченица и близкий друг Шиллера.
«Побочная дочь» (1803) — произведение Гете[232].
664
Гердер Иоганн-Готфрид (1744—1803) — выдающийся мыслитель и писатель, представитель немецкого просвещения, сыгравший значительную роль в развитии немецкой литературы и оказавший большое влияние на молодого Гете.
«…побочный сын… ненормальные семейные отношения в доме на Фрауэнплане». — Как указывает Томас Манн в своей статье «Фантазия о Гете», отношения Гете с Христианой Вульпиус были «лишь много лет спустя освящены законным браком». Сын Гете от Христианы Вульпиус — Август — родился вне брака (1789).
Стр. 90. Ульрика фон Погвиш (1804—1875) — сестра Оттилии Гете.
Стр. 92. Эдды. — «Эдда старшая» — сборник древнеисландских мифологических и героических песен, относящийся к середине XIII в. «Эдда младшая» — поэтическое руководство для древнеисландских сказителей, составленное в том же веке С. Стурлусоном.
Стр. 93. …лютеровская интонация… свидетельство углубленного чтения библии… — В 1521 — 1534 гг. Мартин Лютер осуществил перевод библии с латинского на немецкий язык, заложив тем самым основы немецкого литературного языка.
Стр. 96. Берне Карл-Людвиг (1786—1837) — немецкий радикальный публицист, идеолог «Молодой Германии».
Отец Ян — Фридрих-Людвиг Ян (1778—1852) — немецкий публицист периода освободительной войны против Наполеона. Защищал от преследований реакции «буршеншафты» — студенческие братства, возникшие в 1815 г. для борьбы за национальную независимость и объединение Германии на основе буржуазно-демократической конституции.
Стр. 97. Варнгаген фон Энзе (1785—1858) — немецкий писатель, офицер и дипломат, участник наполеоновских войн. Известен написанными им биографиями выдающихся людей своего времени, в том числе книгой «Гете в высказываниях современников».
Барон фон Штейн Генрих-Фридрих-Карл (1757—1831) — прусский государственный деятель, активный участник борьбы немецких патриотов против наполеоновского ига.
Эрнст-Мориц Арндт (1769—1860) — немецкий писатель и историк, певец войны за освобождение Германии от наполеоновской оккупации.
665
СТРАДАНИЯ И ВЕЛИЧИЕ РИХАРДА
ВАГНЕРА1
Стр. 104. Лейтмотив (буквально — ведущий мотив) — обычно небольшая музыкальная тема, характеризующая героя (предмет, чувство, понятие и т.д.) и повторяющаяся каждый раз при появлении этого героя на сцене или при упоминании о нем. В некоторых операх Вагнера число лейтмотивов доходит до 20—30.
Стр. 105. Катарсис (греч.) — нравственное очищение, рождаемое трагедией при помощи сострадания и страха (по учению древнегреческого философа Аристотеля).
«Тангейзер» (1843—1845) — опера Вагнера на сюжет народных немецких средневековых легенд о любви рыцаря Тангейзера к богине Венере.
«Парсифаль» (1877—1881) — последняя опера Вагнера, также на средневековый сюжет о легендарном братстве рыцарей святого Грааля, побеждающих все земные соблазны.
Стр. 108. Мотив «любовного зелья». — Имеется в виду 1 акт оперы Вагнера «Тристан и Изольда»: Тристан, влюбленный в Изольду, но поклявшийся привезти ее в жены королю, принимает из ее рук кубок смерти, в котором оказывается напиток любви.
Стр. 110. Миме, Брунгильда. — Речь идет об опере Вагнера «Зигфрид»: юный Зигфрид не ведает страха и с любопытством расспрашивает о нем у своего воспитателя, карлика Миме. Но лишь тогда, когда Зигфрид пройдет сквозь огонь к спящей на скале прекрасной и мудрой валькирии (деве-воительнице) Брунгильде и познает любовь, это неведомое чувство вызовет в его душе страх.
Стр. 110—111. Кундри, Клингзор — персонажи оперы Вагнера «Парсифаль». Царству Клингзора — царству чувственных наслаждений, соблазнов — противостоит мир непорочных рыцарей Грааля. В царстве Клингзора Кундри является роковой искусительницей, в царстве Грааля — смиренной кающейся грешницей.
Стр. 112. …в образе вестника… — Речь идет о главном герое оперы «Лоэнгрин».
…мудрый певучий рассказ… — Имеется в виду тетралогия «Кольцо Нибелунга».
666
Эрда — богиня подземных сил в «Кольце Нибелунга».
Норны — ее вещие дочери, прядущие нить судеб — жребий людей и богов.
Стр. 112—113. Шествие с телом Зигфрида… Гунтер…. Хаген. Имеется в виду финал оперы Вагнера «Гибель богов»: светлый лучезарный герой Зигфрид убит на охоте коварным Хагеном. Гунтер — рыцарь, которому Зигфрид отдает в жены Брунгильду.
Таммуз, Осирис — светлые боги вавилонской и египетской мифологии; связанные с их смертью и воскресением мифы отражают круговорот природы, смену времен года.
Стр. 115. …es-dur’ного трезвучия фагота… —
«Золото Рейна» начинается с оркестрового вступления, построенного на одном
длительно выдерживаемом аккорде; вначале он звучит у фаготов и контрабасов,
постепенно включаются все новые инструменты, композитор рисует картину рождения
Рейна — олицетворения вечнотекущей жизни, мира.
Стр. 117. Матильда Везендонк (1828—1902) — жена друга Вагнера, одна из наиболее страстных привязанностей композитора, любовь к которой вдохновила его на создание оперы «Тристан и Изольда». О чувствах Вагнера к Матильде Везендонк рассказывают его письма к ней и страницы из дневника (1853—1871).
Стр. 121. «Байрейтские листки» — журнал «Вагнеровского общества» в Байрейте, основанный в 1878 г. и издававшийся другом Вагнера Гансом Вольцогеном при участии самого композитора.
Стр. 122. Смерть Изольды, рокот волн Рейна, семь… аккордов, из которых строится Валгалла. — Имеются в виду музыкальные темы (лейтмотивы) из опер «Тристан и Изольда» и «Кольцо Нибелунга». Валгалла — замок богов, характеризуемый величавой аккордовой темой.
Стр. 123. Странствие Зигфрида по Рейну, плач по убиенному Зигфриду — оркестровые картины из оперы «Гибель богов»: «Путешествие по Рейну» и «Траурный марш».
Стр. 124. «Грот Венеры» — первая картина из оперы «Тангейзер»; для постановки в Париже в 1861 г. Вагнер значительно переработал эту сцену, использовав новые выразительные средства, найденные им в только что законченной опере «Тристан и Изольда».
…в пространном рассказе Гурнеманца — в 1 акте оперы «Парсифаль», Гурнеманц — старый страж Грааля.
667
Стр. 125. Фраза валторны, мотив любви — лейтмотивы в «Траурном марше» из оперы «Гибель богов».
Штольцинг — молодой рыцарь, герой оперы «Мейстерзингеры».
Стр. 126. Логе — бог огня в опере «Золото Рейна».
Бекмессер — бездарный певец, комический персонаж «Мейстерзингеров».
Шапка-невидимка Альбериха. — Альберих — повелитель карликов-нибелунгов в «Золоте Рейна»; выкованный ими золотой шлем обладает чудесной силой придавать своему владельцу любой облик (в частности, Альберих превращается в жабу) или делать его невидимым.
Асы — высшие боги скандинавской мифологии[233].
Стр. 127. Ортруда — героиня оперы «Лоэнгрин», призывающая на помощь своим коварным замыслам языческих богов древних германцев[234].
Амфортас — персонаж оперы «Парсифаль», глубоко страдающий властитель Грааля.
Стр. 128. Бюлов Ганс фон (1830—1894) — немецкий дирижер и пианист, в упоминаемый автором период — друг Вагнера и пропагандист его творчества.
Стр. 129. …и для него знаменует освобождение… — «Парсифаль» завершается словами: «Освобождение искупителю».
Святой Христофор — по христианским легендам, обладал исполинской силой; его статуя, украшающая Кельнский собор, отличается гигантскими размерами.
Стр. 133. Тангейзер, крепко обхватывающий руками Вольфрама, чтобы увлечь его …в грот Венеры… — в финале оперы «Тангейзер». Вольфрам — друг Тангейзера, предостерегающий его от чар Венеры.
Стр. 134. Колесо Иксиона. — Иксион — в древнегреческой мифологии царь лапифов, за свои преступления прикованный в подземном царстве к вечно вращающемуся огненному колесу.
Стр. 144. …разделенных на партии скрипок. — Имеется в виду прием, известный в инструментовке под итальянским термином divisi: скрипки, которые обычно разделены в оркестре на две группы (первые и вторые скрипки), делятся на большее число самостоятельных партий, — их звучание становится прозрачным, трепетным, приближается к сольному.
Стр. 146. Gis-a-ais-h. — Имеется в виду мотив, пронизывающий все развитие музыки «Тристана и Изольды».
668
Стр. 148. Лурд — город на юго-западе Франции, центр паломничества католиков, известный своими «чудесными исцелениями».
Стр. 149. …в …карете Ахима фон Арнима… — Ахим фон Арним (1781—1831) — немецкий писатель-романтик; речь идет о его фантастической новелле «Изабелла Египетская».
Стр. 153. Зигмунд — герой оперы «Валькирия», гонимый врагами скиталец, отец Зигфрида.
Стр. 154. Капельмейстер Крейслер — герой ряда произведений Э.-Т.-А. Гофмана, ставший нарицательным образ художника-романтика, восторженного мечтателя, находящегося в остром разладе с окружающим миром.
Стр. 155. Приют на зеленом холме — дом купца Отто Везендонка (1815—1896), мужа Матильды; в этом доме Вагнер жил в 1857—1858 гг.
Стр. 156. Грюндерство — лихорадочно-поспешное учредительство капиталистами предприятий, акционерных обществ и т. п.; в Германии особенно сильный расцвет грюндерства имел место после победы над Францией во франко-прусской войне 1870—1871 гг.
Макартовский букет. — Ганс Макарт (1840—1884) — австрийский живописец, картины которого отличаются внешней пышностью и богатством костюмов.
Стр. 157. Риттер
Стр. 159. Эйхендорф Иозеф (1788—1857) — немецкий поэт-романтик.
Стр. 164. Маршнер Генрих (1795—1861), Лорцинг Альберт (1801—1851) — немецкие оперные композиторы, предшественники Вагнера.
Спонтини Гаспаре (1774—1851) — итальянский композитор, работавший в 1803—1820 гг. в Париже и подготовивший расцвет (в 30—40-х гг. XIX в.) жанра французской «большой оперы».
Стр. 165. Немецкий союз. — В 1853 г. в Германии был возобновлен заключенный в 1834 г. таможенный союз, который экономически объединял под главенством Пруссии значительное число немецких княжеств. Это событие явилось важной вехой на пути к национальному объединению Германии, противником которого был Луи-Наполеон (позднее Наполеон III).
Руге Арнольд (1802—1880) — немецкий писатель и публицист.
Стр. 167. Старик император — германский император Вильгельм I.
669
Стр. 171. То волна ли вся в сиянье… и т.д. — заключительные слова из оперы Вагнера «Тристан и Изольда».
Стр. 172. …разрушителя мира, рожденного в свободнейшем любовном союзе. — Имеется в виду Зигфрид, рожденный от брака брата и сестры.
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МОРЮ С ДОН КИХОТОМ
Стр. 175. Новый Амстердам — старинное название Нью-Йорка, данное этому городу его основателями — голландцами.
Стр. 176. …капитан корабля, на котором плыл Иван Александрович Гончаров… — Приводимый Томасом Манном эпизод описан Гончаровым в его книге «Фрегат «Паллада» (1858).
Стр. 177. Гауризанкар — горная вершина Непальских Гималаев высотой в 7150 м. Долгое время ее вершину ошибочно отождествляли с вершиной Эвереста — высочайшей горы земного шара.
Стр. 179. …их манят Зальцбург, Байрейт, Обераммергау…— В Зальцбурге происходили театральные фестивали, в Байрейте — музыкальные, в Обераммергау — народные представления мистерий[235].
Стр. 184. Битва при Лепанто — произошла в 1571 г. у мыса Скрофа, вблизи греческого города Лепанто, между испано-венецианским и турецким флотом. Разгром турецкого флота в этой битве подорвал могущество Османской империи на Средиземном море.
…бездарное изделие… — В июле 1614 г. неизвестный автор, скрывшийся под псевдонимом Алонсо-Фернандеса Авельянада, опубликовал в Таррагоне свое собственное «продолжение» «Дон Кихота», в котором содержались оскорбительные выпады против Сервантеса.
Стр. 190. «Просперити» (англ. prosperity) — процветание. Так называют американские буржуазные экономисты периоды между кризисами.
Стр. 196. Фафнир — персонаж древнескандинавской мифологии. Превратившись в дракона, стережет несметные сокровища, которые приносят несчастье всякому, кто ими завладеет.
Стр. 200. …при известных обстоятельствах… «Nearer, my God, to thee». — Под «известными обстоятельствами» автор подразумевает случаи кораблекрушений. «Nearer, my God, to thee» (англ. «Ближе, господь, к тебе») — духовный гимн.
670
Стр. 204. Эрвин Роде (1845—1898) — немецкий литературовед, исследователь античного романа и мифологии.
Стр. 206. …злому брату Осириса, Тифону-Сету, «Рыжему»… — Осирис — в древнеегипетской религии бог воды и растительности. Брат и убийца Осириса — Сет, бог войны и пустыни. В позднем Египте считался олицетворением зла. Тифон — в древнегреческой мифологии стоглавое огнедышащее чудовище, которое греки отождествляли с Сетом. Рыжий цвет в представлении многих народов считался цветом зла.
…Исава, рыжего брата Иакова… — Библейский миф изображает Исава человеком глупым и необузданным, ему противопоставляется сдержанный и хитроумный Иаков.
Стр. 211. …мой Иаков, простершийся в прах перед юным Элифасом. — Иаков и Элифас — библейские персонажи, действующие лица романа Томаса Манна «История Иакова» (1933).
Стр. 214. Как повествователь я пришел к мифу… — Незадолго до поездки в США, описанной в настоящей статье, Томас Манн опубликовал первый роман из цикла «Иосиф и его братья», в основу которого положены библейские мифы.
Стр. 215. Филипп Третий — король Испании с 1598 по 1621 г., невежественный и бездарный правитель. В 1609 г. он нанес сильный удар благосостоянию своей страны, издав, под влиянием католических церковников, указ об изгнании из Испании «морисков» (крещеных арабов).
Стр. 221. Граф Лемосский — Педро Фернандес де Кастро, маркиз Саррия и граф Лемос (1560—1634), — испанский государственный деятель и меценат. На его средства были опубликованы «Назидательные новеллы» Сервантеса (1613).
Дон Бернардо де Сандоваль-и-Рохас — архиепископ Толедский, современник Сервантеса.
Стр. 222. Данеброг — датский государственный флаг.
НОБЕЛЕВСКОМУ КОМИТЕТУ ПО
ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ МИРА. ОСЛО
Стр. 229. Масарик Томаш-Гарриг (1850—1937) — чешский буржуазный политический деятель, с 1918 по 1935 г. — бессменный президент Чехословацкой республики: Масарик и его ближайший сотрудник Э. Бенеш (в 1935 г. избранный президентом) неизменно проводили политику подавления революцион-
671
ного движения рабочих и крестьянских масс. Внешняя политика Масарика носила антисоветский характер[236].
Осецкий Карл фон (1889—1938) — немецкий прогрессивный публицист, редактор органа передовой интеллигенции «Вельтбюне», в котором он обличал антидемократическую политику правящих кругов Веймарской республики и предостерегал от прихода к власти нацистов и от их агрессивных планов. В 1932 г. был обвинен в государственной измене и заключен в тюрьму, а в 1933 г., с приходом Гитлера к власти, — в концлагерь. В 1936 г. ему была присуждена Нобелевская премия мира. Осецкий после освобождения умер от последствий лагерного режима.
Стр. 230. Бриан Аристид (1862—1932) — реакционный французский политический деятель и дипломат[237]; с 1925 г. сторонник сближения с Германией для активной борьбы против СССР.
Штреземан Густав (1878—1929) — германский государственный деятель и дипломат, игравший на противоречиях империалистических держав. Его целью было ликвидировать по частям Версальский договор. Штреземан содействовал заключению советско-германского торгового договора (1925) и договора о нейтралитете (1926).
«ВЕРТЕР» ГЕТЕ
Стр. 234. …предчувствие очистившей воздух бури французской революции… — Роман «Страдания юного Вертера» вышел в свет в 1774 г., за пятнадцать лет до начала французской революции.
…кладбищенской поэзии, которая бытовала тогда в английской литературе. — Кладбищенская поэзия — направление в английской литературе, сложившееся во второй четверти XVIII века (Э. Юнг, Д. Томсон, У. Коллинз, Т. Грей и др.). В произведениях поэтов этого течения господствовали элегические, мрачно-меланхолические настроения.
Стр. 235. Абеляр и Элоиза. — Абеляр
Пьер (1079—1142) — французский философ и теолог. Трагическая история любви
Абеляра и парижской девушки Элоизы переходила из поколения в поколение и вдохновила
Жан-Жака Руссо на создание романа «
Стр. 236. Ульрика — Ульрика фон Левецов, — последнее увлечение Гете.
672
Амтман — в данном случае управляющий угодьями Тевтонского ордена.
Стр. 237. Пиндар (518 или 522 — ок. 442 гг. до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик.
«АННА КАРЕНИНА»
Стр. 252. «Все мы вышли из гоголевской «Шинели». — Томас Манн ошибочно приписывает эти слова Тургеневу; они принадлежат Достоевскому.
…пошел в свой кабинет и написал…
— Этот эпизод изложен автором не вполне точно. Он произошел не весной, а зимой
1873 г. Старший сын Толстого читал не «Повести Белкина» Пушкина, а «Юрия Милославского»
Загоскина. Софья Андреевна Толстая принесла «Повести Белкина», но нашла, что
читать их сыну еще рано. В дальнейшем Толстой перечитал «Повести» и под
влиянием отрывка «Гости съезжались на дачу» начал свой роман «
Стр. 255. В своей речи …произнесенной в 1859 году. — Эта речь была написана и произнесена по случаю избрания Толстого членом «Общества любителей российской словесности» в Москве.
Стр. 260. …брака с женщиной, которая
является прототипом Кити Щербацкой… — с Софьей Андреевной Толстой
(урожденной Берс). Толстой женился на ней в 1862 г., опубликование романа «
Стр. 262. …издававшийся Катковым «Русский вестник»… — Катков Михаил Никифорович (1818—1887)—реакционный русский публицист. С 1856 г. издавал совместно с П. М. Леонтьевым журнал «Русский вестник», который ко времени опубликования «Анны Карениной» превратился в орган крепостнической реакции.
Стр. 263. …изложив в кратком предисловии свои разногласия с Катковым. — Это утверждение не вполне точно. Последней части «Анны Карениной» было предпослано только уведомление о том, что она «выходит отдельным изданием, а не
673
в «Русском вестнике», потому что
редакция журнала не пожелала печатать эту часть без некоторых исключений, на
которые автор не согласился». См. «”
Стр. 267. Ипполит Тэн (1828—1893) — французский теоретик искусства и литературы, философ, историк, один из наиболее влиятельных представителей культурно-исторической школы.
Стр. 271. Паулина Лукка (1841—1908) — австрийская певица, неоднократно пела в петербургской итальянской опере.
ИСКУССТВО РОМАНА
Стр. 274. Период шестой династии. — Шестая династия царствовала в древнем Египте в XXV в. до н. э.
…чем из всех религиозных гимнов вместе взятых. — В древнеегипетской литературе видное место занимали гимны богам.
«Чудеса по ту сторону Фулы» — произведение греческого писателя Антония Диогена (I—II вв. н. э.).
Тогда же были созданы и «Басни о животных» Эзопа. — Произведения, приписываемые полулегендарному древнегреческому баснописцу Эзопу, были созданы не в тот период, о котором пишет автор, а значительно ранее — в VI—V вв. до н.э.
Стр. 275. Банделло Маттео (род. ок. 1485 г., ум. ок. 1563 г.) — итальянский новеллист.
«Ланселот». — Один из вариантов рыцарского романа — «Ланселот с озера» — был написан в XII в. на провансальском языке трубадуром Арманом (а не Арнаутом) Даниелем. Книга эта действительно погибла, но нам известно не только ее название и имя автора, как говорится в статье, а и поэтическое переложение, принадлежащее немецкому миннезингеру Ульриху фон Затцикхофену.
Стр. 280. «Воспитание чувств» (1863) — роман Г. Флобера.
Стр. 281. «Тристрам Шенди» — «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» (1759—1767) — роман английского писателя Л. Стерна.
Стр. 285. «Молодая Германия» — группа буржуазно-либеральных немецких писателей, возникшая в 30-х гг. XIX в.
Готхельф Иеремия — псевдоним швейцарского писателя Альберта Батциуса (1797—1854).
Стр. 287. Франц Кафка (1883—1924) — писатель-декадент. Томас Манн называет Кафку «богемским немцем», так как Кафка родился и жил в Чехии и писал по-немецки.
674
КУЛЬТУРА И ПОЛИТИКА
Стр. 289. …в годы войны… — первой мировой войны 1914— 1918 гг.
Стр. 295. Тридцатилетняя война (1618—1648), в которой участвовал ряд государств Центральной, Западной и Северном Европы, велась преимущественно на территории Германии, что имело катастрофические последствия для страны.
ПАМЯТНОЕ СЛОВО О МАКСЕ РЕЙНГАРДТЕ
Стр. 298. …стал основателем зальцбургских фестивалей. — 22 августа 1922 г. в австрийском городе Зальцбурге пьесой Гуго фон Гофмансталя «Каждый человек таков» в постановке М. Рейнгардта открылся первый после мировой войны 1914— 1918 гг. театральный фестиваль.
«Каждый человек таков» — в данном случае средневековая народная драма, возникшая в XV в. в Англии. Первые немецкие варианты относятся к XVI в. Упомянутая выше пьеса Гофмансталя написана по мотивам этой драмы.
Стр. 299. «Саломея» (1893) — трагедия английского драматурга О. Уайльда.
«Электра» (1903) — драма Гофмансталя.
Стр. 300. «Эдип-царь» (ок. 428 г. до н.э.) — трагедия древнегреческого драматурга Софокла.
Стр. 302. «Шесть человек ищут одного автора»[238] (1923) — пьеса итальянского драматурга Луиджи Пиранделло.
…и пересажен на почву чужую. — После прихода Гитлера к власти (1933) Рейнгардт был вынужден эмигрировать в Австрию, а после присоединения Австрии к Германии (1938) — в США, где и умер.
ГЕРМАНИЯ И НЕМЦЫ
Стр. 303. …как американский подданный… — В 1944 г., проживая в США, Томас Манн принял американское подданство.
Стр. 304. Здесь, в этом гостеприимном городе городов… — В дальнейшем, в связи с разгулом реакции в США, Томас Манн разочаровался в «гостеприимстве» официальной Америки и уехал в Швейцарию (1953).
675
Стр. 306. Барбаросса. — Фридрих I Барбаросса, в 1152— 1190 гг. — император так называемой «Священной Римской империи».
…в том году, когда Мартин Лютер прибил свои тезисы на воротах замковой церкви в Виттенберге… — В 1517 г. Мартин Лютер, бывший в то время преподавателем богословия в Виттенбергском университете, прибил на воротах замковой церкви свои 95 тезисов, направленных против злоупотреблений папства и католического духовенства. Это был первый манифест протестантизма.
Стр. 307. …республиканским элементом вошел в состав империи Бисмарка… — В Германской империи 1871—1918 гг. Любек и другие вольные города, вошедшие в ее состав на правах автономных единиц, сохраняли республиканское устройство.
Стр. 310. Лев Десятый, Джованни Медичи (1475—1521) — с 1513 по 1521 г. папа римский. Желая придать блеск своему правлению, Лев X действительно покровительствовал гуманистам, но сам отнюдь не был «доброжелательным гуманистом». Он провоцировал войны, имевшие целью расширение владений дома Медичи, довел до скандальных размеров торговлю индульгенциями, обогащавшую католическую церковь. Это вызвало резкий протест Лютера, которого Лев X отлучил от церкви.
Стр. 311. New Deal — Новый курс, совокупность реформ, проведенных в 30-х гг. нашего века президентом США Франклином Рузвельтом (1882—1945). Эти реформы представляли собой попытку преодолеть последствия экономического кризиса 1929—1933 гг. и не допустить его повторения.
Стр. 312. …один социал-демократ, первый президент Германской республики — Фридрих Эберт, в 1919—1925 гг. президент Германии.
Крестьянское восстание — крестьянская война 1525 г. в Германии.
Стр. 313. …решил отказать «бургу», князю-епископу в военной поддержке против крестьян… — «Бург» (нем. Burg — замок) — резиденция светского или духовного феодала. В средние века Вюрцбург находился в феодальной зависимости от местного князя-епископа.
…Лютер, музыкальный богослов. — Лютер — автор богословских трактатов и духовных гимнов.
Стр. 315. Масман Ганс-Фердинанд (1797—1874) — филолог германист и организатор спортивного движения.
676
Стр. 318. Концерн Геринга — «Рейхсверке Герман Геринг», — крупнейшая монополия фашистской Германии, возглавлявшаяся ближайшим помощником Гитлера — Герингом. Этот концерн захватил в свои руки большое количество предприятий тяжелой промышленности в оккупированных гитлеровцами странах и областях[239].
Стр. 320. Виттенбергский грубиян — Мартин Лютер[240].
Стр. 321. …в великодержавных дебатах Франкфуртского парламента… — Франкфуртский парламент — общегерманский представительный орган, возникший в период революции 1848— 1849 гг. Депутаты этого парламента, представлявшие а основном либеральную буржуазию, ратовали за насильственное удержание в составе Германской империи славянских и итальянских областей.
Стр. 322 …об эпохе саксонских и швабских властителей. — Саксонская династия — династия германских королей (с 962 г. — императоров так называемой «Священной Римской империи»), правившая в 919—1024 гг. Швабские властители — княжеский род Швабии; в 1138—1254 гг. — германская императорская династия.
Стр. 325. Диаспора — рассеяние по свету, — судьба, постигшая, в частности, евреев после подавления их восстаний против римского владычества.
ДОСТОЕВСКИЙ — НО В МЕРУ
Стр. 327. «Дайэл пресс» — нью-йоркское издательство.
…о Фридрихе Ницше. — В дальнейшем Томас Манн опубликовал большую статью о Ницше, вошедшую в настоящий том.
Стр. 329. …как я это делал в романе… — Речь идет о романе Томаса Манна «Лотта в Веймаре» (1939).
…и в одной из своих статей. — См. статью «Гете и Толстой» в т. IX настоящего издания.
Сильс-
Стр. 331. …без достаточных оснований обвинен в участии в политическом заговоре… — Такое утверждение не вполне верно. В 1848 г. Достоевский действительно вошел в тайное революционное общество, организованное Н. А. Спешневым.
Стр. 333. …он был автором книги, над которой плакал сам
677
царь… — Речь идет о «Записках из мертвого дома», при чтении которых будто бы проливал слезы Александр II.
Стр. 336. Гуго Вольф (1860—1903) — австрийский композитор.
«Ессе h
Стр. 340. …он дожил до шестидесяти лет. — Достоевский умер в возрасте 59 лет.
Стр. 341. …этот шедевр создан в 1867 году. — Роман «Игрок» был закончен Достоевским в октябре 1866 г. Роман «Преступление и наказание» впервые был опубликован в журнале «Русский вестник» за 1866 г. (январь, февраль, апрель, июнь, июль, август, ноябрь и декабрь).
Стр. 342. …опубликованный в 1848 году рассказ «Вечный муж…» — Ошибка Томаса Манна: «Вечный муж» был впервые опубликован в 1870 г.
Стр. 343. …страдание и издевка, содержащиеся в этом романе…— Сам Достоевский относил «Записки из подполья» к жанру повести, а не романа.
…сам на себя налгал. — Эта характеристика относится к произведению Руссо «Исповедь».
ФИЛОСОФИЯ НИЦШЕ В СВЕТЕ НАШЕГО
ОПЫТА
Стр. 348. Фридрих-Вильгельм IV — в 1840—1857 гг. король Пруссии.
Стр. 349. Профессор Ричль Фридрих-Вильгельм (1806—1876) — немецкий ученый, специалист в области классической филологии.
Якоб Буркхардт (1818—1897) — швейцарский историк культуры и искусства.
Стр. 350. Доктор Мебиус Пауль (1853—1907) — немецкий невропатолог, автор «Патографий», в которых отмечены нездоровые черты в характере ряда мыслителей.
Стр. 351. Пауль Дейссен (1845—1919) — немецкий востоковед, исследователь древнеиндийской философии и литературы.
Стр. 353. «In doloribus pinxi» (лат.) — «Я творил в муках», слова, принадлежащие Микеланджело.
Стр. 354. «По ту сторону добра и зла» (1886) — произведение Ницше.
«Воля к власти» — незаконченное произведение Ницше, над которым он стал работать в 1883 г. Афоризмы, написанные им для этой книги, опубликованы посмертно.
678
Стр. 356. «Генеалогия морали» (1887) — произведение Ницше.
Заратустра с его полетами по воздуху, с его танцевальными вывертами и головой, увенчанной розами смеха… — В книге Ницше Заратустра утверждает, что он научился летать и что в нем «танцует божество». Он называет себя лесом, под кипарисами которого можно найти «и кущи роз».
Петер Гаст (1854—1918) — псевдоним немецкого композитора Генриха Кезелица, ученика и друга Ницше.
Стр. 358. «Дело Вагнера» Ницше вышло в 1888 г.
«Несвоевременные размышления» — опубликованы в 1873— 1876 гг., «Рождение трагедии из духа музыки» — в 1872 г.
Стр. 361. Давид Штраус (1808—1874) — немецкий теолог и философ-идеалист. Его книга «Старая и новая вера» вышла в 1872 г.
Стр. 364. Сорель Жорж (1847—1922) — французский социолог, теоретик анархо-синдикализма, а не «пролетарского синдикализма», как говорит Томас Манн. Его книга «О насилии» вышла в 1906 г.
Стр. 366. …викторианского буржуазного столетия. — Царствование английской королевы Виктории (1837—1901) было периодом наибольшей устойчивости буржуазного общества в Англии и ряде других стран.
«Упадок лжи» (1891) — трактат английского писателя Оскара Уайльда (1859—1900), представителя декаданса. В этом трактате Уайльд провозглашает целью искусства «ложь, передачу красивых небылиц».
Стр. 367. Сент-Джеймский театр — в Лондоне.
…мученичество Уайльда, более или менее добровольное, его трагический финал, Редингская тюрьма… — В 1895 г. Уайльд был приговорен к двум годам каторжных работ за преступление против нравственности. После освобождения опубликовал «Балладу о Редингской тюрьме» (1898).
Стр. 368. …его героически-жертвенная смерть. — В 399 г. до н. э. древнегреческий философ-идеалист Сократ за оскорбление богов и дурное влияние на юношество[241] был приговорен к смертной казни и умер, выпив кубок яда.
…и на Платона. — Древнегреческий философ-идеалист Платон был учеником Сократа.
Тирс — жезл Диониса и его спутников.
Шопенгауэровский святой. — По мнению немецкого философа-идеалиста Артура Шопенгауэра, к святости приводит человека
679
пренебрежение всем, привязывающим его к плотскому, земному.
Стр. 373. Эвдемонизм — морально-философское учение, кладущее в основу поведения человека достижение счастья и благополучия, но не учитывающее классового характера морали в классовом обществе.
Стр. 374. Старомодная кампания 1870 года — франко-прусская война 1870—1871 гг.
Игольчатые ружья, нарезные шаспо. — Игольчатые ружья в середине XIX в. были приняты на вооружение армий ряда государств Европы. В этих ружьях затвор имел ударник с длинной и тонкой иглой, которая легко ломалась, прокалывая бумажный патрон. С 1866 г. на вооружение французской армии поступило нарезное ружье, изобретенное Антуаном-Альфонсом Шаспо. По своим боевым качествам оно значительно превосходило игольчатое ружье, которым пользовались войска германских государств во франко-прусской, войне 1870—1871 гг.
Стр. 380. «По плодам их узнаете их» — цитата из евангелия.
Стр. 386. Георг Брандес (1842—1927) — датский литературный критик.
Сенека Луций Анний (род. между 6 и 3 г. до н. э., умер в 65 г.) — древнеримский философ-стоик, писатель и политический деятель.
Карл Фукс (1838—1922) — немецкий пианист и музыковед.
Стр. 387. Император Ста дней… Фридрих III… — Король Пруссии и германский император Фридрих III умер в 1888 г., процарствовав всего около ста дней.
Царство Штёккеров. — Пастор Штёккер Адольф (1835— 1909) — реакционный немецкий политический деятель и придворный проповедник. В первые годы царствования Вильгельма II принадлежал к его ближайшему окружению.
Стр. 389. Бергсон Анри (1859—1941) — французский философ-идеалист.
Стр. 391. World Government — «Всемирное правительство», — космополитический лозунг, предусматривающий отмену национального суверенитета народов.
ФАНТАЗИЯ О ГЕТЕ
Стр. 406. Песни Миньоны. — Миньона — персонаж романа Гете «Годы учения Вильгельма Менстера».
680
Стр. 410. Генерал-суперинтендент — должностное лицо, осуществлявшее надзор за лютеранскими церковными общинами в пределах государства, провинции.
Стр. 418. Роттердамец — Эразм Роттердамский.
Стр. 421. Андреа Палладио (настоящее имя — Андреа ди Пьетро да Падова, 1508—1580) — итальянский архитектор.
Стр. 428. Макферсон-Оссиан — Макферсон Джеймс (1736— 1796) — английский поэт, автор поэм, которые он выдал за произведения легендарного шотландского барда Оссиана.
Стр. 429. Бурные гении — герои произведений писателей, примыкавших к литературному движению «Бури и натиска», — сильные личности, не признающие никаких ограничений. Иногда такая характеристика относится и к самим представителям этого движения.
Стр. 432. Осада Мессолунги (1825—1826). — В период освободительной борьбы греческого народа за национальную независимость восставшие греки в течение 11 месяцев героически обороняли Мессолунгу (правильнее Миссолонгион) от турецких войск.
АВГУСТ СТРИНДБЕРГ
Стр. 438. Цельсий Андре (1701 —1744) — шведский ученый, впервые предложивший стоградусную шкалу термометра[242].
Линней Карл (1707—1778) — шведский естествоиспытатель, создавший систему классификации растительного и животного мира.
Сведенборг Эммануил (1688—1772) — шведский писатель-мистик.
Стр. 439. …не найти комедии более дьявольской, чем его супружеская жизнь… — Стриндберг был женат трижды, но все три брака после бурных ссор между супругами заканчивались разводом.
ПИСЬМО ПО ПОВОДУ КОНЧИНЫ МОЕГО БРАТА
ГЕНРИХА
Стр. 442. Ваша страна — Соединенные Штаты Америки, где с 1940 г. до своей смерти жил Генрих Манн.
Стр. 443. …в которых говорил о приготовлениях к отъезду…— Генрих Манн скоропостижно скончался 12 марта 1950 г.; незадолго до смерти — 21 февраля — он послал писателю А. Цвейгу письмо, сообщив, что уже заказал билеты на пароход, который
681
должен был доставить его в Польшу. Из Польши Г. Манн намеревался проследовать на постоянное жительство в ГДР.
Фридрих Прусский — Фридрих II, в 1740—1786 гг. король Пруссии.
«Прием в свете» — вышел в 1950 г. (посмертно), «Дыхание» — в 1949 г.
Стр. 444. Санта-Моника — город в Калифорнии (США), где скончался Генрих Манн.
БЕРНАРД ШОУ
Стр. 445. Рихард Штраус (1864—1949) — немецкий композитор и дирижер.
Кнут Гамсун, который надломлен политикой… — После освобождения Норвегии от гитлеровской оккупации Кнут Гамсун, сотрудничавший с фашистами, был привлечен к ответственности и приговорен к конфискации имущества.
Стр. 446. Зигфрид Требич (1869—1956) — австрийский писатель, переводчик Шоу на немецкий язык.
Лондонский Independent Theatre (Независимый театр). — Первая пьеса Шоу «Дома вдовца» (1892) была написана по инициативе директора Независимого театра в Лондоне Д. Грейна. Для того же театра была написана вторая пьеса Шоу «Волокита» (1893).
…англо-кельте… — Б. Шоу был по национальности ирландцем. Ирландцы — народ кельтского происхождения.
Потрясающий копьем — Шекспир, фамилия которого составлена из английских слов shake — потрясать и speare — копье.
Стр. 448. Харли Гренвил Баркер (1877—1946) — английский драматург, актер и режиссер. Поставил ряд пьес Шоу и играл в них.
Стр. 449. Уильям Арчер (1856—1924) — английский драматург и критик. В 1885 г. Шоу написал в соавторстве с ним первоначальный вариант пьесы, превратившейся впоследствии в «Дома вдовца».
…дублинца… — Шоу родился и до 1876 г. жил в Дублине.
Генри Джордж (1839—1897) — американский публицист и мелкобуржуазный экономист, сторонник национализации земли при сохранении капиталистического строя.
Fabian Society (Фабианское общество) — английская реформистская организация. Шоу вступил в эту организацию в 1884 г. (год основания общества).
682
«Справочник о социализме и капитализме для интеллигентных женщин» (1928) — книга Шоу, излагающая теорию американского писателя-реформиста Э. Беллами (1850—1898).
Рамсей Макдональд (1866—1937) — английский реформист, один из основателей и лидеров лейбористской партии, в 1924 и 1929—1931 гг. — премьер-министр.
Стр. 450—451. …поэтический итог первой мировой войны… — Пьеса Шоу «Дом, в котором разбиваются сердца» появилась на сцене в 1917 г.
ЭРОТИКА МИКЕЛАНДЖЕЛО
Стр. 456. Ганс Мюлештейн (родился в 1887 г.[243]) — швейцарский писатель, историк культуры и переводчик.
Стр. 457. …он, видящий гибель республики и диктатуру Медичи… — Страх итальянской буржуазии перед народными движениями привел к тому, что с конца XIV и особенно в XV в. политический строй Флоренции из республиканского становится все более монархическим. Власть во Флоренции переходит в руки крупнейших банкиров — Медичи.
…позорно изгнала поэта… — В результате поражения партии, к которой примыкал Данте, поэт был вынужден покинуть Флоренцию (1302) и прожил в изгнании до конца жизни (1321)[244].
…вдали от покинутой им Германии… — Немецкий поэт Август Платен в 1826 г. покинул родину и до самой смерти (1835) жил в Италии. Причиной отъезда явилось непринятие публикой его сатирической комедии «Роковая вилка», направленной против широко распространенной в то время романтической «трагедии рока».
Неблагодарность … не тревожится о его существовании. — Папа римский Юлий II поручил Микеланджело построить для него грандиозную гробницу. Непонимание заказчиком гениальных замыслов Микеланджело привело к конфликту между ними, и в 1506 г. художник был вынужден бежать из Рима, спасаясь от папского гнева. Несколько месяцев спустя он, однако, вернулся в Рим, примирившись с папой.
Стр. 459. …человек, которому уже пора (близится 1546 год) вернуть земле больное бренное тело… — Микеланджело родился в 1475 г., умер в 1564.
Стр. 462. Виттория Колонна (1490—1547) — итальянская поэтесса, подруга Микеланджело, воспевшего ее в своих стихах.
683
Стр. 463. «Ночь» — аллегорическая фигура, которую Микеланджело изваял для саркофага Лоренцо Медичи в усыпальнице рода Медичи (Флоренция).
«Моисей»
— статуя, изваянная Микеланджело для гробницы папы
«Страшный суд» — фреска в Сикстинской капелле. Исполнена в 1534—1541 гг.
Стр. 463—464. …Виттория предается умерщвлению плоти в монастыре Витербо… — После смерти мужа, убитого на войне (1525), Виттория длительное время жила в различных монастырях (в частности, в монастыре св. Екатерины в Витербо), а в 1544 г., потеряв и приемного сына, постриглась в монахини.
Стр. 467. …сооружением купола Святого Петра… мы обязаны… — Возглавив в 1547 г. строительство собора Св. Петра в Риме, Микеланджело остановился на центрально-купольном варианте. Однако купол был сооружен уже после смерти художника под руководством его ученика Дж. делла Порта, который внес ряд изменений в ранее принятый проект.
ВОСПОМИНАНИЯ О МЮНХЕНСКОМ
ПРИДВОРНОМ ТЕАТРЕ
Стр. 468. Поссарт Эрнст (1841—1921) — немецкий актер и театральный деятель.
Стр. 469. Старый Луитпольд — Луитпольд-Карл-Иосиф-Вильгельм (1821—1912), с 1886 г. принц-регент Баварии.
«Банкротство» (1875) — пьеса норвежского драматурга Бьёрнстьерне Бьернсона (1859—1942).
«Madame Sans-Gêne» («Мадам Сан-Жен», 1893) — комедия французского драматурга Викторьена Сарду (1831—1908).
Шюлер, преемник Аккермана. — Аккерман и Шюлер — владельцы мюнхенских книготорговых фирм.
Рустан слуга Наполеона I, — персонаж комедии «Мадам Сан-Жен».
Стр. 471. Гойсер (настоящая фамилия
Гойсенштам) Карл (1842 1907), Кеплер, Вольмут, Зуске, Штури, Ремон —
немецкие актеры, игравшие в Мюнхене. Фамилия Кеплер упомянута, очевидно,
ошибочно: из известных актеров, носивших эту фамилию, в рассматриваемый период
никто в Мюнхене не играл (
Ганнеле — героиня пьесы Гауптмана «Путешествие Ганнеле на небеса» (1893).
684
ХУДОЖНИК И ОБЩЕСТВО
Стр. 483. Мишле Жюль (1798—1874) — французский историк, автор широко известной «Истории французской революции» (1847—1853).
Эдмунд Бёрк (1729—1797) — английский политический деятель и публицист; автор книги «Размышления о французской революции», отражающей его реакционные взгляды.
Фридрих фон Генц (1764—1832) — прусско-австрийский публицист и государственный деятель. От сочувствия французской революции перешел к поддержке взглядов Бёрка, а в дальнейшем стал рупором реакционной политики Меттерниха.
Стр. 484. Барон Нусинген — персонаж ряда романов Бальзака, парижский банкир.
Гладстон Уильям Уарт (1809—1898) — английский государственный деятель, лидер партии либералов. В 1868—1874, 1880—1885 и 1892—1894 гг. — премьер-министр.
Эзра Паунд (род. в 1885 г.[245]) — современный американский поэт-декадент. В годы второй мировой войны активно сотрудничал с итальянскими фашистами, за что был предан суду, но избежал наказания, будучи признан «невменяемым».
Стр. 486. Филипп Тойнби (род. в 1916 г.[246]) — современный английский писатель и журналист.
ГЕРХАРТ ГАУПТМАН
Стр, 490. Стефан Георге (1868—1933) — реакционный немецкий поэт, один из идеологических предшественников фашизма.
Рильке Райнер-Мариа[247] (1875 — 1926)—австрийский поэт-символист.
Стр. 492—493. …самый гордый из мужей … любимец богов… — герой драматической поэмы Гауптмана «Бедный Генрих» (1902), — рыцарь, заболевший проказой.
Стр. 494. «Тиль Уленшпигель» — «Приключения Тиля Уленшпигеля» (1928), — эпическая поэма Гауптмана.
Стр. 495. Атриды — в данном случае тетралогия Гауптмана из древнегреческой жизни («Ифигения в Дельфах», «Ифигения в Авлиде», «Смерть Агамемнона», «Электра» — 1941—1948).
Теннеси Вильямс — псевдоним современного американского драматурга Томаса Ланье (род. в 1914 г.[248]).
Стр. 496. «Зимняя баллада» (1917)—драматическая поэма Гауптмана.
«Соанский еретик» (1918) — новелла Гауптмана.
685
Стр. 497. «Великий сон» (1942—1943) — эпическая поэма Гауптмана.
«Остров великой матери» (1924) — роман Гауптмана.
Стр. 498. Пеперкорн — персонаж романа Томаса Манна «Волшебная гора».
НАШ ДРУГ ФЕЙХТВАНГЕР
Стр. 508. Верфель Франц (1890—1945) — австрийский писатель-антифашист.
Бруно Франк (1887—1945) — немецкий писатель-антифашист, друг Томаса Манна.
Альфред Нейман (1895—1952) — немецкий писатель-антифашист.
…вновь приняла к себе Европа… — В 1953 г. Томас Манн, в связи с усилением реакции в США, покинул эту страну и переехал в Швейцарию.
Стр. 510. Санари-сюр-мер — местечко на юге Франции, на берегу Средиземного моря.
Лугано — город в южной Швейцарии.
Рене Шикеле (1883—1940) — писатель-антифашист, уроженец Эльзаса.
Юлиус Мейер-Грэфе (1867—1935) — немецкий писатель и историк искусства.
Поль Валери (1871—1945) — реакционный[249] французский поэт, публицист и критик.
Стр. 511. Пасифик-Пэлисейдз — предместье Лос-Анжелоса.
СЛОВО О ЧЕХОВЕ
Стр. 520. Пальмин Лиодор Иванович (1841—1891) — русский демократический поэт.
Стр. 524. Long short story (англ., буквально: длинная новелла[250]) — так называется по-английски жанр повести, для обозначения которого в английском языке нет специального термина.
Стр. 538—539. …отказался от этого почетного звания. — Избрание Чехова в почетные академики имело место в 1900 г.; отказ его от этого звания — в 1902 г.
686
СЛОВО О ШИЛЛЕРЕ
Стр. 541. Молчал Колокол его объемлющей человеческую жизнь песни… — намек на произведение Шиллера «Песня о колоколе» (1799).
Стр. 543. Герцог — Карл-Август, герцог Саксен-Веймарский.
Стр. 546. Грандиозный замысел Деметриуса. — В 1804 г., незадолго до смерти, Шиллер начал писать историческую драму о Дмитрии Самозванце. Это произведение осталось незаконченным, фрагменты его были опубликованы посмертно в 1815 г. вместе с «Планом дальнейшего действия», который составил друг Шиллера — Кернер — по сохранившимся наброскам Шиллера.
Стр. 547. Герман Банг (1857—1912) — датский писатель и режиссер. Его «Эксцентрические новеллы» вышли в свет в 1885 г.
Стр. 548. Амалия, Текла. — Амалия фон Эдельрейх — персонаж драмы Шиллера «Разбойники»; Текла, принцесса Фридландская — персонаж драм Шиллера «Пикколомини» и «Смерть Валленштейна» (1799).
…во время подготовки «Эгмонта» для театра… — В 1796 г. Шиллер обработал для постановки в театре трагедию Гете «Эгмонт» (1788).
Стр. 549. Иффланд Август-Вильгельм (1759—1814) — немецкий драматург, актер и режиссер; с 1796 г. — директор Национального театра в Берлине.
Котта Иоганн-Фридрих фон (1764—1832) — немецкий книгоиздатель.
Стр. 550. Дальберг Вольфганг-Хериберт (1750—1806) — немецкий театральный деятель; в 1778—1803 гг. руководитель национального театра в Мангейме, на сцене которого были впервые поставлены «Разбойники» и «Заговор Фиеско».
Гуфелянд Кристоф-Вильгельм (1762—1836) — немецкий врач, лечивший, в частности, Шиллера; автор ряда научно-популярных работ по медицине.
Маттисон Фридрих (1761—1851) — немецкий поэт.
…«оказался, к своей досаде, зажатым между Ардингелло и Францем Моором»… — Ардингелло — герой романа Иоганна-Якоба-Вильгельма Хейнзе (1749—1803) — «Ардингелло и счастливые острова» (1787). Франц Моор — персонаж трагедии Шиллера «Разбойники».
Случайный совместный уход с заседания Общества испыта-
687
телей природы в Иене… — Личное знакомство Шиллера с Гете состоялось в 1794 г. в Иене, где в то время жил Шиллер.
Стр. 554. …сожаленья Гете о пяти годах, потраченных на теоретические и критические изысканья… — В 1791—1795 гг. Шиллер написал ряд трудов по истории, философии и эстетике, почти не занимаясь художественным творчеством.
Стр. 555. …воспел судьбу поэта-пришельца на земле, отданной Зевсом людям… — Имеется в виду стихотворение Шиллера «Раздел земли» (1795), где поэту, опоздавшему к разделу земли, Зевс открывает небеса.
«Majestas populi» («Величие народа», лат.) — одна из «Памяток» (1796) Шиллера.
Стр. 558. …питомец самодура герцога, возомнившего себя педагогом…— В 1772 г. герцог Карл-Евгений Вюртембергский — жестокий, распутный и расточительный деспот — создал «Академию Карла», которая готовила офицеров, юристов, медиков, живописцев и архитекторов. Герцог объявил себя «верховным ректором» этого учебного заведения. В том же году на медицинский факультет Академии был насильственно зачислен тринадцатилетний Шиллер.
Стр. 559. Шван Кристиан-Фридрих (1733—1815) — немецкий книгоиздатель, печатавший произведения Шиллера.
Стр. 561. …в трактате юного академика о связи между духовной и животной природой человека. — Имеется в виду «Опыт о связи между животной и духовной природой человека», опубликованный Шиллером в 1780 г.
Стр. 562. В Бауэрбахе, будучи гостем своей покровительницы госпожи фон Вольцоген… — Бауэрбах (близ Мейнингена) — поместье, принадлежавшее баронессе Генриетте фон Вольцоген — матери Вильгельма фон Вольцогена, товарища Шиллера по Академии. Шиллер жил в этом имении в 1782—1783 гг.
…возвратиться ко двору Филиппа II… — Действие «драматической поэмы» Шиллера «Дон Карлос, инфант испанский» происходит при дворе Филиппа II.
…крикливого Миллера… — учителя музыки Миллера, персонажа произведения Шиллера «Коварство и любовь».
Стр. 563. Мортимер — персонаж
трагедии Шиллера «
Стр. 564. Граф — Лерма, начальник королевской стражи, персонаж трагедии Шиллера «Дон Карлос».
688
«Te Deum» («Тебе, бога, хвалим», лат.) — христианский благодарственный гимн.
Вильденбрух Эрнст фон (1845—1909) — немецкий драматург.
Стр. 566. Веррина — персонаж трагедии Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе», участник республиканского заговора.
Стр. 568. Утраквисты — последователи умеренно-протестантского движении, к которому в начале XVII в. принадлежало большинство чешских дворян и богатых горожан.
У Рудольфа вооруженной силой сей драгоценный вырван маестат… — Рудольф II Габсбург — в 1576—1612 гг. император Германии и король Чехии, был представителем воинствующей католической реакции. Однако в результате выступления чешских дворян и горожан он был вынужден обнародовать «Грамоту величества» (1609), подтверждавшую все права, ранее завоеванные протестантами в Чехии. Маестат — латинское название упомянутой грамоты.
…и после Пражской битвы, когда наш чешский трон утратил Фридрих… а пергамент Фердинанд собственноручно изрезал. — 8 ноября 1620 г. войска католических государей разбили у Белой горы близ Праги соединенное чешско-пфальцское протестантское войско. После этого курфюрст Пфальцский Фридрих, избранный королем Чехии, бежал в Англию. Император Фердинанд II Габсбург аннулировал «Грамоту величества», восстановил в Чехии католичество, роздал земли местного дворянства немецким, итальянским и другим католикам.
Стр. 569. …они видят Пражский замок… граф Турн. — 23 мая 1618 г. восставшие чехи выбросили из окон Пражского королевского замка наместников императора — Ярослава Мартиницу (1582—1649) и Вилема Славату (1572—1652)[251]. Восставшие создали директорию во главе с графом Индржихом-Маттеем Турном (1580—1640).
Стр. 571. Абраам Санта Клара — католический богослов и проповедник (1644—1709).
Фридландское войско. — В 1625 г. Валленштейн получил титул герцога Фридландского. Поэтому его часто звали «Фридландцем».
Путает Сэни и Сезина… — Сэни — астролог, персонаж трагедии «Смерть Валленштейна». Сезин — упоминаемый в той же пьесе посредник в переговорах Валленштейна со шведами и саксонцами.
689
Стр. 574. …как ясно показало «Люценское дело». — 16 ноября 1632 г. в битве при Люцене Валленштейн потерпел поражение от шведских войск под командованием короля Густава-Адольфа. Однако сам Валленштейн остался невредим, а Густав-Адольф погиб в бою.
Стр. 575. Кеплер Иоганн (1571—1630) — немецкий астроном, внесший большой вклад в развитие подлинной науки, но не сумевший порвать с лженаукой — астрологией[252]. В 1628—1630 гг. состоял астрологом при Валленштейне[253].
…в первом астрологическом доме… — Астрологи разделяют небо на ряд частей («домов»), в которых, по их представлениям, имеют влияние определенные светила.
Стр. 576. …и, хотя рожден протестантом… — Валленштейн происходил из протестантской семьи, но, поступив на службу в войско Габсбургов, перешел в католичество (1606).
Стр. 577. Ранке Леопольд (1795—1886) — немецкий историк.
Стр. 579. …у отца, которого она знает один лишь день… — В трагедии Шиллера «Пикколомини» происходит встреча дочери Валленштейна Теклы с ее отцом, которого она не видела с раннего детства.
Стр. 580. …обоим итальянцам, отцу и сыну… — генералу Октавио и полковнику Максу Пикколомини, служащим в войске Валленштейна.
Стр. 581. …Елизавета после казни Марии.
— Елизавета — королева Англии;
Стр. 583. Констелляция — положение звезд на небосклоне.
Стр. 585. Питаваль Франсуа-Гайо де (1673—1743) — фран- цузский юрист, автор многотомного сочинения «Знаменитые и интересные дела», выходившего начиная с 1734 г. В дальнейшем название «Питаваль» давалось сборникам, в которых излагались нашумевшие судебные дела.
Стр. 588. В …критической статье о стихотворениях Бюргера…— Статья Шиллера «О стихотворениях Бюргера» (1791) отразила эволюцию взглядов ее автора; Шиллер стал критически относиться к идейно-художественным позициям движения «Бури и натиска», в котором прежде участвовал наряду с Бюргером[254].
Стр. 590. …карты Фирвальдштетского озера и окрестных кантонов… — По преданию, в этом районе в начале XIV в.
690
швейцарцы под руководством Вильгельма Телля восстали против австрийского ига.
…в девять месяцев, с мая по февраль, «Вильгельм Телль» был написан… — На самом деле Шиллер начал писать «Вильгельма Телля» 25 августа 1803 г. и закончил 18 февраля 1804 г.
Стр. 591. …сцену, где появляется Паррицида… — Во 2-м явлении 5-го действия «Вильгельма Телля» в доме Телля появляется под видом монаха Иоганн Паррицида, герцог Швабский. Паррицида поатыни означает «отцеубийца». Герцог Швабский — убийца своего дяди, императора.
Стр. 591—592. …Вальтер Фюрст… участники клятвы на Рютли… — Рютли — луг на берегу Урнского озера в Швейцарии. По преданию, в 1307 г. здесь собрались швейцарские патриоты во главе с Вальтером Фюрстом, Вернером Штауффахером и Арнольдом Мельхталем. Все они поклялись бороться за освобождение родины от австрийского ига.
Стр. 594. «Приветствие искусств» —
небольшая пьеса, написанная Шиллером по просьбе Гете в 1804 г. в честь
обручения наследного принца Веймарского Карла-Фридриха с русской великой
княжной Марией Павловной, сестрой
Стр. 598. «Талия» — литературный журнал, издававшийся Шиллером в 1785—1791 гг.
Стр. 601. Шарлотта фон Кальб (1761—1843) — немецкая писательница.
Стр. 602. …дочери издателя… — Маргарита Шван была дочерью издателя Швана.
Стр. 603. Зезенгейм — деревушка в Нижнем Эльзасе, где Гете познакомился с Фредерикой Брион.
Вецлар-на-Лане — город в Кобленце, где Гете познакомился с Лоттой Буфф — прообразом героини его романа «Страдания юного Вертера».
Лида — описка или опечатка. Очевидно, имеется в виду Лили Шенеман, с которой Гете был обручен в молодости.
Стр. 615. Письмо написано в 1789 году. — Адресатом этого письма от 25 февраля 1789 г. был Готфрид Кернер.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ1
произведений Томаса Манна, включенных в 1—10 тт. Собрания сочинений
Алчущие — 7: 186
«
Бернард Шоу — 10: 445
Бильзе и я — 9: 7
Блаженство сна — 9: 24
Будденброки — 1: 65
«В зеркале» — 9: 20
В пути — 9: 56
Введение к «Волшебной горе». Доклад для студентов Принстонского университета — 9: 153
«Вертер» Гете — 10: 233
Волшебная гора — 3: 7
Волшебная гора (окончание) — 4: 7
Воспитание чувства слова — 9: 480
Воспоминания о Мюнхенском придворном театре — 10: 468
Вступление к радиопостановке «Королевское высочество» — 9: 371
Вундеркинд — 7: 260
Германия и немцы — 10: 303
Герхарт Гауптман — 10: 488
Гете и Толстой. Фрагменты к проблеме гуманизма — 9: 487
Гете как представитель бюргерской эпохи — 10: 37
Gladius Dei — 7: 168
Детские игры — 9: 37
Доктор Фаустус — 5:7
Дорога на кладбище — 7: 114
Достоевский — но в меру — 10: 327
Железнодорожное злоключение — 7: 420
Закон — 8: 314
Заметки о романе «Избранник» — 9: 365
Избранник — 6: 7
692
«Иосиф и его братья». Доклад — 9: 172
Искусство романа — 10: 272
История создания «Доктора Фаустуса». Роман одного романа — 9: 199
Как дрались Яппе и До Эскобар — 7: 431
Королевское высочество — 2: 7
Культура и политика — 10: 288
Лотта в Веймаре — 2: 363
Луизхен — 7: 86
Любек как форма духовной жизни — 9: 69
Маленький господин Фридеман — 7: 14
Марио и волшебник — 8: 168
Наш друг Фейхтвангер — 10: 508
Непорядки и раннее горе — 8: 128
Нобелевскому комитету по присуждению премий мира. Осло — 10: 229
О духе медицины. Открытое письмо издателю «Немецкого медицинского еженедельника» — 9: 45
Об одной главе из «Будденброков» — 9: 192
Об учении Шпенглера — 9: 610
Обманутая — 8: 383
Обмененные головы — 8: 223
Опыт о театре — 9: 379
Очерк моей жизни — 9: 93
Памяти Лессиига — 10: 7
Памятное слово о Максе Рейнгардте — 10: 297
Паяц — 7: 41
Переписка с Бонном — 9: 144
Песнь о ребенке — 8: 95
Письмо по поводу кончины моего брата Генриха — 10: 442
Платяной шкаф — 7: 104
По поводу «Королевского высочества» — 9: 31
По поводу «Песни о ребенке» — 9: 40
Предисловие к папке с рисунками — 9: 42
Прекрасная книга — 9: 607
Признания авантюриста Феликса Круля — 6: 267
Прощальные письма европейских борцов сопротивления — 10: 500
Путешествие по морю с Дон Кихотом — 10: 174
Путь Гете как писателя — 10: 73
Разочарование — 7: 7
Речь о театре. (К открытию Гейдельбергского фестиваля) — 9: 628
Речь, произнесенная на банкете в день пятидесятилетия — 9: 52
Слово о Готфриде Келлере — 9: 478
Слово о Чехове — 10: 514
Слово о Шиллере — 10: 541
Смерть в Венеции — 7: 448
Старик Фонтане — 9: 422
Статьи — 10: 5
Страдания и величие Рихарда Вагнера — 10: 102
Счастье — 7: 271
693
Теодор Шторм — 10: 14
Тобиас Миндерникель — 7: 76
Толстой (К столетию со дня рождения) — 9: 620
Тонио Крёгер — 7: 194
Тристан — 7: 123
Тяжелый час — 7: 411
У пророка — 7: 284
Фантазия о Гете — 10: 392
Философия Ницше в свете нашего опыта — 10: 346
Фьоренца — 7: 294
Хозяин и собака — 8: 7
Художник и общество — 10: 473
Шамиссо — 9: 451
Эротика Микеланджело — 10: 456
СОДЕРЖАНИЕ
СТАТЬИ
Памяти Лессинга. Перевод
Е. Эткинда 7
Теодор Шторм. Перевод Е.
Эткинда 14
Гете как представитель
бюргерской эпохи. Перевод Л. Виндт 37
Путь Гете как писателя. Перевод
Л. Виндт 73
Страдания и величие Рихарда
Вагнера. Перевод А. Кулишер 102
Путешествие по морю с Дон
Кихотом. Перевод A. Кулишер 174
Нобелевскому комитету по
присуждению премий мира. Осло. Перевод Е. Пуриц 229
«Вертер» Гете. Перевод Н.
Касаткиной[255] 233
«
Искусство романа. Перевод Е.
Эткинда 272
Культура и политика. Перевод
Е. Эткинда 288
Памятное слово о Максе
Рейнгардте. Перевод B. Вишняка 297
Германия и немцы. Перевод Е.
Эткинда 303
Достоевский — но в меру.
Перевод Е. Эткинда 327
Философия Ницше в свете
нашего опыта. Перевод П. Глазовой 346
Фантазия о Гете. Перевод Е.
Эткинда 392
Август Стриндберг. Перевод Ф.
Зайбеля 438
Письмо по поводу кончины моего
брата Генриха. Перевод Е, Эткинда 442
695
Бернард Шоу. Перевод Ф.
Зайбеля 445
Эротика Микеланджело. Перевод
Е. Эткинда 456
Воспоминания о Мюнхенском
придворном театре. Перевод Т. Исаевой 468
Художник и общество. Перевод
Г. Бергельсона 473
Герхарт Гауптман. Перевод К.
Богатырева 488
Прощальные письма европейских
борцов Сопротивления. Перевод Г. Бергельсона 500
Наш друг Фейхтвангер. Перевод
Г. Бергельсона 508
Слово о Чехове. Перевод Л.
Рудной 514
Слово о Шиллере. Перевод В.
Топер 541
Н. Вильмонт. Художник как
критик 621
Примечания 661
Алфавитный указатель 692
Томас Манн
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, ТОМ 10
Редактор В. Смирнов
Художеств, редактор Д.
Ермоленко
Технический редактор В.
Овсеенко
Корректор Л.
Чиркунова
——————————————————————————
Сдано в набор 12-VIII 1960 г. Подписано
к печати 17/XI 1960 г.
Бумага 81×1081/32, —21,75 печ.
л. = 35,67 усл. печ. л. 33,813 уч.-изд. л.
Тираж 137 000 экз. Заказ
№ 1691. Цена 1 р. 15. к.
——————————————————————————
Гослитиздат. Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19
——————————————————————————
Типография № 2 им. Евг. Соколовой УПП Ленсовнархоза.
Ленинград, Измайловский пр., 29.
